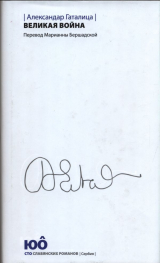
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
Однако не всем генералам были суждены минуты покоя. Австрийский генерал Оскар Потиорек после поражения под Цером перегруппировал разбитые части. Несколько дней на Сербском фронте царила неразбериха. Разгневанные сербы перешли взбаламученную Саву и на несколько дней заняли пространство между нею и Дунаем в южном Среме, сжигая посевы и поля по берегам. В Земуне стоял невыносимый смрад, а военные и штатские передвигались с платками на лицах. В течение этих дней произошли взлет и падение Тибора Вереша, того самого столичного журналиста, специализировавшегося на оскорбительных письмах.
Вереш прибыл в Земун весьма довольный собой, а теперь едва сдерживал злость. Его непослушная ручка с синими чернилами в утробе прибыла в Земун, злясь на то, что цензор ею больше не пишет, а послушная, с черными чернилами, была горда собой, поскольку теперь он пользуется исключительно ею.
Между тем Вереш с первого дня выполнял скучную работу цензора, и было непонятно, чем же столь гордится ручка с черными чернилами. Так же как у золотоискателя, у него на сотню прочитанных писем приходилось только одно, заслуживающее внимания. Один солдат писал матери, что ему холодно и очень не хватает ее кукурузного хлеба. Другой жаловался, что уже четырнадцать дней не может по-настоящему выспаться и что на войне самое плохое не пули, не рукопашная, а отсутствие сна. (Это не совсем пустячная информация, но начальству и так известная.) Третий писал девушке, что когда людей убивают, то они издают не человеческие звуки, а хрипят и кашляют, как скотина, в которой никогда не было ничего человеческого. (Он отметил это как пример упадка духа сербских военных!)
Уже на второй день пребывания в Земуне синей ручке Тибора стало скучно. Черная ручка, хотя Тибор и писал ею весь день, очень скоро тоже заскучала.
Между тем жизнь в Земуне за эти пять дней сделалась для Тибора интересной. Столичного цензора определили на постой к одной старой сербке, которая раньше вместе с дочерью содержала пансион на берегу Дуная. Над домом в нижней части Гардоша теперь висел большой флаг Двуединой монархии, которым мать и дочка гордились, поскольку сшили его сами. Тибору было хорошо в бывшем пансионе. Ему казалось, что на него, пусть даже мелкого и безбородого, оценивающе посматривает дочка, подавая скудный завтрак и заговаривая с ним на плохом венгерском. Как только он стал думать, что Великая война может оказаться для него удачной, что, вероятно, он даже женится в Земуне, началась его маленькая личная война, завершившаяся для него фатально. А все началось с пустяковой проблемы – так бывает, когда совершенно белый на вид зуб, внутри весь пораженный кариесом, в первый раз отреагирует на холод.
На третий день пребывания в Земуне черная ручка Вереша все чаще стала отказывать ему в послушании. Снова обнаружилось, что цензор пишет одно, а на бумаге возникает другое. Он хотел сообщить о том, что в одном письме солдат сомневается в способности сербской армии прийти в себя после Церского сражения, а оказалось, что его собственным почерком, послушными до сих пор черными чернилами написано, что перспективы быстрого возвращения сербской армии в боевое состояние являются весьма оправданными. С этой проблемой он встретился еще в редакции «Пештер Ллойд», поэтому и теперь повел борьбу с ручками и бумагой так, словно они были его единственными врагами. Уже почти возведенную в наивысший ранг новую ручку с черными чернилами, ставшую вдруг непокорной, он решил наказать и вернуться к старой, той, что еще в Пеште показала свой строптивый норов. Непослушная пештская ручка стала послушной земунской, однако ранее послушная пештская ручка и не думала отступать, наоборот, она стала мстить в соответствии с черным цветом чернил, которые носила в себе как кровь.
Однако Вереш сначала ничего не заметил. Весь четвертый день своей отважной воинской службы он писал точно то, что и хотел – синими чернилами, но ручка с черными чернилами в первый раз проявила свою мстительную натуру тем, что украдкой пролила все чернила в сумку. Вереш обругал ее и решил больше не носить с собой в большое здание ратуши, где занимался своей цензорской работой. Пустую ручку с запачканным пером он оставил на ночном столике. Начался его пятый день в Земуне.
Вереш и в пятый день работал очень напряженно.
Черная ручка целый день ожидала мщения.
На следующую ночь должно было случиться то, что готовилось. Когда цензор после девяти вечера возвратился с работы и, провожаемый любопытными взглядами сербок, без ужина отправился спать, ручка в полной боевой готовности ожидала его на прикроватном столике. Тибор умылся из фарфорового таза и заснул, от усталости издавая громкие стоны. Он ничего не видел во сне в эту пятую ночь в Земуне, и только перед рассветом резко повернулся, как будто что-то ударило его в спину. Он коротко схватился за грудь, в горле у него вдруг заклокотало, и он вытянулся. Свидетелей его смерти не было.
Для Тибора Вереша Великая война закончилась, когда заботливые мать и дочь нашли его с вонзившейся в грудь ручкой. Коварный инструмент каким-то образом пришел в движение и, как покинутая любовница, отомстил предателю, убив его последним уколом и при этом сломав себе хребет, то есть перо. Никто из следователей даже и подумать не смел, что добропорядочный цензор смог совершить самоубийство, тем более таким театральным способом. У матери и дочери возникли большие проблемы, но их спасла венгерская кровь по материнской линии и связи в Пеште, сразу же использованные для того, чтобы не пострадать из-за убийства венгерского младшего унтер-офицера. После пяти дней и пяти ночей воинской службы Вереш был с минимальными воинскими почестями похоронен чуть повыше пансиона, на земунском кладбище под башней Янко Сибинянина. Лишнего времени для похорон и не было, потому что на следующий день, после трехдневного наступления сербских войск, Земун пал. Новая армия тут же начала допрашивать население сербских домов, и смерть Вереша оказалась даже полезной для матери и дочери с Гардоша, которые теперь утверждали, что с большим трудом вытерпели пребывание венгерского шпиона целых пять дней, а потом ликвидировали его… Сербы воздали им почести только на словах, на большее в течение этих четырех дней существования сербского Земуна в 1914 году времени у них не было.
Для торжественных речей и вручения орденов не было времени и в окрестностях Парижа. После падения Брюсселя и Антверпена Первая армия Клюка и Вторая – Бюлова без труда вторглись на север Франции. Армии кайзера заняли Седан и Сен-Кантен и быстро продвигались к Парижу. На улицах «Города света» было введено затемнение. Однажды утром на площадях появился манифест. Генерал Галлиени, военный комендант Парижа, предупреждал о возможной осаде и призывал жителей эвакуироваться, но город опустел еще до того. Все, кто не видел войны и не собирался нюхать порох, уже уехали: в Америку, как Жорж Брак и художники-кубисты, на Лазурный берег, как предпочло мелкое дворянство и лишившиеся наследства графы, в Латинскую Америку, Испанию или Лондон, как многие иностранцы, до 1 сентября 1914 года считавшие Париж своим городом. Сообщение о возможной осаде Парижа превратило обычное бегство в массовый исход.
Полиция отдавала новые приказы: все общественные места должны быть закрыты после девяти. Город перестал быть похожим на веселую столицу богемы и авантюристов. В одно сентябрьское утро студент Станислав Виткевич вскочил с постели и помчался на террасу отельчика «Скриб», откуда доносился страшный шум. Звуки мощных моторов летели с бульвара Осман, откуда непрерывный поток автомобилей перебрасывал войска на север. В этой уродливой колонне были премиальные модели, украшенные французскими флажками, спортивные авто, наскоро переделанные и забронированные, грузовики, реквизированные с виноградников, – и все они спешили на север. В ужасе от увиденного, молодой человек вскрикнул. Для Станислава Виткевича Великая война началась, когда он подумал, что войска, которые должны оборонять Париж, спасаются бегством и генерал Галлиени, по сути дела, сдает город пруссакам. Почему же молодой человек оказался на террасе бедного отельчика именно в это время?
Почему не был вместе с воинскими частями на севере или с самодовольными трусами-художниками на юге страны? На север он не попал потому, что на отборочной комиссии его не приняли в Иностранный легион из-за шумов в сердце; на юге он не оказался потому, что как всякий поляк был нерешительным, а кроме того, хотел помочь своей новой родине – Франции. Он воображал себя в роли оперирующего врача, представлял, как ведет санитарную машину только одной рукой, потому что вторая у него ампутирована после героического подвига, и этими выдуманными картинками он жил весь август 1914 года, пока кое-как зарабатывал себе на пропитание, моя посуду в «Ротонде» и доедая остатки с тарелок.
Теперь, показалось ему, наступил конец. Париж был покинут, и у него больше не оставалось знакомых. Улица де ля Пэ, где до войны можно было увидеть представителей всех народов мира, уже на следующий день опустела. Тишина, призрачная тишина: ни грохота омнибусов, ни автомобильных гудков, ни топота копыт. Большинство ресторанов было закрыто, а на улицах кружились лохмотья одежды, скомканная жирная бумага, не представлявшая интереса даже для бродячих псов, и газеты, в которых еще писали о больших успехах генерала Жоффра в Эльзасе и Лорене… Потом он почувствовал голод. Сытый человек – сказал он себе – выбирает какую-то маску из набора, который мы называем жизнью, а у несытого это всегда маска голода… Необходимо было что-то предпринять. Во всех магазинах были опущены металлические рулонные жалюзи, которые было очень опасно ломать днем. Поэтому Станислав решил использовать комендантский час. В рейд по покинутым квартирам он отправился в девять часов вечера, когда сирены обозначили запрет передвижения и появление на улицах патрулей. Он пробирался переулками и обходил патрульных стороной. На площади Оперы он вломился в двери одного из домов и быстро поднялся по ступенькам наверх. Из ночи в ночь он учился по размерам входной двери квартиры или блеску латунной дверной ручки определять, где осталось больше еды.
Потом он ел из чужих тарелок, почти так же, как в кафе «Ротонда». Взламывал квартиры видных горожан и находил то, что оставалось после их бегства. Вкус плесени во рту и скисшее красное вино его не смущали. Нужно было что-то есть и пить, а Станислав, как обладатель хороших манер, каждую ночь в новой квартире накрывал стол, отыскивал хозяйский халат с инициалами на верхнем кармане, зажигал свечи и садился под портретом бывшего владельца. А потом ел крохи с чужого стола. Гусиные паштеты и раки, с помощью которых пытался прибавить в весе поэт Жан Кокто, уже не годились, но копченое мясо, консервы и твердые сыры были очень вкусными даже в те дни, когда Париж выключал уличные фонари и освещение при входе в метро.
В одну из ночей он нацелился на прекрасную квартиру, занимавшую весь второй этаж гордого здания на краю парка Тюильри, но и подумать не мог, что там кроме еды, одежды, медных подсвечников и некоторой порции романтики, которую он обычно себе устраивал, он найдет и женщину всей своей жизни. Едва он уселся за стол, как услышал какое-то шуршание. Он предположил, что это крысы, не покинувшие, как и он, Парижа, но ошибся. Только он отправил в рот первый кусок, как из спальни в неверном свете сначала блеснул ствол пистолета, а следом появилась испуганная девушка в ночной рубашке. Она спросила: «Что это вы делаете?» – на что Станислав, продолжая жадно есть, дал простой ответ: «Ужинаю». – «А почему вы ужинаете здесь?» – «Здесь я нашел еду, а теперь и вас», – добавил Станислав и жестом предложил ей сесть за стол.
Девушка села рядом с ним. Она сказала ему, что из-за болезни не смогла покинуть Париж и что если он съест запасы, оставленные ей хозяевами квартиры, у которых она служила, то ей придется голодать. Вначале Станислав ее успокаивал, а потом обнял. Сначала они дружно подъели запасы, оставленные хозяевами, а затем воришка, как настоящий мужчина, решил добывать еду и для себя, и для своей компаньонки. Каждую ночь он приходил в квартиру в конце парка Тюильри с тем, что удалось найти за вечер. Вначале они вместе ели, потом рассказывали друг другу о своих жалких жизнях, в конце – целовались. Эта любовь не была похожа на парижские романы на сцене «Комеди Франсез». У нее был привкус нищеты, и она обладала еще одной приправой: запахом болезни.
Девушка таяла, тяжело кашляла и постоянно меняла окровавленные платочки. Но она очень хотела жить. После обеда она раздевалась перед Станиславом, а он, обольщая ее, стоял перед ней обнаженным. У любовницы были черные тени под глазами, тощая обвисшая грудь и тонкие длинные ноги, на которых мышцы едва прикрывали кости. Однако шла Великая война, и Станиславу казалось, что он и она – последние люди на свете.
И эти последние люди занимались любовью. Они поворачивались, ворчали, кашляли, смешивали запахи пота и других не очень приятных телесных выделений, но им было очень хорошо. Их связь продолжалась уже целую неделю, и оба знали, что она будет недолгой, но церемонии должны были быть соблюдены. В девять, под звуки сирены, Станислав выбегал из отельчика «Скриб», бросаясь в ночь, в полицейский час. Взламывал квартиры, как профессиональный вор, находил еду и спешил к парку Тюильри. В полночь любимая ждала его на улице Риволи в доме № 47, в небрежно распахнутом шелковом платье, с ребрами, выпирающими из-под грудей, обольстительная, как рыба на суше. Когда они садились за стол, повсюду пахло кровью. Утолив голод единственный раз за весь день, они перебирались на батистовые простыни, с которых больше не смывали следы крови…
На четвертый день, после нескольких безумных совокуплений, Станислав сказал девушке, что никогда ни одна женщина не удовлетворяла его так, как она. На пятый день он заявил, что никогда ее не покинет. На шестой день Станислав Виткевич пообещал ей, что сделает из нее госпожу Виткевич, когда закончится эта страшная война, но, произнося эти два слова – «госпожа Виткевич», – он знал, что лжет. Госпожа Виткевич с уверенностью сказала, что вылечится от чахотки, как только закончится война, и для нее найдется лучший уход и немного южного материнского солнца; она надеялась, что это произойдет уже нынешней зимой. Произнося эти два слова – «нынешней зимой», – она и сама знала, что лжет…
Конец этой любви наступил 13 сентября 1914 года, в тот день, когда мальчишки-разносчики снова стали продавать газеты на парижских улицах с криками: «Grande bataille sur la Marne. La garnison de Paris, transporte au front par Gallieni, enfonce de 1’ ennemi. L’ armee de von Kluck en retraite»[8]8
«Большое сражение на Марне. Парижский гарнизон, переданный под командование Галлиени, переброшен на фронт и нанес удар по врагу. Армия Клюка отступает» (фр.).
[Закрыть].
Это была первая большая победа союзников на Западном фронте. Использовав большой разрыв между армиями Клюка и Бюлова, генерал Жоффр предпринял рискованный маневр, разделив силы союзников на три части. Левое и правое крыло представляли французские части, а в центре, южнее кровавой реки Марны, находился британский экспедиционный корпус. Британцы проникли в брешь немецкого фронта, и немцам пришлось отступать. С победой начала возвращаться жизнь.
Первый патруль, обходивший парижские квартиры, в которые должны были вернуться хозяева, застал господина и госпожу Виткевич в кровати, оба были забрызганы кровью. На первый взгляд это было похоже на одно из ритуальных самоубийств брачных пар, но потом обнаружилось, что бесстыдно голая женщина мертва, а непристойно голый мужчина – жив. Придя в себя, Станислав узнал, что стал «вдовцом» и что его обвиняют в убийстве «госпожи Виткевич». Ему предложили или согласиться с немедленной мобилизацией в Иностранный легион, или быть расстрелянным. Он выбрал первое. Сейчас его никто не спрашивал, есть ли у него шумы в сердце, и он сразу же был отправлен на пополнение недавно сформированной Девятой французской армии.
Видные жители Парижа вернулись в свои квартиры. Многие не заметили пропажу продуктов и украшений, которые Станислав воровал для своей возлюбленной. Владельцы квартиры на улице Риволи ужаснулись тому, что в их постели умерла «эта девушка», их служанка. Они не знали, что прислуга нашла любовь всей своей жизни и даже в свою последнюю ночь стала «госпожой Виткевич», но поспешили приобрести новую кровать и педантично очистили стены. Впрочем, и другие делали уборку в своих квартирах и домах, но вид Парижа с улицы совершенно отличался от Парижа, увиденного с неба. А именно такой Париж очень внимательно, почти каждую ночь, рассматривал один немецкий пилот цеппелина. Немцы после битвы на Марне отступили на линию между Реймсом и кровавой – в будущем – рекой Эной, но продолжали мстительно бомбить французскую столицу с цеппелинов.
Эти первые пилоты-бомбардиры, одним из которых был и Фриц Крупп, в прошлом художник, являлись отважными и склонными к авантюрам летчиками. Бомбы загружались в цеппелин одна на другую. В состав экипажа входили пилот, пулеметчик и бомбардир. Последний, ничем не защищенный, над Парижем спускался в гондолу под основным корпусом. Ветры над Сеной трепали его волосы, пока он вкручивал взрыватели и голыми руками переваливал тридцатикилограммовые бомбы через оградку гондолы, сбрасывая их на парижские крыши. Каждый раз, когда бомба падала, цеппелин наклонялся, пилот добавлял газу, и огонь вместе с черным дымом оставались позади. Только немногие снаряды тявкали рядом, выбрасывая в воздух облачка дыма, артиллерия еще не научилась поднимать стволы пушек высоко в небо, и неповоротливый аэростат, наполненный тридцатью двумя тысячами кубометров гелия, был похож на неуклюжее животное, царствующее над высотой.
Для летчика Фрица Круппа Великая война началась тогда, когда он понял, что всегда ненавидел Париж, даже до войны, когда еще думал, что любит его. Крупп был начинающим живописцем, он обучался в художественном классе Гюстава Моро еще тогда, в девятнадцатом столетии, где он как художник и намеревался остаться. Крупп не одобрял ничего из того, что происходило в живописи после 1900 года. Он поселился в Париже, с его полотен дышала гармония Энгра. Однако его однокашники Андре Дерен и Поль Сезанн думали иначе, уже с 1903 года они писали красками «как дикие звери». А был еще и Пикассо вместе с целой оравой голодных и дерзких художников, одетых в блузы с синими воротничками.
В 1908 году и Фриц написал несколько полотен «а-ля Сиприано Руис де Пикассо», выполнил и несколько картин в манере Сезанна, и ему казалось, что при желании смог бы превзойти их обоих, создать кое-что получше их мазни, в которой нет ни композиции, ни пропорций, ни гармонии. А те, вопреки всему, были дерзкими и, казалось, вовсе его не замечали. Они стали мешать ему на каждом шагу: в галерее Лафайет, на бульваре Вольтера, пока он, страхуясь от сифилиса, наследовал их проституток. Но, вопреки всему, Париж он не покинул. Со временем он стал человеком-тенью, присутствуя у тех же галеристов, в тех же кафе, но никогда за одним столом. Когда Пикассо вместе с поэтом Максом Жакобом поселился в маленькой вшивой квартирке на бульваре Клиши, он нашел похожую (с клопами вместо вшей) неподалеку, на одной из крутых улиц под базиликой Сакре-Кёр; когда Пикассо переселился на улицу Равиньян, в известное здание «Бато-Лавуар», Фриц оказался бок о бок с ним, внезапно ощутив потребность переселиться на Монмартр чуть повыше; когда Пикассо перебрался через Сену и переселился на Монпарнас, Фриц тоже как-то незаметно решил сменить местожительство и оказаться поближе к тем ателье, что находились недалеко от бойни на улице Вожирар.
Чего он только не насмотрелся на Монпарнасе! Павильоны горделивой Всемирной выставки 1900 года были превращены в печальные места скопления сотен «гениальных художников» с Востока. В эти бараки прибывали полные наивного оптимизма итальянцы с гитарами и песнями на устах, погруженные в свои мысли ближневосточные евреи, поляки, склонные к слезам в пьяном состоянии, бельгийцы со взглядами неисправимых провинциалов – все они казались Фрицу почти отвратительными. А почему он нашел квартиру на улице Вожирар, он и сам не мог объяснить, поскольку даже себе не смел признаться, что подражает Пикассо.
Когда началась Великая война, Фриц был мобилизован в боевую часть Люфтваффе и прошел курс бомбардира цеппелина. Наконец он дождался дня, когда его послали на Париж, но старший унтер-офицер Крупп приводил свой экипаж в замешательство. Они отправлялись на боевые вылеты каждую третью ночь, а поскольку бомбардир имел лучший обзор и верное представление о целях и огне с земли, к тому же рисковал своей головой, экипаж был вынужден слушать его команды и принимать его выбор целей. Согласно приказу авиационного командования, надо было следовать вдоль течения Сены и сбросить бомбы на муниципалитет, правительственные здания и Дом инвалидов. Правда, в приказе говорилось, что в случае вражеского огня и неблагоприятного ветра груз – в порядке исключения – можно сбросить и на другие цели.
Именно этим и пользовался Фриц, направляя свой цеппелин LZ-37 на тактически странные цели. Сперва он требовал, чтобы цеппелин летел к Монмартру, и здесь он из ночи в ночь бомбил бульвар Клиши, крутую мостовую около Сакре-Кёр и улицу Лафайет, где не было никаких важных целей. Однако здесь были цели, важные для плохого художника Фрица Круппа. На бульваре Клиши в 1901 году Пикассо уступил комнату его земляк Маняк. Спустя два года автор непристойного полотна «Авиньонские девицы» (это мнение Круппа о картине, которую он знал под названием «Бордель») переселился на бульвар Вольтера и, наконец, в 1904 году обосновался по наиболее известному адресу на улице Равиньон в доме «Бато-Лавуар». Именно это здание, совсем не интересное для немецкого командования (но не для истории искусства модернизма), бомбардир и стремился найти и разрушить собственными руками.
Ему казалось, что в этом 1914 году наконец-то пришел час расплаты и с красками на картинах его однокашников Сезанна и Дерена, и с непристойными фрагментами на картинах Пикассо, и с неуместной болтовней, поднятой вокруг голоштанных мазил с Востока. Париж был в его руках! Вся ночь принадлежала ему! В «Бато-Лавуар» нужно было только хорошенько прицелиться. Но не так-то легко найти и разрушить обычную трехэтажную развалюху на крутом склоне Монмартра, тем более что вокруг этого холма все время дули сильные ветры. Поэтому он часто невольно соглашался с тем, что его цеппелин поворачивал на юг. Куда? Конечно, к Монпарнасу. Попутно Фриц сбрасывал бомбы на правительственные здания у Сены, но только для того, чтобы было о чем доложить командованию, а потом он требовал, чтобы цеппелин LZ-37 продолжал следовать на юг. «На Монмартр!» – кричал он в гондоле. Здесь Фриц безжалостно засыпал бомбами колонию художников «Улей», улицу Майне, где находились студии беспризорных профессоров живописи, и колонию «Flagije», где писал картины Модильяни.
Во что из перечисленного он сумел попасть, это уже другое дело. Чаще всего бомбы падали в кусты между домами, но сверху, с неба, для Фрица все выглядело иначе. Каждую ночь ему казалось, что он наступил на хвост модернистской живописи с ее развратными прибежищами, поэтому он возвращался на свой аэродром у города Ля-Фер довольным и строчил летные донесения, в которых описывал большие потери противника, на самом деле не существовавшие… Так думал художник-бомбардир, считая, что он славно воюет. Но он был не единственным, кто неправильно оценивал результат своих боевых действий. И русские генералы на Восточном фронте после первых побед в Восточной Пруссии подумали, что дела обстоят очень хорошо и пришло время раздуть старые ссоры начала века. Это использовала немецкая сторона. После первых поражений был смещен генерал Притвиц, а к более молодому генералу Людендорфу отправился на помощь Гинденбург, который был намного старше. Два генерала, изменившие ход войны на Восточном фронте, первый раз встретились на вокзале Ганновера. Оттуда они сразу же отправились на фронт. Они ловили подходящий момент для военного реванша и поймали его.
Немецкое наступление стало возможным благодаря личным трениям между русскими генералами. За несколько лет до войны командующий Второй русской армией Самсонов открыто критиковал командующего Первой армией Ренненкампфа, и еще тогда между ними вспыхнула ссора. Когда в 1914 году между двумя русскими армиями образовался разрыв, Ренненкампф не спешил занять пустые высоты и холмы Восточной Пруссии. Когда он понял подлинные намерения немцев, было уже поздно, и он не смог помочь Второй армии Самсонова. Он приказал двинуть войска, но 30 августа 1914 года они были еще в семидесяти километрах от Танненберга, застряв у Кенигсберга, где спал вечным сном Иммануил Кант. Немцам было легче: их опорой была разветвленная железнодорожная сеть, а русские использовали гужевой транспорт.
После перелома под Танненбергом, как в шахматной партии, логически последовало поражение русских войск у Мазурских озер, поэтому в санитарный поезд «В. М. Пуришкевич» раненых прибывало больше, чем там могли принять и прооперировать. Случалось, что состав стоял на открытом перегоне под защитой лишь одного сопровождающего бронепоезда с двумя зенитными площадками. А уже во второй половине сентября немцы на востоке Пруссии стали использовать свои пугающе быстрые двухместные самолеты «Aviatik D.I». Один такой налет Лиза хорошо запомнила. В поезде объявили тревогу, и она вместе со способными передвигаться ранеными перебралась под вагоны на рельсы, но посреди налета вдруг услышала, что раненый, находящийся под ближайшим деревом, зовет на помощь. Она не подумала об оставленной в Петрограде Марусе, когда рванулась к этому парню. Ее растрепанные медно-красные волосы испачкались землей, глаза пылали гневом. Она ругалась и грозила кулаками немецким самолетам. «Проклятый шваб, проклятый шваб!» – во весь голос кричала она, пока ползла, чтобы придать себе храбрости. Она оттащила раненого назад руками и зубами. Самолет вел огонь «чемоданами» – пулями крупного калибра, но на сей раз этот «багаж» в них не попал. Ее рот был полон глины, а вся одежда разорвана, когда она наконец добралась до спасительной тени между колесами вагона…
Два дня спустя генерал Самсонов вручил ей Георгиевский крест. Лизочка надела самую чистую форменную одежду, которую нашла: серую юбку, белую блузку и косынку с большим знаком красного креста. Орден был очень к лицу этой красавице с волосами цвета меди, муж вместе с коллегами-врачами улыбался, а раненые подарили ей сувенир для дочки Маруси: железные ложечки, сделанные из еще горячих осколков, и кусочек «чемодана». Вот только одно никуда не годилось. Елизавета Николаевна Честухина не нашла ни одного белого передника, не запачканного кровью…
Но не все сразу увидели кровь в такой непосредственной близости, как Лизочка. В Бельгии в эти октябрьские дни было особенно торжественно. Двадцатого октября праздновали день рождения кайзера. Каждое здание было украшено флагами, по небу, словно большие облака, плыли цеппелины, когда кайзер в сопровождении престолонаследника и старших генералов появился в Антверпене. Молодой принц Фридрих Вильгельм III выглядел как денди. Он прибыл в открытом автомобиле, сидя рядом с водителем в каске слегка набекрень. Казалось, он еще не знает, что такое война, и за ужином был весьма разговорчив.
И Жан Кокто, этот дистрофик, наевшийся охотничьей дроби, чтобы пройти осмотр на призывном пункте, тоже еще не успел узнать, что такое война. Откровенно говоря, он попал именно в такое место, куда и хотел. Вначале его отправили в авиационный полк под командованием Этьена де Бомона под Безье. Война казалась прекрасной. Он находился в окрестностях Безье и был очень доволен, потому что полюбил это местечко и свой военный распорядок. Ему было неважно, что утром его разбудил грохот канонады. В этот понедельник он писал: «Нет пейзажа более величественного, чем голубое небо с разрывами шрапнели около аэроплана». Он записал эту мысль и немного поразмышлял о том, не заменить ли это устаревшее слово «аэроплан» на более современное «самолет» или романтическое «цеппелин». Оставил слово «аэроплан» и решил подстричь ногти. «Если бы у меня была возлюбленная, – подумал он, – можно было бы послать ей трогательное прощальное письмо, а в нем – десять отрезанных ногтей…» Не послать ли их Пикассо? Нет, это было бы слишком театрально и он не понял бы этого как надо. Да и куда посылать? Пикассо больше нет на Монпарнасе. Одни говорили, что он в Испании, другие – что он якобы ищет свои корни на берегу Лигурийского моря, в местечке Сори, откуда, по слухам, была родом его мать. Третьи клялись, что он проводит время в Каннах, на солнечном берегу Средиземного моря, пахнущего розмарином и лавром, но только не войной.
В этот день подстригал ногти и Джока Велькович. Ему еще не сказали, когда его выпишут из больницы, а он уже мечтал присоединиться к вооруженным силам Сербии, ожидавшим нового вражеского наступления, как неизбежного нашествия саранчи. Врачи между тем его не выписали. Температура у него все еще оставалась высокой, а кожа на правой стороне лица была похожа на гнойную слизистую оболочку, покрытую сетью напряженных капилляров. Существование в полевой грязи стало бы губительным для незаживших ран, так что с отправкой на фронт нужно было подождать. Но были и такие, кого фронт не ждал. После мобилизации в Иностранный легион Станислав Виткевич прошел в тылу короткие военные курсы. Научился передвигаться ползком, стрелять и отступать. Он проткнул штыком несколько мешков картошки, смешанной с вишнями. Картофелины имитировали внутренности вражеских солдат, а вишни – их кровь… Достаточно для каждого новоиспеченного солдата… не так ли?
Нижеследующее письмо одного немецкого солдата должно было бы стать напоминанием для любого высокого командования. Этот солдат писал домой в Гейдельберг, и письмо – из-за небрежности цензуры – добралось до семьи так, как будто речь шла об обычном почтовом отправлении.








