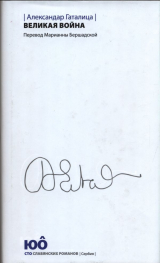
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
ОТЕЦ ВСЕХ ГОТИЧЕСКИХ ДОКТОРОВ
– Господин доктор…
– У телефона была моя жена…
– Господин доктор, прошу вас, это важное дело…
Мужчину, вошедшего в большой кабинет, где уже находилось трое генералов, звали Фриц Габер, доктор Фриц Габер. Он вошел озираясь, словно стараясь ступать по невидимым следам кого-то, кто уже прошел длинный путь от высоких дверей до массивного стола, стоявшего прямо перед окном. При взгляде на нескладного, сгорбленного Фрица Габера все первым делом замечали его крупную лысую голову с хорошо обрисованным черепом, наверняка бы заинтересовавшим лоботомистов. На коротком курносом носу он носил пенсне в тонкой оправе с пружинкой. Из-под стеклышек выглядывали два выпуклых слезящихся глаза, прячущих свое обычное жесткое выражение.
Фриц Габер, основатель Института физической химии и электрохимии имени кайзера Вильгельма, некогда придерживался иудейского вероисповедания, но это не имеет значения для нашего повествования, хотя о его переходе в христианство можно было бы написать отдельную повесть. Его родным городом был польский Вроцлав, который немцы называли Бреслау. Он появился на свет в состоятельной еврейской семье – его отец был известным торговцем дорогими тканями. Рано остался без матери, но все это было бы несущественным для повествования, не родись Фриц с предназначением стать химиком. Еще мальчишкой он создал у себя в доме небольшую лабораторию. Потом он был первым во время учебы в Гейдельберге, лучшим студентом в Берлинском университете, самым молодым преподавателем в университете Карлсруэ – и все для того, чтобы перебраться в Берлин и основать в столице Институт химии и электрохимии имени кайзера Вильгельма.
Однако всего этого вряд ли бы удалось достичь, не будь рядом с нескладным Фрицем преданной жены. Свой самый лучший выбор в жизни Фриц сделал, женившись на Кларе Иммервар, – сама химик по образованию, эта женщина пожертвовала всем для своего мужа и была страстной поклонницей его таланта. С самого вступления в брак в 1901 году они провели вместе прекрасные годы. Сын Герман появился на свет уже в 1902 году. Он был хорошим ребенком, молчаливым, с детства привыкшим к резким запахам химической лаборатории, и поэтому Клара могла постоянно помогать Фрицу. Кто стоял за доктором Габером, когда он открыл реакцию Габера-Вейса? Кто переводил его работы с немецкого на английский? Кто был самым счастливым человеком, когда Фрицу Габеру и Карлу Бошу удалось синтезировать аммиак? Кто сопровождал его на переговорах в цехах BASF, где был изготовлен первый большой механизм высокого давления Габера? Само собой разумеется, Клара Иммервар, верная Клара, которая не раз говорила, что жена-химик испытывает величайшее счастье, когда поддерживает мужа-химика…
– Господин доктор…
Мужчина, вошедший в большой кабинет с находившимися в нем тремя генералами, был Фрицем Габером. Он шел по скрипучему паркету осторожными шагами. Его угловатое тело с большой головой раскачивалось то влево, то вправо, а взгляд, минуя генералов, был устремлен на берлинские деревья за окнами. Было начало апреля после страшной зимы 1915 года, и даже деревья Северо-Германской равнины гордились своими почками и первыми листиками, как будто бы весна может стереть все зимние раны.
– Это была моя жена. У нее была истерика, она сама не знала, что говорит…
– Господин доктор, поймите нас, это дело представляет важнейший интерес для хода наших военных действий, мы не можем ждать, когда ваша жена поправится…
Но шла Великая война, и Фриц очень скоро показал свое лицо заклятого националиста. Он считал, что химик должен быть солдатом и служить своей нации. То, что он может убить одновременно сотни врагов вместо нескольких, он считал привилегией образованного солдата. Но его жена, умолявшая его отказаться, думала иначе. Все ее мольбы были напрасны. В тот момент, когда летом 1914 года он показал Кларе на листе белой бумаги короткую формулу, Фриц потерял свою верную жену, преданно служившую ему тринадцать лет. Это было прощальным письмом, написанным не словами, а, как положено химикам, в виде формулы. Для того чтобы прочитать и понять ее, Кларе понадобилось столько же времени, сколько другим прочесть обычное «auf Wiedersehen»[21]21
Auf Wiedersehen (нем.) – до свидания.
[Закрыть]. На листе бумаги была написана простая формула: C x t = K, где буква «С» означала концентрацию отравляющего газа, буква «t» – временной интервал, а буква «К» – константу, постоянную величину, то есть саму смерть.
Доктор Габер доказал, что при меньшей концентрации смертоносного газа в течение длительного времени достигается тот же эффект, что при большей концентрации в течение короткого. И в том и в другом случае константой, отмеченной буквой «К», была смерть. Клара не могла в это поверить. Пыталась в последний раз отговорить мужа. Убеждала, что науку нельзя ставить на службу смерти, она должна служить жизни. Все было напрасно. Фриц молча повернулся к ней спиной и отнес свою формулу в генеральный штаб. Понадобился год, чтобы он со своими сотрудниками Отто Ганом и Густавом Герцем, будущими лауреатами Нобелевской премии, определил самый лучший состав смертоносного газа в первом немецком отравляющем веществе. Он выбрал хлорин, старого друга, в 1907 году едва не уничтожившего и его самого, и всю его семью. Сейчас «старого друга» нужно было науськать, чтобы он стал жестоким убийцей.
Он не хотел останавливаться. Ему не было стыдно. Он не чувствовал за собой никакой вины. Он думал, что сможет в дальнейшем и без Клары. А она? Впала в подавленное состояние, а из пропасти молчания ее не мог извлечь даже сын Герман. Поэтому Фриц Габер отослал их в Карлсруэ: чтобы не мешали и не напоминали ему постоянно о себе…
– Господин доктор, вы нас слышите?..
Мужчина, вошедший в кабинет, приблизился к большому столу перед окном и склонился над картой Западного фронта.
– Моя жена… моя Клара… Она тяжело больна…
– Господин доктор, перейдем к делу. Сегодня 19 апреля 1915 года. Полностью ли мы готовы перейти на более высокий уровень химической войны?
– Господин генерал… – Фриц Габер вздрогнул и наконец взял себя в руки, – с позиций химии мы находимся в состоянии готовности. Мы будем использовать газообразный хлор, или хлорин, известный как бертолит. Хлорин очень быстро распространяется по воздуху и приносит смерть тому, кто его вдохнет, поскольку в контакте с водой на слизистой оболочке легких образуется хлороводородная кислота.
– Хорошо, хорошо, мы не на уроке химии. Готовы ли мы со стороны военных?
– Газ в достаточных количествах произведен в цехах компании «И. Г. Фарбен», закачан в баллоны и доставлен на Западный фронт.
– Где нам лучше всего атаковать?
– Метеорологи сообщают, что наиболее благоприятная обстановка для атаки наблюдается на фронте в районе города Ипр. Там постоянно дуют ветры с Атлантики, которые, в силу особенностей рельефа местности, поворачивают на юг, в направлении к вражеским позициям. Сейчас весна, погода часто меняется, нужно только определить наиболее подходящий день.
– Господа, какие войска находятся там перед нашими частями?
– Господин генерал, мне доложили, что на этом участке фронта небольшое количество французских войск территориальной обороны, а основную силу составляют колониальные части, состоящие из марокканцев и алжирцев.
– Превосходно. Если французов погибнет немного, так называемый цивилизованный мир не будет слишком возмущаться, а об этих дикарях и так никто не беспокоится. Следовательно, доктор, вам остается дунуть в свисток и подать сигнал к началу атаки. У вас есть разрешение высшего командования. Вы сразу же отправитесь в Бельгию – и мы ждем от вас хороших вестей.
– Слушаюсь.
– Не забудьте, что сказал наш кайзер, когда мы вступали в эту войну: «Мы окружены и должны взмахнуть мечом. Бог даст нам силу, чтобы использовать его как надо, так, чтобы мы могли носить его с достоинством».
– Буду стараться.
Затем Фриц Габер вышел, а генералы просто-напросто заменили одни карты другими. В ту же ночь химик уехал. На следующее утро 20 апреля он уже был на фронте. Его встретил один из самых страшных дождей, которые он видел в жизни. Два дня ожидал благоприятную метеорологическую сводку, а 22 апреля решился на атаку. С его сухих губ не слетело ни единого слова, обращенного к себе, когда он дал хлорину приказ атаковать врага, но в пятистах километрах юго-восточнее другие сухие губы прошептали: «Боже, помоги нам!» Эти слова слетели с губ жены доктора Клары Иммервар.
Вскоре после того, как жена Фрица Габера произнесла слова молитвы, на позиции под Гравенсвальдом недалеко от Ипра, которые занимали 45-я дивизия территориальной обороны Франции и 78-я колониальная дивизия, был дан приказ выпустить хлорин. Было пять часов пополудни. Какие-то птицы стаями расселись на ветках, как будто озабоченные тем, что может случиться. А потом были открыты 5730 газовых баллонов, и южный ветер погнал зеленовато-желтый газ на неприятеля. Газ вел себя тихо. Шел на цыпочках. Хлорину понадобилось всего несколько минут, чтобы преодолеть пространство между окопами. Никто не мог причинить ему вред ни пулями, ни артиллерийскими снарядами. Первые солдаты, которые его вдохнули, почувствовали металлический привкус во рту. Потом уже тысячи солдат болезненно стонали и корчились в окопной грязи. Жизнь быстро вытекала из зрачков этих бедняг марокканцев и алжирцев. Некоторые падали сразу, другие в панике выбегали на ничейную полосу, где их поджидала немецкая артиллерия, готовая открыть огонь. На людей падали погибшие птицы из рассевшихся на ветках озабоченных стай, и прошло совсем немного времени до того момента, когда почти все солдаты, у которых не оказалось никаких средств защиты, в радиусе семи километров были мертвы.
Успех казался полным, но ветер вскоре переменил направление, поэтому и многие немецкие солдаты, имевшие дело с габеровскими баллонами, стали жертвами «дружественного газа». Все было окончено буквально за полчаса. Замешательство обеих сторон было настолько велико, что даже после знака Габера, что опасность миновала, немцы не смогли занять пустое пространство на фронте под Ипром, образовавшееся благодаря новому устрашающему «немецкому солдату» – хлорину по имени бертолит.
Казалось, что газ рассеялся. Весь, кроме одного облака. Точнее сказать, облачка.
Этот небольшой туманный сгусток хлорина пустился в путь: от Ипра к Лиллю, от Лилля – к Монсу, от Монса – к Шарлеруа. Над территорией от Шарлеруа до Сен-Кантена, казалось, облачко хлорина из Ипра исчезло, но оно решительно продолжило путь к Седану, а затем к Мецу. Возле Саарбрюккена отравляющее облачко вплыло в Германию и неторопливо, не обращая внимания на северногерманские ветры, направилось через Фельцерский лес прямо к Карлсруэ. Подгоняемое высокими воздушными потоками, оно опустилось ниже к земле и пронеслось мимо Бад-Бергцаберна и Оберхаузена. Миновав озеро Книлингер, оно оказалось совсем близко от Карлсруэ. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы оказаться возле дома химика-смерть Фрица Габера, и именно в тот момент, когда жена доктора Клара вышла в сад.
У нее было лицо самоубийцы и пистолет мужа в руке, однако она не успела им воспользоваться. Последнее облачко хлорина из Ипра рассеялось над садом, и его окутал странный желтовато-зеленоватый туман. Первое, что Клара почувствовала, был запах перца, смешанный с запахом ананаса. Затем – металлический привкус на губах. Будучи химиком, она сразу определила, что это хлорин. Подняла руку и попыталась направить ствол пистолета себе в сердце, но было поздно. Бертолит быстро смешался с влагой слизистой оболочки ее легких, и она упала на землю с высунутым языком между некогда прекрасными губами, корчась от боли, как раненое животное в агонии. Мгновение спустя жена химика-смерть скончалась, а отравляющий газ, подобно опытному убийце, смешался со свежим воздухом над Карлсруэ и навсегда исчез, не оставив никаких улик для следователей.
Смерть жены великого патриота Фрица Габера сохранялась в тайне. Настоящее следствие по делу так и не было завершено, хотя тело несчастной еще целый день лежало в ее доме. Химик-смерть посетил свой дом и сад в Карлсруэ на следующий день. Он видел, совершенно ясно видел, от чего погибла его красавица-жена Клара, но только повернулся, вышел из дома и отправился на Восточный фронт, где первое смертоносное отравляющее вещество будет использовано и против русских. Солдат не имеет права плакать из-за смерти близких, ибо во время войны его единственной женой является родина.
Так думал Фриц Габер, когда ему в холодной Восточной Европе сообщили, что он получил от кайзера чин капитана и стал единственным ученым, удостоенным такого воинского звания. А Люсьен Гиран де Севола ни о чем не думал, когда проснулся. Он со своим телефонным взводом, к счастью, был не под Ипром, а под Седаном, над которым проплыло только одно облачко хлорина, предназначенное Кларе Иммервар, но всю сцену, возникшую перед ним в зеркале мобилизационного пункта в Тампле, Севола на этот раз увидел во сне, и теперь она была гораздо более отчетливой, реальной и страшной. Он очнулся ото сна прохладным военным утром. А днем, услышав, как перешептываются солдаты, от которых правду официально скрывали, он понял, что недалеко, под Ипром, случилось что-то ужасное. Ни вслушиваться, ни расспрашивать о подробностях он не стал, потому что знал, что все произошло именно так, как в его пророческом видении еще в Тампле. Он никому не собирался ничего рассказывать, даже не подумал попросить отпуск из-за нервного истощения, ибо его напрасное пророчество – пророчество еще одной троянской Кассандры – не спасло ни одного из шести тысяч погибших, и теперь ему из-за этого было просто стыдно.
Если бы один немецкий солдат испытал чувство стыда, то, вероятно, с ним не случилось бы того, из-за чего он оказался в списке летчиков, пропавших без вести. Фриц Крупп относился к числу первых немецких пилотов, летавших на новом немецком боевом самолете «Aviatik D.I», и даже встретил в нем новый 1915 год, поглаживая пулемет и приговаривая: «Ты убьешь Пикассо, уверяю тебя». Но первые немецкие самолеты были двухместными, и поэтому Фрицу для осуществления своего упорного замысла нужно было найти достойного напарника, который, как и он, будет ненавидеть Пабло Руиса Пикассо, этого вожака всех современных художников. Он расспрашивал, нет ли среди молодых пилотов знатоков современного искусства, но оказалось, что в своем полку он единственный художник.
Скоро он нашел одного безусого паренька, едва достигшего совершеннолетия, который был помощником маляра в своем городке, и сразу же принялся его «образовывать». Начал он с рассказов об ужасном Париже, этой «надушенной клоаке», потом принялся за известных художников, «которые с каждой своей картиной отправляются целовать задницу дьявола во время посиделок на Шабат», и подкреплял ненависть к современному искусству готическими рассказами о Пабло Пикассо, изображая его моральным уродом и художественным ничтожеством. Этого редкостного Вельзевула, держащего в своей пасти и грызущего десятки художников, отнимающего у них идеи и души, паренек возненавидел до такой степени, что только и ждал, когда они полетят на Париж и уничтожат этого «самого большого врага немцев».
Однако немецкое командование ставило перед новыми аппаратами ближнего действия только разведывательные задачи, поэтому Фриц требовал, чтобы их с маленьким злым стрелком пересадили на первый немецкий дальний самолет «LVG С.II». Когда это удалось, он почувствовал себя альбатросом. У самолета было оперение хвоста в виде сердца, огромные крылья, более мощный «мерседесовский» мотор и гораздо большие скорость и дальность полета. То, что вскоре столь сильный в воздухе Фриц вместе со своим циничным помощником упадет и исчезнет с небосклона, никто не мог даже предположить. Самолет мог долететь до Парижа, и это было самым важным, но ненадолго. Не было человека печальнее, чем Фриц, когда он узнал, что Пабло Руиса вообще нет в Париже, что он – как трус – развлекается на Лазурном берегу и ухаживает там за дамами со свойственным ему шармом медведя из Малаги. Он едва не разрыдался оттого, что Пабло Руис оказался недосягаемым, но скрепился, дабы его подчиненный, которому он представлялся почти что причисленным к лику святых, не увидел ни малейшего следа его слабости.
Он долетит – решил Фриц – до Лазурного берега, он отправится и на край света, даже если его там будут ожидать чудовища со всех концов вселенной. Так он размышлял, и все, что он задумал, вскоре и случилось. Было начало мая, когда он получил задание пролететь глубоко в тыл вражеских позиций и сделать снимки дорог, пригодных для снабжения противника. Упустить такой случай было нельзя. Он сел в самолет вместе со своим злым помощником, который к этому времени отпустил редкие усы, как у командира, и ходил немного враскорячку, причмокивая губами и подражая ему во всем. Только один раз они с Фрицем посмотрели друг на друга и решили, что полетят далеко на юг. Оба знали, что оттуда они не вернутся, но были готовы даже попасть в плен, только чтобы бомбить Канны и их окрестности. Впрочем, они будут первыми немецкими летчиками, сбросившими бомбы на Лазурный берег, и прославятся этим, даже если под ласковым солнцем юга они будут в плену годами ожидать победы немецких войск. Но милое солнце юга не станет их согревать, поскольку уже в первый час после взлета все пошло наперекосяк. Вначале казалось, что они просто сбились с пути. Они были уверены, что двигаются на юг, избегая обычных воздушных путей и еще малочисленных тогда британских и французских перехватчиков. Железные дороги и составы на них они даже не снимали, так как и не собирались возвращаться с этого задания, на своей белой птице они летели прямо к Марселю и дальше – к морю.
Экипаж вначале весело распевал «Стражу на Рейне» и «Песнь ненависти к Англии», в то время как под ними мелькали прелестные, на их взгляд, французские пейзажи. Им чудилось, что они видят виноградники и зеленые горные склоны и вот-вот покажется Средиземное море, но вскоре все начало походить на ночной кошмар. Фриц Крупп и его циничный помощник не увидели моря, когда оно уже должно было появиться, хотя по показаниям авиаприборов они летели точно к нему. Несколько долгих часов виноградники сменялись полями, поросшими красными маками, словно Европа под ними чудовищно увеличилась в размерах. Запас топлива уменьшался с невероятной скоростью. Где же море? Где Лазурный берег, на который они собирались сбросить груз своих бомб и прищемить хвост величайшему обманщику за все века существования живописи?
Наконец они увидели воду. Сейчас нужно было сделать поворот влево. В небе – ни одного вражеского самолета. Но никто и не ожидал встретить их так далеко от фронта. Однако что это за побережье? Оно ничуть не похоже на залив с уютными пляжами Средиземного моря. Какой-то острый утес вздымался высоко в небо, а волны в бешенстве били в эти нечеловеческие карамелизированные пейзажи, словно стремясь каждым ударом уничтожить их. Двое немецких летчиков испугались. Они свернули налево, но тогда земля неожиданно осталась позади. Вместо того чтобы увидеть слева берег, они наблюдали вокруг только глубокую воду. Они надеялись, что смогут сориентироваться по звездам, но они летели над водой странного зеленоватого цвета уже часами, а солнце стояло неизменно в зените, в одном и том же положении, как будто над ними царил вечный полдень.
Через десять часов после взлета Фриц вынужден был признаться, что они заблудились и через несколько минут рухнут в пурпурную воду, больше похожую на расплавленный драгоценный камень. Они почти не разговаривали, просто ждали конца, но самолет все-таки продолжал лететь. Стрелка показывала, что горючего больше нет, между тем винт «LVG С.II» не переставал вращаться. Это придало им храбрости. Они повернулись в своих креслах один или два раза, когда увидели, что навстречу им движется эскадрилья самых странных летательных аппаратов из когда-либо виденных ими. Похожие на насекомых, взмахивавших крыльями с громадной скоростью, к ним приближались огромные боевые машины, в десять раз крупнее, чем самый большой немецкий самолет выпуска 1915 года. И Фриц, и его стрелок схватились за оружие и открыли огонь по чудовищному врагу. Крейсера снизу ответили им лучами света, проходившими сквозь их самолет и не оставлявшими никакого следа, так же как и пулеметные пули не могли причинить вреда этим невероятным летающим кораблям. Поэтому бой закончился тем, что каждый отправился в свою сторону. Немецкие летчики радовались, что пережили этот удар, когда поняли, что не управляют своим самолетом. Без горючего, в полете без ориентиров, он мог лететь только прямо вперед, на одной и той же высоте. Они не могли упасть, но и приземлиться тоже не могли. Им понадобилось три дня, проведенных в полете, чтобы понять, что они стали пленниками, заключенными в корпус летящего со скоростью 130 километров в час аппарата, который никогда не упадет. Они понимали, что идут навстречу своей судьбе и больше ничто не может их испугать, но… На четвертый день они встретились с флотилией в тысячу раз больше той, что увидели в первый раз. Теперь по небу летели огромные летательные аппараты, подобные вырванным из земли горам. Самолет «LVG С.II» с черными крестами на крыльях был таким маленьким, что немецкие пилоты даже не заметили, как тот прошел сквозь их строй. Они и не собирались стрелять, потому что эти летающие горы не могли быть ни французскими, ни британскими самолетами, и было понятно, что лихорадочные пулеметные очереди не смогут причинить им никакого вреда. На пятый день в кокпите самолета поселился голод. И пилот, и стрелок впали в отчаянье, потому что под ними беспрестанно волновалась все та же зеленая вода, а над головой неизменно сияло полуденное солнце. В последний раз – прежде чем они потеряли сознание от голода – они встретились с таким огромным летательным аппаратом, что им показалось, будто под ними одна планета, а над ними – другая. Затем они потеряли сознание, впав в диабетическую кому. Чуть позже оба пилота умерли, а самолет «LVG С.II» продолжал плыть по небу, но это уже не было частицей истории Великой войны, поскольку он упал в Южной Патагонии и вызвал немалую панику среди индейцев и скотоводов, никогда не слышавших о ней.
В старой Европе летчики Фриц Крупп и Дитрих Струнк были объявлены пропавшими без вести. Это были первые жертвы нового самолета, который, как и химическое оружие, был предназначен для того, чтобы обеспечить немецкой стороне военную победу.
А война в воздухе продолжалась и с нетерпением ждала появления асов. Самолеты и цеппелины участвовали в боях под Дюнкерком и на восточном побережье Англии. Один из цеппелинов, которым командовал капитан Карл Линарц, 20 сентября 1915 года вылетел с аэродрома севернее Брюсселя. В полной тишине он незаметно добрался до Лондона. Из гондолы под корпусом была сброшена первая бомба на британскую столицу, а за ней полетели тысячи листовок. Взрыв причинил небольшие разрушения на набережной Темзы, но листовки соблазнили даже сдержанных англичан. В них было написано: «Проклятые англичане, мы идем, чтобы или уничтожить вас, или вылечить». И подпись: «Линарц». Цеппелин тихо пробрался к цели и так же тихо улетел, а внизу, на земле, пожарные машины мчались по лондонским улицам, хотя в городе ничего не горело. Пожарные собирали листовки, сбрасывали их с памятников и вырывали из рук прохожих. Однако тысячи листовок все-таки оказались в карманах очевидцев и отправились в Солсбери и остальные близлежащие места, а некоторые – далеко на север до самой Шотландии. К вечеру все успокоилось, а последние постыдные угрозы капитана Линарца размокли под дождем.
В эту ночь и в Стамбуле шел дождь, вынудивший эфенди Йилдиза в неизменной феске спрятаться в лавке. Он успел своевременно убрать свой товар под крышу и, поскольку вокруг никого не было, начал негромкий разговор с пустой лавкой и находившимися в ней приправами. Долгое время размышляя о возможности завершения войны в следующем году с помощью торговцев, он и теперь задал четкий вопрос красным приправам: что им нужно, чтобы они стали продаваться хуже коричневых и зеленых. Ответа от красных и коричневых приправ он так и не дождался. Вместо них ему отвечал дождь, упорно барабанивший по ветхой черепичной крыше лавки. Капля за каплей, жизнь за жизнью – казалось, именно это ответил ему дождь – и никуда от этого не деться…
Дождь шел и на курорте Гляйхенберг, где лечился Бороевич фон Бойна. В санатории, походившем на огромный отель из лучших времен, где немецкие семьи отдыхали в твердой уверенности, что хорошие времена неподвластны плохим переменам, угнетенному духом фельдмаршалу с Восточного фронта были выделены просторные апартаменты с террасой, смотревшей на курортный променад. Он вошел в номер как командующий, но, как только за ним закрылась дверь, рухнул в кресло как сломленный жизнью человек. Нераспакованные чемоданы уставились на него, а солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели жалюзи, косо освещали только один его полуприкрытый глаз… В этих комнатах фон Бойна начал мучительно выздоравливать. Он больше не вспоминал два Перемышля – ни ложный, который он занял, ни истинный, в который не смог прорваться. Он только улыбался любезным докторам, приносившим ему странные лекарства, бдительно охраняя прибывший с ним багаж. Каждое утро он, так же как и на фронте, обсуждал распорядок дня с двумя своими адъютантами и аккуратно чистил две пары сапог. В шкафу висели два мундира и два блестящих шлема с черными перьями.
Точно в полдень фельдмаршал спускался в столовую, разодетый как на парад: в отглаженной форме и стальном шлеме, украшенном черными перьями. Он неизменно привлекал к себе всеобщее внимание, но ни с кем не сближался, считая, что раз идет война – его место на одном из фронтов. Но как узнать, который из них настоящий? Когда через несколько недель лекарства не оказали на него заметного действия, один молодой врач, принятый на испытательный срок из местной клиники, изъявил желание посвятить себя фельдмаршалу. Они подружились. Фельдмаршал даже стал относиться к молодому человеку, как к сыну. После двух совместных обедов тот наконец признался, что он не пациент, а врач. Через неделю фон Бойна пригласил его в свои апартаменты.
В большой гостиной молодой врач быстро заметил, что каждая вещь фельдмаршала имеет свою копию, словно эти резервные экземпляры предназначены духам прошлого: одежду стирают, гладят, наводят на нее лоск и… откладывают в сторону. Никто не надевает ее на себя. Ему сразу же стало ясно, что излечение этого выдающегося человека возможно, только если удастся уговорить фон Бойну начать носить «резервные вещи». Молодой доктор не удивился, когда фельдмаршал отказался это делать, но он знал, что в тот день начался сизифовский подъем Бороевича на утес шизофрении, который должен завершиться или отъездом из санатория, или полным крахом одного из самых блестящих офицеров армии Двуединой монархии.
Ежедневно в полдень доктор и прославленный пациент встречались за обедом: первый – в весеннем вязаном жакете с полотняным поясом; второй – в парадной форме. Доктор быстро научился различать близнецы-сапоги, близнецы-ордена, близнец-мундир и близнец-шлем. Ему понадобилось еще двенадцать обедов, чтобы однажды вечером уговорить фон Бойну примерить неношеную пару сапог. Для генерала это было нечто совсем новое. Он потел, колебался, отбрасывал сапоги, предназначенные православному Бороевичу, и в конце концов решился. Как только он потянул голенища наверх, перед ним воскресла позабытая картина из его жизни. Он вспомнил мать и колыбельную на сербском, которую для него никто не пел почти полвека. Генерал заплакал в своих апартаментах, но не захотел обнаружить слабость перед молодым доктором, который похвалил его, когда увидел обутым в «прокаженные» сапоги.
«Теперь мы пустились в длинный путь, – сказал ему доктор, от которого пахло кремом для волос, – на нем встретятся и тернии, и неверные повороты, и острые косы, но мы не смеем отказываться от этого». И Бороевич не отказался. Когда он надел форму, годами предназначавшуюся фантому его детства, то ощутил прикосновение колючих дедовских усов; когда впервые надел шлем, который никогда не надевал раньше, – уловил запах ладана в маленькой церкви в Бойне… Он сотрясался от рыданий и бил себя в грудь в своих апартаментах, однако все-таки не терял контроля над собой и «сохранял лицо» во время обеда, к которому он продолжал спускаться по-солдатски точно, аккуратным и собранным на вид. Однако врач знал, что процесс выздоровления закончится тогда, когда фельдмаршал перестанет делить еду на тарелке на две равные части и есть только ту половину, что ближе к нему. Еще шесть обедов понадобились доктору для того, чтобы уговорить фельдмаршала перейти на «территорию неприятеля» и «реквизировать там немного продовольствия» (он сознательно использовал военные термины), а когда ему удалось и это, фон Бойна мог бы смело явиться на первый доклад начальству.
Полностью выздоровевший или все же не до конца, он снова мог служить монархии. Прибыв на Восточный фронт, фельдмаршал тут же потребовал двух коней, двух адъютантов и двух начальников штаба, но теперь использовал и тех и других в полном убеждении, что такой двусторонний взгляд на вещи поможет ему избежать ошибок и выбрать правильную цель. Двадцатого апреля 1915 года Бороевич был направлен на Итальянский фронт, поскольку шпионы, более удачливые, чем Лилиан Шмидт, сообщили, что Италия вскоре вступит в войну против Австро-Венгрии. Так фон Бойна стал командующим армии накануне нескольких сражений при Изонцо. Штабы он разместил севернее реки Пьяве, сапоги надевал поочередно, до полудня ездил на одном коне, а после полудня – на другом, и ему казалось, что все его проблемы остались в прошлом.
На Итальянском фронте сначала не происходило ничего особенного, но фельдмаршал знал, что на другом конце Европы предстоит великое сражение, так как ему пришлось подписать приказ, согласно которому все корабли, находившиеся под его командованием и стоявшие на якоре в Риеке и Пуле, направились в Эгейское море, где они должны были встретиться с британскими и французскими судами, выдвинувшимися 25 апреля 1915 года в направлении южной стороны Дарданелл к полуострову Галлиполи, к турецкому местечку Кумкале. Рассказ эфенди Йилдиза об этой необдуманной высадке с целью завоевания Стамбула касается фон Бойны ровно настолько, насколько ему понадобилось времени подписать приказ. А само повествование гораздо больше касается шнурков.








