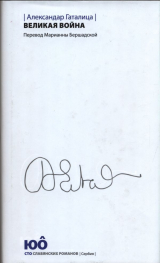
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
В этот день, в четырехстах километрах южнее, в свой авиационный полк на аэродром возле города Бизино направился и солдат Кокто. На медицинском осмотре его сочли худосочным, но в армию все-таки взяли. Ему было плохо, очень плохо в день призыва и на следующий день, когда из него выходила непереваренная дробь, но он был счастлив, что еще жив и стал французским солдатом. Теперь – на фронт. Да кому есть дело до этой войны? Форма и подтвержденная свидетельством воинская слава – вот что самое важное. Он принялся мечтать. Он возвращается в Париж в мундире победителя, входит в кафе «Ротонда», принадлежащее дядюшке Либиону, и садится за стол рядом с Пикассо…
ВОЙНА
«Будет большая война».
Эти слова, произнесенные майором Тихомиром Миюшковичем в решающий день его жизни, 29 июля 1914 года по старому стилю, хорошо запомнились не очень-то разговорчивому хозяину шабацкой[3]3
Шабац – сербский город на берегу р. Савы.
[Закрыть] кафаны «Касина». На все просьбы и вопросы рассказать о майоре что-нибудь еще хозяин Коста и его полноватая жена Кристина отвечали так, словно им в дверь постучались сборщики налогов. «Мы только это о майоре и помним. К нам разные люди заходят, разные чины, разные типы, разные придурки… Но мы-то люди порядочные и хорошие трактирщики. Когда нужно было платить налог на уличное освещение, мы в Шабаце были первыми; когда ввели подать на музыку, мы сразу же наполовину уменьшили аренду Цицваричам, чтобы те смогли заплатить государству положенное». А майор? Майора они как бы и не помнят, с майором познакомились на ходу, он мелькнул как призрак, не имевший своих собственных ощущений, не испытывавший страданий и не замечавший страданий других людей…
«Снова будет большая война» – говорят, что майор произнес эти слова в страшный день 29 июля 1914 года, когда из кафаны «Касина» перешел в кафану «Девять столбов». Хозяин кафаны, некий Зейич, потомственный трактирщик, уже немного яснее вспоминает майора и его, в сущности, простоватую внешность, сквозь которую иногда проскакивала искорка. «Я чуть-чуть помню майора. Признаюсь, с памятью у меня не очень хорошо. А во всем другом у меня все в порядке. Когда нужно было отдать государству положенное, я не спрашивал, не торговался. Нет, господин. Я требовал, чтобы с меня получили по максимуму – за тридцать электрических лампочек в саду.
Вот так! А без фонаря я никогда никого на темную улицу не отпускал, каким бы напившимся он ни уходил с моего двора. А если вы спрашиваете про майора, то это был жестокий, огрубевший от войны человек, ослепленный желанием получить повышение, оторванный от родного края, вспоминавший соседей зло и недобро. Армия была для него утро, армия была для него вечер.
Он всех мучил, всех муштровал. Коней избивал до того, что у них пена шла. Быки весом в восемьсот килограммов вздрагивали, когда он запрягал их и заставлял тянуть батарею на Дрину. Служивые боялись его как грома. Не то чтобы он был несправедливым, но вот вспыльчивым и грубым был… раз в неделю одному из солдат ломал то руку, то ногу. А больше ничего не знаю, только это. Да, он заходил ко мне и в тот июльский день, последний мирный день перед тем, как на нас напали проклятые австрияки. Что он делал? Да пил он, господин, больше ничего не знаю, а во всем остальном я порядочный человек и трактирщик. Когда ввели налог на музыку, я сказал: лично буду платить за оркестр и не заберу у Цицваричей ни гроша из чаевых. Вот такой я человек».
«Снова будет война. Большая война» – эти слова хорошо помнил и хозяин шабацкой кафаны «Америка», типчик по прозвищу Муня. Этот трактирщик, человечек с темными от вечного недосыпания полукружьями под глазами, наконец-то завершил повествование о Тихомире Миюшковиче. Позаимствовал немного из кафаны «Касина», добавил соломенную суть с искоркой из кафаны «Девять столбов», облепил солому землей и вдохнул в нее жизнь услышанным в кафане «Америка». «Да, я помню майора и его решающий день. Был вторник 29 июля 1914 года по нашему стилю. Для многих это был последний мирный день. Для нас, трактирщиков, для наших посетителей, для Шабаца и моей Сербии. Между тем некоторые люди проживут всю жизнь, переходя из одного десятилетия в другое, плача или смеясь, и к концу ее натыкаются на этот последний спокойный день. У майора вся жизнь уместилась в один день, в его последнюю часть. Вот что с ним случилось, судя по тому, что я слышал и что лично видел. Говорите, он был плохой человек? Что лупил скотину и избивал людей? Может быть. Говорите, что армия для него была утром, а война – вечером? И это так. Есть такие офицеры, но… Между утром и вечером выходит солнце, и Бог влечет его по небу. Солнцем для майора была его жена Ружа. Она для него стирала и гладила. Она вместе с ним меняла штабы, команды и гарнизоны, пока наконец, за два года до начала войны, они не оказались в Шабаце. Он получил должность командира 2-го батальона кадровой Дринской дивизии, а она стала майоршей. В городе все было проще: стирать, шить, делать покупки, и у майорши стало больше свободного времени. Она не использовала его для себя. Не развлекалась, не наряжалась. Ни на кого не смотрела до этого последнего дня.
Война, господин, наверное, война этому поспособствовала. В тот самый день майор первым делом пошел в кафану „Касина“. Мне удивительно, что Коста, хозяин, этого не помнит, потому что я знаю: тогда Ружа в первый раз пришла туда и попросила своего майора отдать ей кольцо. Сказала ему: „У тебя пальцы потолстели, Тико. Оно тебе давит. Сними, я отдам его растянуть, чтобы, когда начнется война, тебе не мешало еще и это“. Странно, что этого не слышал хозяин, но знаю, что майор, уже хорошо набравшийся, отослал ее и не отдал ей кольцо. Потом он, попозже, перешел в кафану „Девять столбов“. Вскоре после того, как он туда вошел, снова появляется Ружа. Не ругает мужа за выпивку, не собирается отвести его домой. Ведь она знает: завтра война, война сровняет с землей все, что нетвердо стоит на ногах, ей нужно только растянуть кольцо у одного ремесленника-цинцарина[4]4
Цинцарин (серб.) – валах из Фракии.
[Закрыть]. Кольцо нужно ей на час или два. Не больше. Но майор не отдает кольцо, не снимает его с пальца, только обнимает свою Ружу. Целует ее самыми нежными поцелуями, словно под его губами не скрываются те острые зубы и тот голос, которого солдаты боятся как чумы. Майор гладит ее по волосам цвета сена, а та все повторяет: кольцо да кольцо…
Выставил он ее. Вбежали музыканты. Вот-вот начнут петь, но вдруг все начинают плакать. Говорят, из-за этих известных музыкантов Цицварича. Врут, конечно. Они начали петь, и майор с ними. Поет „Девушку из Шабаца“ и „Запела птица соловей“, „Продал я коня вороного“; пьет, как земля в засуху, но ему все мало. Платит музыкантам и выходит на улицу. Ворот распахнут, волосы в беспорядке. Спотыкается, но не падает, старается не запачкаться, ведь военная форма для него святыня. Идет и ругается. Сердится, господин, а на кого? Из его глаз струится какое-то гневное сияние, он мог зажечь его только сам. Входит в мою кафану. Снова заказывает красное вино. Спрашивает, почему нет музыкантов. Открывается дверь, однако на пороге вовсе не музыканты, выдающие себя за потомков великого Цицварича. Это снова Ружа. На этот раз она не просит отдать ей кольцо, но снимает его сама. Обещает, что его растянут, пока он выпьет один-два бокала. Цинцарин очень хороший мастер, он просто немного растянет кольцо. И повторяет: „Цинцарин прекрасный мастер, он просто растянет кольцо, его нужно немного растянуть… растянуть… растянуть…“
И уходит, как будто проклятая. После узнали: через Шабац проезжал какой-то молодой офицер, вертопрах. Из богатой семьи. Надел серо-голубую форму офицера запаса для того, чтобы в ней красоваться, а не для того, чтобы в ней погибнуть. Поехал на фронт в отцовском открытом автомобиле и – не знаю как – заметил майоршу Ружу. Одного взгляда из-за руля лимузина было достаточно. Он окликнул ее. Провез по Шабацу. Заехали в лес на берегу Савы и любезно раскланивались со всеми караульными.
Он все повторял, что любой лес ему сразу же напоминает бетховенскую „Пасторальную симфонию“, которая так прекрасно имитирует щебетание птиц. Каких птиц, господин? Война приближалась, а вертопраху нужна была женщина на полдня. Ружа, подобно мотыльку, летящему на огонь, позволила себя поцеловать. Возвращаясь из „бетховенского леса“, он обещал ей поместье, титул, деньги, напел ей песен о возможности бегства из Сербии, прочь от войны. Обещал ей богатство и свободу… Но ведь она не свободна, она чужая жена. Однако кавалер в отутюженном мундире не останавливается. Остатки непорочности майорши сопротивляются еще немного. Наконец залог ее верности, который она всю свою прежнюю жизнь видела в обручальном кольце, снят с пальца и – по слухам – брошен в Саву. Осталось только кольцо майора, этот якорь и последний символ несвободы.
В первый раз изменщица вошла в кафану „Касина“, но майор ее выставил. Во второй раз она заявилась в кафану „Девять столбов“, но также не получила залог своей верности. Рассказывают, что он и она, соблазнитель и мотылек, ехали за майором потихоньку, на второй скорости, чтобы их не услышали, и смотрели, в какую сторону тот направляется. Когда майор пришел ко мне, за ним – как я уже сказал – вошла Ружа. Теперь она больше не просит. Просто снимает кольцо. Я иду за ней. Вижу, что она садится в большую машину. Хохочет и забрасывает за плечо распущенные волосы цвета сена. После я услышал, что она бросила кольцо майора в реку и уехала на юг. Когда какие-то парни прибежали в мою кафану с криком „Майорша бросила кольцо в реку!“ – майор вздрогнул. Казалось, он проснулся. На его лице не было и следа от вина. Как аккуратный солдат, он прежде всего бросил взгляд на форму. Разгладил руками мундир, затянул ремень, заправил брюки за голенища сапог. Подозвал мальчишку-чистильщика и, пока тот наводил глянец, потрогал осиротевший палец. Ни на кого не смотрел. Молчал. Когда с наведением блеска было закончено, он спросил. „Сколько с меня, хозяин?“ – и оплатил счет. „Июль уже закончился, а в августе нам идти на войну“, – сказал он и вышел из кафаны. Остальное вы сами знаете».
Остальное знает и история. Наступил последний июльский день. Это был очень жаркий день. Пшеницу уже сжали, а кукуруза вытянулась в рост всадника. В среду 30 июля, 12 августа по новому стилю, через бурную Дрину, а потом через кукурузные поля двинулась австро-венгерская Балканская армия.
Великая война началась.
Пятая армия Австро-Венгрии под командованием генерала Франка, перейдя реку Дрину, вела наступление в направлении Белина-Зворник-Брчко. Шестая армия под командованием генерала Потиорека начала движение в направлении Власеница-Рогатица-Калиновик-Сараево, в то время как Вторая армия под командованием генерала Бём-Эрмоли была переброшена с севера, из Срема и Баната, на территорию Сербии. Австро-венгерское командование сосредоточило главные силы на Дрине, избрав северо-западное стратегическое направление, что до некоторой степени удивило сербское верховное командование, развернувшее свои силы под углом в девяносто градусов и поспешившее прикрыть западные границы с севера. Главная битва разыгралась на горе Цер, но для рассказа об одном майоре без обручального кольца на пальце важнее описать его короткую, но славную военную судьбу.
В течение этих решающих дней 2-й батальон Дринской дивизии трижды вступал в бой, и все три раза майор Тихомир Миюшкович был бледен, но чисто умыт и решителен. Первый раз он вступил в бой под Текеришем, когда 21-я австро-венгерская дивизия ландвера атаковала Дринскую сербскую дивизию, в состав которой входил и 2-й батальон под его командованием. Потом он сражался под Белым Камнем и Беглуком. Третьего раза хватило, чтобы оборвать его жизнь, которая, по правде говоря, закончилась еще в шабацкой кафане «Америка» 29 июля 1914 года по старому стилю. Указ о награждении майора Тихомира Миюшковича и посмертном присвоении ему чина подполковника был опубликован в свежем номере «Политики» сразу же после Церского сражения. Указ прочитали все жители Шабаца, кроме одной женщины, о которой больше никто ничего не слышал – жива она или мертва, счастлива или нет. Ее звали Ружа. Только это о ней и известно.
Были ли счастливы те, кто выжил, или раненые завидовали мертвым, об этом могли бы кое-что рассказать покрытые трупами церские предгорья и темно-красная река Ядар. Многие раненые переправлялись через Дрину, ставшую бурной могилой для обеих армий. В полевых госпиталях у раненых извлекали пули в надежде спасти им ноги и отнимали ноги в надежде спасти им головы.
В одном из таких госпиталей, разместившихся в переполненном Зворнике, служил и хирург Мехмед Грахо. Войне были необходимы все привыкшие к скальпелю, в том числе и патологоанатом, который с 1874 года дружил с мертвыми, а теперь облачился в форму Боснийского пехотного полка, надел на голову красную феску и принялся спасать жизни. Но его руки были подготовлены только для покойников. Тяжелораненые солдаты, доставленные с Ядра, под его ножом как-то странно таяли и исчезали. А он делал все то же самое, что и другие хирурги. Операция проходила хорошо, но, когда она завершалась, патологоанатом Грахо чувствовал за своими плечами дуновение ветра, как будто его посетила смерть, и он видел, что теряет пациента. Старался всеми силами его вернуть, но, как правило, напрасно.
Между тем в это время был страшный мор, и вряд ли кто-нибудь заметил, что в госпитале Зворника работает «доктор-смерть». Но Мехмед Грахо был убежден, что это именно так. Проверил еще раз, два раза, десять раз, и все его пациенты умерли. «Похоже, я создан не лечить, а убивать», – сказал он себе, и, раз так, доктор принялся выбирать наименее симпатичных ему людей, а также безнадежно искалеченных солдат, чтобы прикончить их. Он считал так: если выбирать обреченных раненых, то труднее будет заметить, что на его операционном столе умирает почти каждый пациент. Смотрел на них, на одного за другим. Каялся. Кланялся. Молился Аллаху, но безрезультатно. Хотел отказаться от службы, но знал, что попадет под трибунал. В сутолоке, когда в военном госпитале Зворника целыми днями раненые пронзительно кричали, как чудовищный хор, он никому не мог пожаловаться и потребовать, чтобы его освободили от должности «доктора-смерть».
Он должен был убивать солдат и примирился со своим уродством. Читал избранные суры Корана и говорил себе, что лучше отчаянная определенность, чем неопределенная надежда. Ходил по больничному двору, заставленному носилками, напоминающими неглубокие военные могилы, и приказывал: «Этого, этого и этого – ко мне…» Потом изо всех сил пытался им помочь, но они умирали. Тогда он снова выходил во двор и равнодушным голосом говорил: «Этого, этого и этого – ко мне…»
Смерть – но доктор Грахо не знал об этом – забирала на берегу Дрины то, что в другом месте оставляла жить. Словно по какой-то загадочной смертной геометрии, за тысячу шестьсот километров восточнее в санитарном поезде «В. М. Пуришкевич» нейрохирург Сергей Васильевич Честухин наблюдал чудесное выздоровление своих солдат, получивших ранения в первых сражениях в Восточной Пруссии. К нему приносили солдат с расколотыми головами, с пулями в тех отделах мозга, при попадании в которые пациенты должны были превратиться в растения или умереть, однако чаще всего не случалось ни того ни другого. Остальные доктора тоже заметили, что в третьем вагоне происходят чудеса, и каждый, как только у него выпадала минутка отдыха, приходил посмотреть, как оперирует Честухин. А исцеляющие руки доктора виртуозно извлекали пули из солдатских голов, соединяли кости черепа и зашивали раны, настолько залитые кровью, что, казалось, нет в мире нити, способной их зашить. После этого пациенты оставались у него на столе минут десять, а потом в их глаза возвращалась жизнь, возвращалась даже в самых безнадежных случаях, так что немногочисленный консилиум русских врачей сопровождал аплодисментами эти чудесные операции.
Была еще одна странность. В санитарный поезд попадали раненые, бывшие до войны крестьянами или слугами в графских имениях, они никогда не видели ничего, кроме своего ивняка и речушки. Но многие из тех, кто чудом остался в живых, еще в бессознательном состоянии начинали говорить по-немецки. Первыми словами были: «Hilfe, hilfe…»[5]5
«Помогите, помогите…» (нем.).
[Закрыть] – затем некоторые из них произносили целые монологи на языке, которого они раньше не знали, и говорили о таких вещах, о которых из-за своей необразованности не могли иметь ни малейшего представления. Жена доктора, рыжеволосая медсестра Елизавета Николаевна Честухина, слышала много таких монологов на немецком языке, когда перевязывала головы прооперированным раненым, и не могла найти ответ на эту загадку. Однако она знала немецкий язык и понимала ученые речи простых мужиков.
Она не хотела утомлять рассказами о случившемся своего мужа, посылавшего к ней из третьего вагона новых спасенных и будущих знатоков немецкого языка, но принялась внимательно выслушивать этих странных раненых. Один солдат, в приписном свидетельстве которого значилось, что он поденщик из Ясной Поляны, имения покойного Льва Николаевича Толстого, всю вторую половину дня рассказывал ей о Гёте. Он был в состоянии какого-то сна, даже не мог открыть глаза, но непрерывно говорил: «Als Goethe im August 1831 mit dem noch fehlenden vierten Akt den zweiten Teil seines Faust abgeschlossen hat, sagt er zu Eckerman: Mein ferneres Leben, kann ich nunmehr als reines Geschenk ansehen, und es ist jetzt im Grunde ganz einerlei, ob und was ich noch etwa tue». («В августе 1831 года, закончив недостающий четвертый акт второй части „Фауста“, Гёте сказал Эккерману: „С этих пор я могу считать свою будущую жизнь настоящим подарком, в принципе совершенно безразлично, сделаю ли я что-то еще“».) Через две койки от него какой-то тяжелораненый декламировал стихотворения Шиллера, прочитанные Лизой в юности. Громко, как на сцене, он читал отрывок из стихотворения «Идеал и жизнь»: «Wenn, das Tote bildend zu beseelen / Mit dem Stoff sich zu vermählen / Tatenvoll der Genius entbrennt, / Da, da spanne sich des Fleisses Nerve, / Und beharrlich unterwerfe / Der Gedanke sich das Element». («Когда сквозь мертвый камень блеснет дух света / Чтобы соединиться с тупой материей / Сияние гения – это какой-то скульптор зажигает большой огонь; / Следите за его усилиями: он планирует каждый нерв / Смотрите как он вставляет в строки исконные силы / Достаточными мыслями, идущими благодаря работе рук».)
Лиза подумала, что произошла замена раненых. На поле сражения царит страшная сумятица, и русские санитары подобрали образованных немецких солдат. Нужно дождаться, пока они придут в себя, но один за другим раненые, говорившие по-немецки, умирали. Одни – через день, другие – через два, после неутомимого декламирования немецких стихотворений или произнесения одних только бессвязных немецких слов. Некоторые из них все-таки вышли из комы, и когда она спросила у них, кто они, то услышала, что перед ней действительно безграмотные крестьяне и полуграмотные ремесленники. Лиза спрашивала, учили ли они когда-нибудь немецкий язык, но они не могли ответить на ее вопрос и все время повторяли, как ненавидят немцев…
Так проходило время, но прооперированные Сергеем раненые недолго говорили по-немецки. Это происходило лишь в течение нескольких дней после Церского сражения в далекой Сербии, в то время как под скальпелем патологоанатома Мехмеда Грахо умирали и студенты, и поэты, чьи души при помощи бессознательной трансверсии невидимыми ладьями мертвых перемещались на восток, в расколотые головы русских поденщиков. В конце августа 1914 года, после сражений под Шталлупёненом и Гумбинненом, доктору Сергею уже не удавалось спасать столько раненых. Те герои, которых ему удалось вернуть к жизни и передать на попечение Лизе, больше не говорили ни на русском, ни на немецком, но стонали на языке известном и общем для всех солдат израненной Европы.
На одном и том же языке стонут, на одном и том же языке умирают – и на востоке, и на западе. В области Лорены и Эльзаса, на Западном фронте многие французские юноши с радостью приняли участие в приграничном сражении, уверенные в том, что одна пуля, один выкрик и одна перебежка решают все. В бой спешили деятели искусств, «отказывающиеся в эти дни от алкоголя, чтобы как можно лучше подготовиться к войне», и официанты, что прежде их обслуживали. Они думали, несколько неосторожно, что потребуется совсем немного времени, чтобы все закончилось, и жалели, что в этот момент за ними не наблюдают возлюбленные, провожавшие их в Париже незабываемыми выкриками и украшавшие стволы винтовок цветами, которые теперь, в засушенном виде, каждый носил на груди.
Но все было иначе, чем они себе представляли. В пограничных сражениях на северо-западе Франции по причине легкомыслия младшего и высшего командного состава в последние дни августа 1914 года погиб цвет французской молодежи и офицеров. Смерть вылавливала своей сетью крупную рыбу, и не удовлетворялась даже тогда, когда ее улов был настолько тяжел, что ей с трудом удавалось уползти с поля боя. Для молодого офицера Жермена Деспарбеса Великая война началась тогда, когда он после больших потерь в Эльзасе и Лорене написал письмо высшему командованию.
«Я думаю, что работа Красного Креста является на самом деле позорной, – говорилось в письме, – возле города Леонвиль я пришел в себя среди мертвых солдат и провел среди них целых три дня. „Ничего страшного“, скажете вы, но я хочу вам описать эти три страшных дня до того момента, как меня наконец нашла команда Красного Креста. Эти строки я направляю вам в глубочайшей уверенности, что скоро сойду с ума, поэтому надо писать как можно скорее, мой почерк становится неразборчивым даже для меня самого.
Я пришел в себя на рассвете, в каком-то лесочке возле дороги. Вначале я почти не мог пошевелиться и напряженно ощупывал правой рукой вначале левую руку, потом ноги. Понял, что взрыв гранаты меня не зацепил. Провел руками по животу и плечам, лизнул большой и указательный пальцы. По вкусу пыли я понял, что на мундире нет крови: вероятно, меня не задела ни одна немецкая пуля. О, как я обрадовался в этот момент, а не следовало. До второй половины дня я лежал на чем-то мягком, только местами твердом и выпуклом, и мне казалось, что это холмики и трава. Я не мог ни резко шевельнуться, ни полностью поднять руки, ни понять, что это не холмики и не трава, а тела моих товарищей.
Где я и на чем лежу, я пойму только на следующий, второй день, проведенный с мертвецами. В то утро я поднялся окрепшим и почти здоровым (кажется, это был последний день августа) и увидел – мой Бог! – это побоище. Мертвые были везде, куда мог достичь мой взгляд. Повсюду они лежали один на другом и так переплетались между собой, что были подобны какому-то новому человеческому гумусу, из которого должны прорости новые ростки войны. Некоторые солдаты не лежали, а сидели с открытыми глазами, и мне казалось, что они еще живы. Подбежал к одному, потом к другому в надежде, что мне ответят, но она оказалась напрасной. Некоторых из них смерть настигла так быстро, что жизнь не успела упорхнуть из их глаз, и они сидели, а другие – что почти невероятно – стояли, прислонившись к павшей лошади или дереву. Двое друзей, обнявшись, встретили смерть на земляничной поляне. На их лицах кровь смешалась с соком ягод, которые они, вероятно, ели перед смертью, собрав последние силы…
Я начал кричать, звать на помощь, но и в этот день никто из Красного Креста не появился. Как мученика, злой демиург осудил меня на жизнь. Я хотел убежать оттуда, но вокруг было необозримое скопище мертвецов, и мне казалось, что даже если бежать под солнцем целый день, то не увидишь ничего, кроме новых груд мертвых тел. Поэтому я остался там, где очнулся. Подумал, что будет еще меньше шансов получить помощь, если я стану бродить. Было ли решение остаться на прежнем месте правильным, я не знаю.
В этот второй день, проведенный среди мертвых, я определил тот участок земли, где мог ими заняться. Я распутал тела товарищей и, насколько смог, очистил их раны. Помог им сесть или прилечь в пристойной позе, словно в каком-то театре. Думаю, рассадил так целую сотню. А может быть, и больше. Под вечер мне захотелось собрать сведения о них, и я забрал у каждого военный билет, это были: Жак Тали, студент, Мишель Мориак, интендант, Збигнев Зборовски, солдат Иностранного легиона… Может быть, я все еще был человеком довоенного времени, пока не познакомился с ними и не посмотрел им в лицо. В этот момент они для меня перестали быть неизвестными солдатами.
Я представил себе, что бы они делали, если бы смогли пережить атаку под Леонвилем. Тали смог бы стать известным хранителем Осеннего салона, Мориак разбогател бы на торговле винным уксусом, а Зборовски мог отправиться польским послом во Францию. А так?.. Так они были просто молчаливыми мертвецами!
В конце дня меня безусловно стал покидать разум. Да, я слышал, как они говорят. Отвечал им, даже начал с ними пререкаться, хотя еще осознавал, что все это – и свои, и их слова – произношу только я. Некоторых товарищей я полюбил, других – нет, а когда проснулся на третий день, то подтащил поближе к себе тех, кто стал мне особенно дорог. В этот третий день мы сели в кружок, но разговор долго не завязывался. В кармане одного из моих лучших друзей, интенданта Мориака, я нашел колоду карт. Я знал, что не следует этого делать, но ужасное одиночество заставило меня решиться на то, о чем я сейчас пишу со страхом и стыдом…
Этих четверых своих друзей я посадил в кружок и начал играть с ними в „лорум“. Я тасовал карты и раздавал их: одному, другому, третьему и себе. Их окоченевшие руки и пальцы я согнул так, чтобы они держали полученные карты, а потом началась игра. Я выбрасывал свою карту, а затем обходил всех игроков. Обмана не было, я себе не подыгрывал. Каждый сбрасывал по карте, и выигрывал наиболее везучий. Новая раздача, новый обход игроков, и игра… и за себя, и за своих друзей…
Наш Красный Крест нашел меня как раз посредине партии, которую я должен был выиграть. Меня отправили на лечение, сначала в Мец, а потом в Париж. Прошу вас считать все написанное абсолютной правдой и предпринять нужные меры, чтобы наши санитарные команды как можно быстрее находили выживших, чтобы они не считали напрасным искать среди сотен трупов хотя бы одного, кто еще дышит. Если бы меня заметили в первый день, я бы остался человеком, а теперь стал кем-то другим, и этот кто-то меня пугает и останется чужим навсегда».
Так писал Жермен Деспарбес, но в те дни вряд ли кто-нибудь это прочел. Если исходить из основного стратегического замысла, первой должна была потерпеть поражение Франция, и немцы в начале Великой войны сосредоточили основные силы на западе, вдоль французской и бельгийской границ, потом войска будут переброшены для разгрома России. Поскольку оборона восточной французской границы от Бельфора до Вердена считалась неосуществимой, немецкое верховное командование в духе старого – девятнадцатого века – «плана Шлиффена» большую часть своих сил сконцентрировала на правом крыле линии Аахен-Мец. Сперва все это не было похоже на войну, так как Германия требовала «только свободного прохода» через Бельгию. Поскольку она его не получила и поскольку Британия встала на сторону храброго бельгийского короля Альберта и его народа, немецкие армии Клюка и Бюлова пришли в движение. Они двигались по Бельгии, как косарь по нескошенному полю. Уже 24 августа 1914 года немецкая конница вошла в Брюссель, первый город в военном турне Ханса-Дитера Уйса, великого немецкого баритона.
Прославленный Уйс прибыл в Брюссель вместе со штабом Первой армии Клюка. Веселые кавалеристы стояли возле своих взмыленных коней и распевали «Die Wacht am Rhein»[6]6
«Стража на Рейне» (нем.).
[Закрыть] и «Deutschland über alles»[7]7
«Германия превыше всего» (нем.).
[Закрыть], а Уйсу все это казалось немного смешным. Однако ему и в голову не пришло громко засмеяться. На следующий день был назначен его концерт, и он помнил, сколько усилий потратил на то, чтобы найти среди бельгийских пленных концертмейстера, а потом отыскать в покинутом городе поцарапанный бехштейновский рояль. Настройщика на горизонте не было, а инструмент с открытой крышкой демонстрировал свои струны, как наготу… Одному старику требовалось три дня, чтобы добраться до Брюсселя, и концерт для офицеров высшего ранга мог состояться в ратуше только в конце недели. Маэстро Уйс сам подобрал репертуар. Он не собирался исполнять произведения тех композиторов, которые оказались в лагере противника, также отверг арии из «Фауста» Гуно или из любимого им «Бориса Годунова», ведь первая опера была на французском, а вторая на русском языке. Ему казалось, что лучше предпочесть Моцарта и добавить что-нибудь из Россини и Верди (итальянцы еще сохраняли нейтралитет). Точно в пять минут девятого концерт начался. Лишь одно мгновение он колебался, стоит ли снять форму и надеть концертный фрак. В уверенности, что будет выступать перед солдатами, решил остаться военным и удивился, заметив в зале много офицеров с дамами. Ему сказали, что командующие Первой и Второй армий Клюк и Бюлов не смогли прийти на концерт из-за успешных военных действий и отступления бельгийцев к Атлантическому побережью, а французов – к самым пригородам Парижа. Поэтому на первом концерте в «освобожденном» Брюсселе присутствовали их начальники штабов, большие почитатели искусства маэстро Уйса. Может быть, ему было немного обидно, что в зале нет главнокомандующих, однако он вышел на сцену и запел. Два-три раза он остановился и закашлялся, но для немецких офицеров, которым так не хватало оперы, это выступление было единственным удовольствием. После концерта они подходили к маэстро со слезами на глазах и говорили, что он принес в этот страшный ад кусочек цивилизации. В этот момент он узнал, кем оказались присутствующие дамы. Это были бельгийские и голландские проститутки, никогда не покидающие тонущий корабль и всегда счастливые, если их клиенты довольны. Они громко смеялись, восхваляя его на плохом немецком, и Уйсу это было неприятно. Не столько из-за этих «дам» в заплатанных платьях, сколько из-за своего исполнения. «Я пел как несыгранный оркестр… Боже, как долго я не выступал! С того самого концерта в „Дойче-опере“». С этими мыслями он покинул Брюссель и направился вслед за армией Клюка, как будто был интендантом, доставляющим оперные арии вместо запасов фасоли и жевательного табака. Немецкие генералы были ему за это благодарны и каждый раз выглядели счастливыми.








