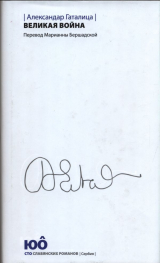
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц)
Два старых друга и соратника обнялись; в этот момент раздался крик. С французской стороны кто-то запел арию Командора: «Don Giovanni, a cenar teco / m’invitarsi, e son venuto» («Дон Жуан, я иду на ужин, ты пригласил меня, и я пришел») – и вслед за этим сразу же раздались пулеметные очереди. Едва увидев улыбающегося Дон Жуана, Лепорелло пошатнулся и упал. Своим крупным телом он прикрыл Уйса от пуль гневного певца из французских окопов, адресовавшего свои выстрелы явно немецкому великому баритону, а не шотландскому басу.
Вместо Дон Жуана на ничейной полосе потерял жизнь его верный слуга Лепорелло. Так Великая война началась и закончилась для славного шотландского артиста, когда он решил ответить на голос маэстро Уйса и спел в первой военной опере 1914 года. Как только шотландец упал, кто-то закричал. Немецкие солдаты подбежали к Уйсу, чтобы оттащить его назад в окоп, а тот никак не хотел оторваться от Макдермота. Он едва не задохнулся от слез – оплакивал Эльзу, а теперь и Эдвина из Эдинбурга.
Имя убийцы Лепорелло навсегда осталось неизвестным, в том числе и потому, что эта смерть повлекла за собой цепь неожиданных благоприятных перемен на фронте под Авьоном. Казалось, погиб мессия: смерть шотландского солдата положила начало переговорам, а затем, в канун Рождества, и перемирию между частями 93-й немецкой дивизии, 92-м шотландским полком и 26-й французской бригадой. Шотландский священник, отец Донован, в полночь отслужил мессу для тысячи человек, а не следующий день, в Рождество, были похоронены все мертвецы, которых долгое время невозможно было собрать между окопов. На похоронах Макдермота играли шотландские волынщики, а Уйс пел над его неглубокой солдатской могилой, клянясь, что исполняет моцартовского Дон Жуана в последний раз.
С ТИФОМ ДЕЛА ОБСТОЯТ ТАК
Человек чувствует, как в нем рождается озлобление, которое быстро углубляется и превращается в усталое отчаяние. В то же время им овладевает некая психическая слабость, распространяющаяся не только на мышцы и сухожилия, но и на функции всех внутренних органов, включая желудок, с отвращением извергающий любую пищу. Несмотря на сильную потребность в сне и общую усталость, сон бывает беспокойным, неглубоким, наполненным страхом, не приносящим свежести. Мозг страдает; он становится тупым, растерянным, словно бы окутанным туманом. Голова кружится, во всех членах ощущается какая-то неопределенная боль. Временами, без каких-либо причин, начинается носовое кровотечение. Это начальная фаза.
Это было начальной фазой состояния многих белградцев, когда в конце декабря 1914 года началась эпидемия тифа. Сербские газеты с нескрываемым злорадством писали об оспе в Венгрии и холере в Австрии, но обходили молчанием сербский тиф. А болезнь надвинулась с дунайской стороны, через лужи и мелкие речные рукава, где скопилась мутная от крови и мертвых тел вода: ее своими волнами принесла больная Дрина и заразила и без того болезненную Саву, передавшую хворь нерешительному, полному ужаса Дунаю. О том, что необходимо что-то предпринять, догадались обессилевшие болотные цапли и небольшие мелководные лягушки, но они ничего не могли сказать людям, пьянствовавшим в кафанах и праздновавшим второе выдворение швабов из Сербии, певшим те же песни, что и в начале Великой войны.
Первые заболевшие обвиняли трактирщиков и кислое вино за плохой и беспокойный сон и головные боли, не прекращавшиеся с утра до вечера. Потом появились какие-то огни там, за Бара-Венецией, и люди подумали, что это цыгане, вместе с освободителями возвратившиеся в свои землянки и лачуги, жгут какое-то рванье. А это санитарные власти потихонечку жгли одежду первых заразившихся, еще не желая объявлять эпидемию, чтобы враг оставался в неведении и не смог использовать тиф в своих интересах.
Вскоре первые заразившиеся сыпняком свалились с ног. Теперь казалось смешным то, что они обвиняют в своем печальном состоянии разнузданные пьяные компании своих собутыльников. У них стучали зубы; на коже груди и живота появились черные фурункулы размером с чечевичное зерно. Бессознательное состояние становилось все более глубоким, а десны и зубы покрывались какой-то черноватой смолистой массой. Но даже когда из многих домов стали доноситься вопли, эпидемия тифа в Сербии объявлена не была.
В Белград, Шабац, Смедерево, Лозницу, Валево – во все города вплоть до Ужице и вновь освобожденных территорий на юге тиф вторгся как всадник, но топот копыт его коня не слышен был даже в самой глубокой тишине. Болезнь распространялась подобно сорняку на запущенном поле, и вскоре больницы были переполнены несчастными, за которыми ухаживали сестры Сербского Красного Креста, в свою очередь заражавшиеся от пациентов. Их лечили доктора всех званий, вскоре тоже превращавшиеся в пациентов. На помощь сербским докторам прибывали врачи из Греции и Британии, но и они становились жертвами сыпного тифа… Так болезнь уносила тех, кто не погиб в сражениях.
Тифом заразился и неудачливый торговец «Идеалином». Для Джоки Вельковича Великая война закончилась в тот момент, когда его бессмысленный водянистый взгляд остановился на картинке в новом календаре: сербский солдат с надписью на спине «1915» попирал австрийского солдата с надписью на груди «1914». У сербского солдата было решительное лицо святого Георгия, победителя под Цером и Колубаром, австрийский глядел снизу вверх, еще готовый – подобно подлой змее – ужалить врага…
В седьмом часу пополудни Джока Велькович испустил последний вздох, подобный пушинке, выпорхнувшей из пустой подушки. Был Новый год – 1915 год по юлианскому календарю.
В тот же самый день «Железный князь» Николай Николаевич нехотя праздновал Новый год в Генеральном штабе русской армии. Он мало говорил, мало пил и свысока посматривал на своих перессорившихся генералов. Рано отправился в постель. Нашел предлог. Сказал, что у него болит голова.
Сергей Честухин и его жена Лиза встречали Новый год по юлианскому календарю в Риге, на самом севере Восточного фронта. После времени побед наступило время поражений, но Сергею удалось на черном рынке купить для своей Лизочки янтарь из Кёнигсберга, он был невероятно красив, с застывшей в середине пчелой. Лиза вертела его в руках. Янтарь светился, как мед окаменевшей пчелы, как ее волосы цвета меди, выкупанные в солнце. «Лучше бы мне верховное командование подарило на Новый год Марусю», – сказала героическая медсестра, упрямо вытирая с лица слезы, лившиеся из глаз цвета сепии.
Самый известный немецкий баритон Ханс-Дитер Уйс не мог вспомнить, как он встретил новый 1915 год. Это было не странно, ведь многие солдаты позже тоже не могли сказать, где находились во время больших праздников.
Писатель Жан Кокто вернулся в Париж. Он получил отпуск. Прибыл в «Город света» как настоящий военный франт: выглаженная, обрызганная одеколоном форма, каска стального цвета. Всем в «Ротонде» и «Доме» он хотел продемонстрировать, как «роскошно воевал» в 1914 году. Пикассо он не нашел.
Люсьен Гиран де Севола канун Нового года провел возле радиотелеграфа. В тот день он прочел в «Паризьен», что у операторов беспроводной телеграфной связи есть профессиональные болезни, например вывих указательного пальца, которым они выстукивают знаки азбуки Морзе, и после всех увиденных им ужасов он смог – в новогоднюю ночь – только посмеяться над этим.
Жермен Деспарбес в новогодний вечер написал еще одно отчаянное письмо, начинавшееся с «Дорогая моя Зоэ…», а кончавшееся «Скажи мамочке, что я не монстр. Я все еще жду тебя, но рядом со мной лежит заряженный пистолет…»
Фриц Крупп провел новогоднюю ночь в экспериментальном самолете типа «Aviatik D.I». Он полюбил этот самолет, как женщину, и не мог дождаться 1915 года, чтобы направить его прямо на Париж. Он гладил авиапулемет и говорил про себя: «Ты убьешь Пикассо, уверяю тебя».
Так же как и маэстро Уйс, солдат Штефан Хольм не мог вспомнить, где и с кем он встретил новый 1915 год.
Эфенди Йилдиз диву давался, насколько опустели стамбульские улицы. Покупатели поредели, по улицам слонялись оголодавшие псы, а на противоположной стороне Золотого Рога кто-то постоянно жег костры, дым от которых низко стлался над водой и даже здесь, на другой стороне бухты, неприятно забивал ноздри. В первый день нового года неверных он даже не вспомнил, что это какой-то особенный день.
В первый день нового года по григорианскому календарю во всей Европе установился сильный мороз. Первого января по юлианскому календарю взошло лоснящееся солнце, оно боролось с восковыми облаками на горизонте. На Восточном фронте стояли немецкая, австрийская и русская армии – от Риги до Черновцов; на Западном окопались французская, британская и немецкая армии – от Остенде до Милхаузена. На Южном фронте Австрия готовилась наступать на Сербию – и все думали, что настал последний год войны, которая разразилась, чтобы предотвратить все будущие войны.
Вероятно, только Мехмед Грахо, тот самый патологоанатом, в морге которого и началась Великая война, думал иначе. Он почесывал на затылке немногие оставшиеся седые волосы и считал на толстых пальцах, по-детски их растопырив: в Зворнике тридцать, нет, сорок два дня, не меньше девяти обреченных в день, а потом в Белграде не меньше сотни, за исключением тех немногих, кому удалось спастись… Он нес ответственность не менее чем за пятьсот смертей, а как же все остальные доктора-смерть, генералиссимусы-смерть, химики-смерть? «Нет, большая погибель только начинается», – сказал он себе, не испытывая особенных угрызений совести.
Новый год шумных католиков, а за ним – тихих православных Грахо встретил в Сараеве, и обе эти даты значили для него немного. Для него гораздо более важным было то, что удалось найти ботинки, не жавшие его отечные ноги ни с одной стороны. «Молодец!» – похвалил он самого себя; так и закончился год одного патологоанатома.
1915
ГОД ТОРГОВЦЕВ
ЗАПАХ СНЕГА, СМЕШАННЫЙ С БОЛЬШИМИ УГРОЗАМИ
В Стамбуле человек должен прожить шесть дней, если он путешественник; шесть недель, если он житель Запада и хочет познакомиться с Турцией только с хорошей стороны; шесть лет, если он купец, неверный из Бейрута или Александрии, и хочет быстро разбогатеть; шесть десятков лет, если он правоверный купец и намерен осесть в Стамбуле; шесть веков понадобится ему и его потомкам, если они хотят раствориться в камнях мостовой, деревьях, воде и кровообращении этого города над водой, и шесть тысячелетий, чтобы стать падишахом, владыкой правоверных…
Так гласит народная мудрость, и торговец восточными приправами Мехмед Йилдиз часто повторял ее в чайных и в обществе досужих возниц. Сам он мог насчитать уже почти шесть десятилетий, проведенных на улицах Стамбула. Да, так он считал, поднимая свои толстые пальцы и отмечая десятилетия. Его отец, Шефкет Йилдиз, торговец тканями и мехами, перебрался в столицу из Измира в золотые времена реформ Махмуда II и здесь, на Галате, среди еврейских торговцев, открыл скорняжную мастерскую и солидную меховую лавку. Мехмед в это время ходил в руждию – исламскую начальную школу, а его мать была при смерти, что не мешало отцу целые дни – с утра до вечера – проводить в трудах. Он предлагал свои товары, как пророк, а не как купец. На каждый мех у него был особый взгляд. С легким поклоном султанского дегустатора вина он произносил «норка», подчеркнуто растягивая «р», когда показывал товар настоящему покупателю; уже чуть сильнее согнувшись в поясе, как какой-нибудь западный слуга, он важно произносил «соболий мех» словно «сервус»[13]13
Servus (нем., австр.) – здравствуй, привет.
[Закрыть] и демонстрировал шкурку, подчеркивая ее тонкость; в полном поклоне произносил «горностай» и приглашал покупателя в заднее помещение мастерской, чтобы там за чашкой мятного чая договориться о цене.
И дела шли хорошо, вот только Шефкет Йилдиз становился все более одиноким и уже походил не сам на себя, а на кого-то другого. И когда его жена умерла от чахотки, и когда его сын Мехмед навсегда остался печальным и изувеченным, его глаза оставались сухими – он просто запирался на складе в Хасеки и уже на следующий день предлагал соболей, как настоящий еврей. Так Йилдиз еще в ранней молодости понял, что существуют турки, которые находят себя, и те, что вывихнуты из своих суставов. Первые остаются на месте в ожидании перемен, чтобы сломаться самим или сломать эти самые перемены. Представители второй группы отправляются изучать медицину и приходят к выводу, что она – враг человечества; уезжают, чтобы под фонарями Рима или Парижа стать западниками, и понимают, что Европа – враг ислама; они влюбляются в революцию, и обнаруживают: чем больше она обещает, чем больше ждут от нее в будущем, тем меньше она дает. Тогда эти, из второй группы, возвращаются, но – увы! – не могут попасть в свое гнездо, ибо форма, отлитая для них, давно треснула.
Этого торговец Мехмед Йилдиз боялся больше всего: того, чтобы стать вот таким другим и похожим на отца, который говорил, что для торговли стать другим – это хорошо, ибо меховщики продают не товар, а мечты и статус. Поэтому сын без сожаления продал отцовское дело, как только Шефкет Йилдиз перенес первый инсульт, без раздумий оставил общество евреев, последний раз спустился по холодным, обледеневшим ступеням Камондо и покинул Галату. Под Топкапы на деньги, вырученные от ликвидации меховой торговли, он открыл лавку по продаже приправ и специй, но отцовский образ мыслей и теперь продолжал ему угрожать, как будто он мог передаться ему по воздуху или по крови. Поэтому он хотел быть только турком и любить своих помощников. В конце концов ему стало казаться, что у него есть все, что он прочно сросся со своей формой, но Великая война на пороге его семьдесят шестого дня рождения и шестого десятка торговли в Стамбуле угрожающе показала, что он может присоединиться ко второй группе, к тем, кто после шестидесяти лет должны покинуть Босфор и пуститься в скитания без обличия и идентичности. Но все-таки он надеялся, что этого не произойдет. Пятеро его помощников были в армии, но на всех фронтах пока что было спокойно. Только бы прошла и эта зима, зима его плохого настроения, грозящая уже здесь, у ворот Азии, снегом и холодом. Говорили, что температура даже на уровне воды опустится ниже минус пяти, а ветер из Анатолии доносил запах снега, смешанный с большими бедами.
Сербская печать не сообщала, упала ли температура в Стамбуле ниже нуля. В Белграде между тем все замерзло: заледенело железо, стены Калемегдана превратились в ледяной камень, в земле невозможно было выкопать даже ямку для сдохшей кошки. Январь 1915 года принес с собой звенящую тишину после гибели целого поколения на Дрине и Сувоборе. Легкомысленные компании поющих скандалистов, славивших свободу в сентябре 1914 года, давно заразились тифом и поредели, а веселье с их уст уже унес зимний ветер, летящий с рек и несущий с собой стоны смертельно больных людей. Те, кто еще не заболел, – ни веселые, ни печальные – выходили на улицу, закутавшись во всякое тряпье. И дым из импровизированных печурок благотворительных обществ, казалось, обратился в воск и колыхался над головами добровольцев, предлагавших прохожим плохонький, но спасительно горячий чай.
«Ну и страшная же эта зима!» – обычно кричал с порога журналист «Политики» Пера Станиславлевич Бура, бросая на вешалку франтоватый, слегка поношенный полуцилиндр, снимая затвердевшее на холоде пальто и складывая черный зонт, защищавший его от редкого снега, который вроде бы и не мог идти при такой низкой температуре. «Бура, разве эта ощипанная курица вместо зонта может защитить тебя от снега?» – шутили над ним журналисты, а он отвечал им незлобивой улыбкой. Бура принадлежал к числу тех людей, что весь день чувствуют себя счастливыми. Он и сам не знал почему. Великая война началась для него в тот день, который казался ему удивительно прекрасным. Кто-то рождается счастливым и во всем видит только светлую сторону. Таков был и этот весьма незначительный журналист столичной газеты.
Может быть именно потому, что Бура был весельчаком, редактор поручил ему вести рубрику «Пока они были здесь: записки о тринадцати днях». В этой развлекательной и циничной колонке нужно было освещать интересные происшествия в среде сербских ловкачей за время двух неполных недель австрийской оккупации Белграда в декабре 1914 года, и Бура воспринял задачу очень серьезно. Заходил в бакалейные лавки, разговаривал с какими-то мужеподобными дорчольскими бабами, у которых из родимых пятен на лице росли черные волосы, выслушивал сплетни досужих трепачей. Коллеги утверждали, что он даже со скотиной разговаривает и знает, как пережил оккупацию каждый вьючный вол у железнодорожного вокзала. Вопреки пренебрежительному отношению собратьев по перу, Бура приобрел известность. Читателям понравились его остроумные рассказы о стажере из Палилулского квартала, придумавшем, как заставить австрийцев выплатить долги, о суеверном хорватском солдате, упавшем с коня на углу улиц Короля Александра и Короля Милутина, о невероятной храбрости одного сербского раненого, сперва прятавшегося от австрийцев, а потом осмелевшего настолько, чтобы не только украсть австрийскую форму и разгуливать в ней по улицам, но и распивать вино с оккупантами, считавшими его своим…
Редактор скрывал от Буры, насколько тот стал популярным, «чтобы не разбаловать его», а веселый журналист возвращался в свой дом в Савамале и был счастлив. Бура не отличался красотой: у него сохранилось лишь немного волос около ушей, а лицо было вытянуто вперед, как будто кто-то еще в материнской утробе потянул его за нос – и вытянул наискось и морщины на лбу, и брови, и глаза. Но Бура был счастлив даже с такой непривлекательной внешностью – «мирный журналист», не скандалист, не крикун. Проживал он вместе с матерью и женой. Детей у супружеской пары не было. Казалось, ничто не может нарушить гармонию этого дома, куда Бура ежедневно привносил хорошее настроение. Вопреки сербским нравам, мать не ссорилась со снохой, и обе они любили Буру. А потом в доме журналиста в Савамале поселился тиф. Вначале заболела старушка и очень скоро умерла. Ее похоронили в тот день, когда Бура опубликовал в своей колонке статьи «О чем мечтал г. Шварц, правитель города Белграда» и «Практикант Аброд охраняет Скадарлию». Смерть матери не очень опечалила Буру. «Она была старенькой, таков порядок вещей», – сказал он себе почти весело.
Но через две недели заболела и жена Буры. У нее поднялась высокая температура, а когда-то красивые зубы покрылись черным налетом. Она сильно мучилась, а в конце просто глубоко откинулась на подушке, устремив свой последний взгляд на мужа. Ее похоронили в тот день, когда популярный журналист напечатал заметки «Пока у нас есть русские, нам нечего бояться» и «Кельнер из кафаны „Македония“». Бура стоял возле неглубокой, с трудом выкопанной могилы и плакал. Плакал горько, как будто его бросили, как будто он своей жене Стане не муж, а сын… Вернулся домой с надеждой, что врожденная веселость и на этот раз выручит его, но пустой дом, где гулко отдавался каждый шаг, что-то надломил в нем. Коллегам казалось, что внешне Бура не изменился. Умело скрывая собственное состояние, он оставался прежним «веселым Бурой» и какое-то время продолжать вести рубрику «Пока они были здесь». Однако через некоторое время окружающие заметили, что он очень сильно изменился – некогда беззлобный человек на глазах превращался в заносчивого и амбициозного журналиста, каким он никогда не был.
Вскоре он потребовал от редактора повышения, заявив, что хочет писать передовицы. Сказал, что, прославившись своей рубрикой, теперь будет освещать беды в стане врага: голод, болезни, финансовые кризисы. Редактор ничего не имел против. Более того, идея даже понравилась ему. О страданиях врага должен был писать кто-то столь же озлобленный, как Бура. Так он стал автором передовиц. Каждое утро Бура отправлялся на Савскую пристань и у каких-то парней, распространявших вокруг себя неприятный запах угольной пыли из корабельных бункеров, покупал «императорскую и королевскую» (kaiserlich und könglich) прессу Двуединой монархии. Обмен происходил быстро, однако не потому, что по-прежнему было холодно. В Белграде немного потеплело, и мокрый снег падал на непокрытые головы курьеров. И Бура, и его поставщики торопились: они – потому что рисковали жизнью, доставляя ему газеты на немецком и венгерском, а он – потому что не видел смысла в обоюдных любезностях. Он молча платил и забирал газеты, без тени улыбки на своем когда-то всегда веселом лице.
Затем он писал о том, о чем даже не упоминалось во вражеских газетах: Германия стоит на пороге банкротства, в деревнях на севере Венгрии царит голод, а в австрийской армии столько солдат, добровольно сдавшихся русским, что следовало бы организовать их переброску из России в Сербию… Редактор полюбил Буру и считал, что жизненные потери закалили его и превратили в выдающегося журналиста. Однако он ошибочно оценивал прежде такого веселого Перу Станиславлевича Буру.
Тоскующий и в глубине души безнадежно уязвленный тем, что ни одна сербская газета даже не упомянула о тифе, уничтожившем его семью, Бура придумал план, который дерзко осуществил в передовице на первой странице «Политики». Краем уха он слышал, что в Австрии распространилась холера, и предложил регулярно сообщать о ходе эпидемии. Совершенно ясно, что это предложение не вызвало протеста, хотя его идея написать о тифе в Сербии была категорически отвергнута. Так в начале января 1915 года слово «холера» стало часто мелькать на первой странице «Политики», но в текстах Буры оно было только синонимом слова «тиф». Что же сделал Бура, доверительно разговаривавший с волами у железнодорожного вокзала? Ему были доступны секретные данные о тифе в Сербии, и он придумал, как их опубликовать.
Он изучил список хорватских жупаний[14]14
Жупания (хорв.) – административно-территориальная единица в Хорватии.
[Закрыть] и за каждой закрепил название какого-нибудь сербского среза[15]15
Срез (серб.) – административно-территориальная единица в Сербии.
[Закрыть]. Сремская жупания играла роль Моравичского среза, Пожегская жупания на самом деле означала Левакский срез, Карповацкая жупания – Мачванский, Сисакская жупания – Шумадийский и т. д. Загреб, само собой разумеется, выступал как Белград. Потом и каждый город из упомянутых жупаний получил своего «побратима» в Сербии, и Бура начал публиковать данные о количестве заболевших и умерших от тифа в Сербии на первой странице «Политики» – под прикрытием тщательного подсчета заболевших холерой в Хорватии. Оставалось только запустить ключ к своей «шифровке» в массы. Сперва он хотел напечатать небольшую листовку, но от этой идеи пришлось отказаться из опасения, что его быстро «вычислят», да и необходимости в этом не было, как оказалось. Несколько его самых болтливых коллег быстро распространили новость повсюду, и теперь читатели могли легко получать сообщения о ситуации с «запрещенным» в Сербии тифом.
Жители Моравичского среза следили за «ситуацией с холерой» в Сремской жупании. Те, у кого были близкие в Чачаке, смотрели, сколько «заболевших холерой» в Товарнике, интересующиеся Иваницей следили за положением дел в Шиде. А сами жители Белграда были хорошо информированы о «распространении холеры в Загребе». Нетрудно догадаться, почему обман достаточно долго оставался нераскрытым. Политики, да и сами журналисты не имеют привычки прислушиваться к народу, который, покупая «Политику», повторял: «Бог тебя благослови, Бура!» Сыщики остались с носом, «Бюллетень Буры» продолжал выходить в течение следующих десяти дней, пока журналист не обнаружил у себя первые признаки тифа. Вначале он почувствовал слабость и отсутствие аппетита. На первых порах это его не обеспокоило: он, такой худой, и раньше почти ничего не ел. Но потом Буре все время хотелось спать. Он приходил в редакцию с отекшим лицом, с синевой под глазами и обновлял свой ежедневный бюллетень, считая это самым важным делом. Редактор предложил ему отдохнуть, но он не согласился. Превозмогая боль во всем теле, он из последних сил, перед самым завершением гранок завтрашней газеты, увеличил число «умерших от холеры в Загребе» с 1512 до 1513.
Тысяча пятьсот тринадцатой жертвой тифа в Белграде стал журналист, бывший весельчак со сломанным черным зонтом, Пера Станиславлевич Бура. С его смертью перестали выходить бюллетени о холере в Австрии, а читателям еще долго рассказывали странные байки о «Буриных шифровках», тайну которых не смогли разгадать ни доносчики-любители, ни столичные сыщики-профессионалы. Таким образом для тысячи пятисот тринадцатой жертвы тифа в Белграде Великая война закончилась 16 января по старому стилю.
В тот же день на далеком Кавказе Великая война закончилась и для стамбульского продавца приправ, но об этом его хозяин эфенди Мехмед Йилдиз узнает позже, когда вспыхнет большой пожар в махалле[16]16
Махалла (тур.) – квартал.
[Закрыть] Эмирджан. Так уж ему суждено – узнавать плохие новости под полыхание огня. Пожары стали неотъемлемой частью пятивековой истории Стамбула, и его жители были постоянно готовы потерять в огне свои деревянные дома поблизости от Босфора, а вместе с ними и все имущество. И все-таки, вопреки всему или именно поэтому, пожар стал неизменной частью общественной жизни, и если где-то он разгорался, сотни тайных пироманов: детей, женщин, досужих зевак, почтенных господ и даже пашей – собирались, чтобы посмотреть на летящие в небо искры и вдохнуть дым от горящего букового дерева, неприятно щекотавший ноздри.
Было начало января 1915 года, когда загорелась фабрика красок. Эфенди услышал о пожаре вскоре после вечерней молитвы, так что и он, как старый житель Стамбула, поспешил взглянуть, как красные и голубые языки пламени лижут небо над фабричной крышей. Он добежал до берега, поймал какую-то лодку и вскоре оказался на противоположной стороне. На улочках, ведущих к фабрике, быстро собирались группы людей. Колыхание толпы, неотрывно созерцающей пожар, и огонь, уже охвативший деревянные дома, не вызвали у торговца ни слезы, ни вздоха. Смирение с судьбой и турецкое приятие всего происходящего охватили Йилдиза, но в этот момент к нему протиснулся сквозь толпу смутно знакомый человек. Он не мог вспомнить, кто же это был: деловой партнер, конкурент, чиновник или какой-то бездельник.
Тот сказал ему: «Эфенди Йилдиз, ты, конечно, слышал о гибели нашей армии на Кавказе?» Это был подходящий момент, чтобы сообщить нечто подобное. В будничных обстоятельствах никто не решился бы громко рассказывать такое на улицах, ведь в кафанах, на площадях и даже в своей махалле каждого турка сопровождала его верная тень. Этот обычно усатый и крепко сбитый, ничем не выделяющийся человек слушал певцов, пил содовую, не заказывая кофе, прогуливался возле лавок или трогал пальцами перезрелые фрукты, а на самом деле следил за каждым и слышал все. И эфенди Йилдиз выслушивал сообщения молча, ни с кем не обмениваясь мыслями, так же как научился читать свой «Танин» между строк. Он очень радовался, узнав о победе под Мияндулом и захвате почти всего Азербайджана, но затем военное счастье от турок отвернулось. Русская армия потеснила турецкую, это было понятно из слов «отступление на надежные позиции», «отход со стратегически бесполезных азербайджанских опорных пунктов». Наступил и самый страшный для кавказской армии день – битва под Карагулом и Остипом.
Никто не погиб; с турецкой стороны почти не было потерь – так говорилось в «Танине», но на улицах люди начали подходить друг к другу и передавать бумажки с именами погибших. Эфенди знал, что у него на Кавказе есть кое-кто свой, однако к нему никто не подходил… Впрочем, он и не пытался что-либо разузнать. Вести на Востоке, как известно, подобны ветреным танцовщицам. Прилетят к каждому, кому предназначена хорошая весть, но еще раньше вихрь принесет плохие новости. Поэтому он и сидел на своей скамеечке, обшитой красным сукном, а навстречу судьбе отправился тогда, когда решил увидеть большой пожар на фабрике красок в Эмирджане.
К нему подошел незнакомец и громко сказал: «Эфенди Йилдиз, ты, конечно, слышал, что на Кавказе в битве под Остипом погиб продавец Шефкет. Русская казачья конница порубила три сотни аскеров. Шефкета убили ударом в спину, разрубили от плеча до паха. Говорят, что отрубленные ноги Шефкета пробежали вперед еще десять метров, пока не упали на колени и не свалились вместе с половиной его тела». Так сказал незнакомец, а потом удалился. Кто это был? Как так получилось, что кто-то во время пожара на фабрике красок сообщил ему сведения словно из бюллетеня военного командования? Вряд ли эфенди Йилдиз размышлял обо всем этом. Такой способ передачи сообщений был типичен для военной Турции, а он и не подумал хорошенько разглядеть лица человека, принесшего дурную весть, – заметил лишь быстрый взгляд, шрам над правой бровью и прядь черных волос. Нет, это был голос эфира, ласковой певицы Аллаха под невесомым покрывалом, сообщающей плохие вести раньше, чем хорошие. Она выбирает первого попавшегося незнакомца и вкладывает в его уста то, что он должен сообщить.
Шефкет – его черноволосый продавец, отгонявший от них по вечерам усталость своими песнями, – теперь мертв. Эфенди не собирался проверять, ему просто не у кого было попросить подтверждения. Весть добралась до него, и он был уверен в ее точности. Он постоял в задумчивости, не заплакал, а просто повернулся и пошел в лавку. Размышляя о том, какими словами передать известие отцу Шефкета, он вдруг подумал, что в эту ночь вестница Аллаха в Стамбуле наверняка уже посетила всех, кому Шефкет был дорог, и оповестила их, так что нет нужды стаптывать подошвы и заменять ее в этом горьком деле. О смерти Шефкета, конечно же, знают и его отец, и рыжеволосый брат во Фракии, некогда до войны ловко обманывавший покупателей; знает и восьмилетний мальчишка, самый младший брат Шефкета, отправленный к Мехмеду вместо двух крепких продавцов. Все знают. Шефкет погиб. И к тому же позорно, как зверь, рассеченный пополам казачьей шашкой на какой-то пустоши…
Город Остип не знал, что в ту ночь умерла часть души старого торговца пряностями. У него оставались еще четыре помощника, сражавшихся на этой Великой войне, и теперь он усердно молился Аллаху о сохранении их жизней, а для милого Шефкета мог просить только об его упокоении в райских садах. Между тем на следующее утро все в жизни торговца осталось прежним: так, как нужно и как должно быть. Будильник зазвонил. Эфенди встал. Сел в трамвай, идущий к Айя-Софии. После молитвы пешком спустился вниз к берегу. Посвистел возле стен дворца, желая увидеть, не высунется ли клюв одного из зеленоватых соловьев падишаха. Потом открыл лавку. Определил цены на этот день, начал выкрикивать их и торговаться с покупателями, будто бы не умерла навсегда часть его души. На миг он сам себе удивился и подумал, что во всем виноват будильник: звонит каждое утро и докладывает о неизбежном приходе нового дня.








