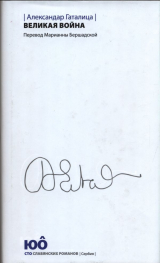
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 32 страниц)
Для свергнутого царя 1917 год завершился в Екатеринбурге, в доме Ипатьева. Царь Николай с семьей встречал Новый год за столом с разномастными тарелками. Он звенел вилкой о краешек – так же, как и во снах тех, кто видел его будущее – и готовился к позорной смерти от рыбьей кости в горле. Выбрал одну подходящую, обвел глазами стол и беззвучно попрощался с каждым из своих детей, но вдруг остановился. Ему пришли на ум слова Николая Федорова: «Дух братства нельзя организовать в кругу людей, живущих здесь и сейчас. Человечество составляет целое, а дух братства должен распространяться и на мертвых – на „отцов наших“». Он выплюнул подходящую для самоубийства косточку и улыбнулся Анастасии, посмотревшей на него так, словно она мгновенно все поняла. Он продолжил есть и вспомнил Соловьева, предвидевшего, что последователи Христа окажутся гонимым меньшинством, не имеющим сил влиять на других, и таким образом вся мировая сила перейдет в руки Антихриста. Что значит этот последний день 1917 года для царя, заключенного в Екатеринбурге и окруженного тюремщиками, празднующими в соседней комнате и ревущими песни, как звери, что значит для него то, что Соловьев предрек объединение всех христиан до конца XX века и их окончательный земной триумф? Он – решил царь – убьет себя, и там, на корабле мертвых, его душа вместе с Федоровым в 2000 году встретит этих новых христиан. Там мертвый царь и мертвый философ присоединятся к ним. Он снова выбрал белую колючую, пригодную для самоубийства кость и прижал ее к мягкому небу, и снова – как трус – отказался от своего намерения. Подумал, что весь этот 1917 год, год свергнутой царской власти, он похож на рыбу, предлагающую свои кости и резиновую спину каждому, желающему подавиться. Он убьет себя – подумал царь – в будущем году, как только цесаревич Алексей немного поправится, но он ошибался. На этом заблуждении и закончился год царя, лишившегося царства.
1918
ГОД КРИМИНОЛОГОВ
КОНЕЦ-КАПУТ
«Что творит эта война? То, что она превращает людей в животных, я как криминолог уже знал, смирившись с этим в глубине своей праведной души. Необязательно быть психологом или гадалкой, чтобы предположить, что война делает людей трусами. Но то, что она может сделать человека токсичным и циничным умником, недавно меня по-настоящему напугало. Я вернулся с Корфу и три недели наблюдал, как сербские политики яростно борются за власть, один за другим провоцируя кризисы на уровне министерств. Мне было противно, что незапятнанное на поле боя сербское имя так опозорено, стыдно было даже мне, хотя я и швейцарец. Я гулял по улицам Салоников, кормил голубей, думая, что никогда больше ни с кем не заговорю.
Однако нежданно-негаданно в мою жизнь вошел с виду дружелюбный и вежливый серб Капетанович. Мы быстро сдружились, но, должен признаться, я вел себя легкомысленно. Сейчас, вспоминая о первых часах нашей дружбы, я понимаю, что, как любой иностранец, я лишь задавал вопросы, а он, как настоящий балканец, мгновенно выдавал ответы. Я решил, что наконец-то передо мной настоящий интеллектуал: мы долго и страстно говорили о Древней Греции и ее бронзовых героях, цитируя многочисленные древние каменные стихи, в основном из Гомера, которые этот офицер, к моему удивлению, знал наизусть. Вероятно, именно этот архаичный эллинский язык сначала и очаровал меня. Признаюсь, я тоже читал Гомера на греческом, но у меня никогда не было способностей запоминать стихи, а тем более целые поэмы, на родном и иностранных языках. Мой новый друг был явно не похож на меня. „Menin aeide, thea, Peleiadeo Achileos oulomenen, he myri’ Achaiois alge’ etheke“, – звучали в моих ушах первые строки Илиады, и на греческой земле они воспринимались еще более торжественно и проникновенно, чем где-либо еще на свете.
Не прошло и нескольких дней, как мой новый друг стал все больше раскрывать себя, красуясь сомнительными знаниями. Все чаще я ловил его на поверхностном мышлении, мелких противоречиях и поспешных выводах, шла ли речь о Ницше и новых философах или о Бетховене и его учениках. Тем не менее я никак не мог отвязаться от него. И в этом, по большей части, была моя вина. Каждый день он приходил ко мне с намерением пообщаться, как будто не замечал моего растущего недовольства. Однажды мы отправились на юг, к прекрасным пляжам Пелопоннеса, к искрящемуся Эгейскому морю, и там он нес всякую ахинею. Еще как-то раз мы забрели в оливковую рощу в северных окрестностях Салоников, где он с энтузиазмом поведал мне, что каждый лес, встречающийся на его пути, напоминает ему лес Бетховена из „Пасторальной“ симфонии, в которой так удивительно звучит щебетание птиц! Какие птицы? Из какой симфонии? Оставался месяц до наступления на Южном фронте, которое грозило убить все, что цеплялось за жизнь, но, возможно, не что иное, как близость смерти заставила молодого господина Капетановича добавить меня к числу своих доверенных лиц и поведать мне свою жизнь, удивительно схожую с его познаниями.
Он начал с прошлого века, однако я пропущу эти мелкие детали его героического детства. Когда история его семьи дошла до 1914 года, мне стало очень страшно. Молодой Капетанович ничего не утаивал. Он даже не думал скрывать ни одно из своих извращений, просто покрыл их слоем морального грима, желая представить мне все это в лучшем свете. Я полагаю, как истинный балканец он рассчитал, что, будучи иностранцем, я наивно поверю всему, что он скажет. Он говорил так: „Правда в том, любезный господин Райс, что на этой войне я и не думал умирать. Но разве это недостаток? Вы скажете, что это трусость, но я отвечу, что это героизм, который будут прославлять. Посмотрите на это так: миллионы умерли, еще десятки тысяч присоединятся к ним в 1918 году. Те, кто отправился форсировать капризную Дрину и склоны Сувобора в 1914 году, призывая госпожу смерть, сегодня, согласимся, вряд ли живы. А о мертвых, сударь мой, никто не помнит. Повезет тем, кто, по моему примеру, не лез на рожон и остался цел до последнего боя, сохранив себя, присоединившись к победному маршу. Итак, вы разговариваете с будущим сербским героем, сообщаю вам об этом заранее. Но поскольку мы друзья, вам я могу сказать, что никаким героем я никогда не был…“
После такого вступления мне пришлось признать, что все аргументы были на его стороне. А этот вертопрах, казалось, знал об этом, продолжая рассказывать мне о начале своего ратного пути. Он прибыл в Шабац за день до Великой войны, 29 июля 1914 года по сербскому календарю. Он въехал в город на машине своего отца. Отпрыск богатых родителей. Одет в выглаженную серо-синюю форму офицера запаса. Одного взгляда поверх двери лимузина было достаточно, чтобы соблазнить скромную майоршу по имени Ружа. Он пригласил ее. Катаясь по городу, они заехали в рощицу недалеко от реки Савы. И ей он тоже повторял, что любой лес сразу напоминает ему „Пасторальную симфонию“ Бетховена, а затем они обменялись обещаниями, подкрепив их планом. Этот план сломал жизнь одному майору и увлек в опасную неизвестность одну майоршу, но виновник этих несчастий спустя четыре года причитал: „Не думайте, сударь, что я не оказал майорше Руже большую услугу. Что бы она делала без меня? В первую неделю войны она бы так или иначе овдовела. А так она была свободна, романтическая беглянка, словно героиня какого-нибудь романа, которыми во все времена зачитывались девицы. И кто посмеет сказать, что я поступил дурно! Я отвез ее в Битоль, куда отец отправил меня на службу, подальше от фронта. О, как я ею наслаждался, сударь, она была только моей: как мотылек, порхающий вокруг лампы. Она бросила все, никого на этом свете у нее не осталось, но, ясное дело, скоро мне наскучила. Я уехал из Битоля в конце сентября. Конечно, без нее. Позже мне сообщили, что она меня искала и что жизнь ее быстро пошла по наклонной: она стала просить милостыню на паперти, рассказывая наивным людям, что не по своей вине оказалась в таком положении. Но какое мне было дело до всего этого? Я никогда не обещал ей старость, а только молодость, и она ее получила. Мою молодость, господин Арчибальд, на три недели. Об остальном ей надо было позаботиться самой, не так ли?“
„Ну, это уж слишком“, – подумал я, но промолчал, а Капетанович продолжал свой рассказ. Сообщил мне о том, что он являлся депутатом Скупщины уже с 1914 года, доказывая еще раз этим фактом, что в конечном итоге станет героем. Именно он вместе с Велизаром Вуловичем предложил постыдный закон, по которому депутатов можно призывать в армию, но нельзя отправлять на передовую, но и это он объяснял логикой вероятности и необходимости. Затем была история переезда Скупщины с солнечного Корфу в еще более солнечную Ниццу. Это вы наверняка знаете, тот позорный эпизод, когда эти странные депутаты-бездельники воинственной и героической нации посчитали, что остров Корфу недостаточно комфортен, а может быть, и недостаточно безопасен, поэтому решили перенести свою штаб-квартиру на Лазурный берег. И этому у моего друга Капетановича было достойное оправдание: „Послушайте, что могло случиться, если бы мы остались на Корфу. Правительство втянуло бы нас в водоворот своих партийных разборок, и мы не смогли бы принимать трезвые решения в пользу своего переселенного народа. Нет, доктор Райс, нам пришлось уехать еще дальше от Сербии, чтобы увидеть ее целиком на расстоянии, полюбить ее еще больше и решить, что для нее лучше…“
После двух зим, проведенных на Лазурном берегу, мой молодой друг все-таки вернулся в Салоники. Незадолго до решающего наступления; вероятно, для того чтобы, как он давно это решил, подготовиться к статусу героя этой Великой войны. Таким образом, мы подошли к сегодняшнему дню. Господин Капетанович готов вернуться в освобожденный Белград, который он описал мне в самых неприглядных и грустных тонах („Представьте, пожалуйста, кто там остался: человеческие уроды и морально отсталые люди…“) – но так, будто он перелетит туда. Я не доверял своим друзьям, не верил в боевые качества врага, но думал: перелететь в Белград не получится. Его подкараулит какая-нибудь шальная пуля, предназначенная ему, так пусть его окружит хоть сотня штабов с офицерами. Поэтому я сказал ему: до свидания, господин Капетанович. Я надеюсь, что Белград будет хотя бы немного красивее, чем вы себе представляете».
«Я сказала маме: прощай. Надеюсь, что тебя арестуют уже сегодня. Я не собираюсь переезжать к тебе. Не хватало мне еще делать с тобой подпольные аборты в больнице Боделок. Она назвала меня „дрянью“ и „шалавой“ и вышвырнула на улицу. Прими меня назад, Фуджита, пожалуйста. Твоя крошка, в мокрых трусах, Кики». Это было написано Алисой-Эрнестиной Прен, по прозвищу «Кики», на обратной стороне визитки, слегка заляпанной двумя-тремя пятнами красного вина. Эту карточку через десятые руки она попыталась передать художнику Фуджите, сидевшему в веселой компании на другом конце кафе «Ротонда». Визитка, конечно же, была не с именем Кики – у нее никогда не было своей визитной карточки, – а принадлежала художнику-витражисту, который написал свое важное имя витиеватыми буквами: «Пьер-Анри-Мишель Орлан». Первая пара рук взяла визитку и прикинула, в какую сторону ее передать, вторая и третья пары рук уже немного отклонились от направления к столу Фуджиты, пятая и шестая пара доставили карточку прямо к стойке, где ее, как заблудшего ягненка, поймал дядя Либион. Он раскрыл свои мясистые ладони с визиткой внутри, прочитал сообщение и ухмыльнулся. Затем начал читать вслух: «Я попрощалась с мамой… Твоя крошка, в мокрых трусах, Кики», потом он перевернул визитку и, как будто не зная, что Кики это писала Фуджите, крикнул: «Есть здесь кто-то, кто отзывается на имя Пьер-Анри… подожди, Пьер-Анри-Мишель Орлан? Орлан, эй, Орлан! Отзовись, счастливчик, девочка промокла из-за тебя».
Все кафе так и прыснуло от смеха. Кики поглубже закуталась в мужское пальто, которое было на ней, а Фуджита даже не взглянул в направлении барной стойки. Так закончился еще один роман Кики. Ей пришлось покинуть кафе. Она переночует у своей подруги Евы в ее комнатке на улице Плезанс.
В маленькой комнате – жестяной умывальник и двуспальная кровать с латунным изголовьем, на ней могут поместиться трое. Ева не проститутка, по крайней мере она так утверждает. Она не занимается любовью за деньги, но в последний год войны у нее достаточно еды, консервов «Мадагаскар» и даже какой-то не очень ароматной колбасы, которую она получает от своих кавалеров. В то время как Ева в основном радует американцев в Париже, Кики нехотя принимается за колбасу. После этого незатейливого ужина она выходит на бульвары, поглощенные ночью. Ей кажется, что ее молодая жизнь зашла в тупик; она уперлась в стену, из-за которой выглядывает растрепанное дерево, и выхода нет, но приближается последнее немецкое наступление. Это было 21 марта 1918 года. Приглушенный рев дальнобойной артиллерии уже был слышен в центре Парижа. После поражения французской Северной армии у Шер-ле-Дам немцы снова всего в двадцати километрах от столицы. Жорж Клемансо решает заменить генералов Гийома, командующего Восточной армией, и д’Эспере, командующего Северной армией. Париж снова в осаде. Немцев можно было разглядеть с холма Монпарнас, пока на город после утренней росы не лег густой туман.
В этом весеннем тумане парижане, казалось, сошли с ума от страха и неизвестности. В первый день их странное поведение было не слишком заметно, но уже на второй день, когда клочья тумана не рассеялись даже в полдень, стало ясно, что люди посходили с ума и стали ненасытными. Впервые это было замечено на Аустерлицком мосту: незнакомые мужчины и женщины подходили друг к другу. Он говорил: «Я Жан Фабро, мастер по рамам, отныне ваш муж»; она в ответ: «Я Хана Менджицка, наборщица в типографии, беженка из Польши, только ваша жена» – и они брались за руки, словно пара, которая уже давно встречается. На другой стороне моста – та же картина: «Я Роже Рубо, артист варьете, вообще-то клоун, и ваш муж»; она говорит: «Я Бернарда Луло, корсетница, и вся твоя»… И так пара за парой. Когда кто-то выходил на Аустерлицкий мост и встречал незнакомца с противоположной стороны, у него появлялся друг или подруга. И вскоре никто уже не был один; мужья здесь, на мосту, обманывали жен, а жены, недолго думая, бросали своих мужей.
Люди, еще не зараженные любовным безумием, прослышав об этом, спешили на Аустерлицкий мост, но толкаться там не было необходимости, потому что подобное явление вскоре стало наблюдаться и на мосту Насьональ, затем на мосту Александра III и, наконец, на Руаяль, одном из старейших мостов через Сену… Вскоре все парижане передружились. За четыре дня, пока туман висел над Парижем, все нашли себе других партнеров, но никто из них не доходил в этом до конца… Они миловались, страстно обнимались под покровом тумана, женщины незаметно приподнимали ножку, прижимаясь к мужчинам, пока те целовали их, но пары с мостов расходились через несколько улиц или кварталов, как будто марево рассеивалось над ними. Тем не менее многим это нравилось, ведь некрасивые мужчины обнимали красоток только потому, что встретили их посреди моста, а вдоль всего бульвара Осман замухрышки из предместий прогуливались с кавалерами на две головы выше их. Вот почему все хотели найти «партнера из тумана».
В этот любовный туман бросилась и Кики, но результат оказался неожиданным: в мире ненормальных она стала нормальной. На середине моста Руаяль она познакомилась с молодым человеком, у которого были залысины и морщинистый лоб, но глаза оказались живыми, детскими. С сильным американским акцентом он сказал ей: «Я Эммануэль Радницкий, фотограф, и впервые в Париже. Хотя я здесь всего несколько дней, хочу стать вашим поклонником»; она ответила: «Я Алиса Прен, но все знают меня как Кики с Монпарнаса, я хочу, чтобы вы были моим защитником». Так родилась настоящая любовь, которая в течение четырех дней не была лишь позированием для тумана. Кики стала любовницей фотографа, будущего сюрреалиста Ман Рэя… Потом он вернется в Америку, и только после Великой войны навсегда поселится в Париже, но это уже другая история о другом времени.
Историю о другом времени, живые незабываемые предсмертные образы, в своем последнем полете 21 апреля 1918 года увидел Манфред фон Рихтгофен. Красный Барон был сбит огнем с позиций, занятых австралийцами, – случайно, без всякой причины, при обстоятельствах, в которых история так и не смогла разобраться. Того, за кем в воздухе никто не мог угнаться, кто уничтожил британский королевский летный корпус и был известен на острове как убийца величайшего британского пилота Лайона Джорджа Хокера, сбил из пулемета почти необученный солдат. Можно ли было предвидеть подобное роковое стечение обстоятельств? Ничего такого фон Рихтгофену в этот последний день не сказали губы его любимой: они были сухими, жесткими, как осенние листья, и поцеловали его нежно, но без всякой защиты. Последнюю ночь он провел в своей комнате на базе в Остенде. Он смотрел на обшарпанные стены, на которых собственноручно вел учет сбитых им британских и французских самолетов; над ним висела газовая лампа, спрятанная за пропеллером и частью двигателя самолета майора Хокера, освещая его скупым желтым светом. Он не мог уснуть в ту последнюю ночь своей жизни. Сколько летчиков он превратил в то, что авиаторы называли «фаршем»? Он думал, что не помнит их лиц, ему было важно лишь количество сбитых самолетов, но бессонница, лихорадка и галлюцинации говорили ему, что это не так.
Когда на следующий день он был сбит случайным огнем с австралийских позиций, это был конец. Он так думал; он был убежден в этом. Пропеллер остановился, штурвал больше не слушался. Он посмотрел в направлении падения и увидел, что эта косая линия, нацеленная в землю, через несколько десятков секунд или минут приведет его на тот свет, и подумал, что наконец может расслабиться, но затем произошло то, чего не мог ожидать ни один погибающий пилот. На этом стремительном пути к вечности Красный Барон стал замечать странные летательные аппараты, проносившиеся мимо его триплана на бреющем полете.
Сначала он увидел двукрылый самолет, похожий на немецкий времен Великой войны, но более усовершенствованный: с широким корпусом, мощным двигателем и металлической передней частью. Самолет имел немецкие опознавательные знаки, и поэтому Рихтгофен подумал, что это какая-то новая модель, сконструированная в конце войны. Только непонятно, почему не он первый ее испытал? Он почти обиделся, когда заметил уже целую группу незнакомых самолетов. У первого был совершенно новый дизайн: изогнутые верхние крылья и очень короткие нижние свидетельствовали о том, что самолеты с двумя рядами крыльев очень быстро превратятся в монопланы; на хвосте в форме сердца виднелся какой-то неизвестный ему знак в виде креста с загнутыми под прямым углом концами. И только тогда он подумал о том, в чем будет уверен в последующие несколько предсмертных секунд: он погибает, но погибает, проходя сквозь время вперед, и видит самолеты из будущего. Есть ли более славный конец для воздушного аса Великой войны? Летающий бог, Демиург, лучший летчик из всех, устраивает ему парад из самолетов будущего, чтобы поприветствовать его. Откинувшись немного назад в своем кресле, он разглядывал летающие чудеса, приближающиеся к нему из-за горизонта. А вот пошли самолеты поменьше, более округлой формы, полностью сделанные из металла. У них один ряд крыльев, раздвоенных на концах, как хвост у ласточки, и движутся они так, как он и представить себе не мог. Но вот еще один странный аппарат. В центре крыла – необычная антенна, немного левее от нее – длинный корпус, напоминающий металлическую сигару, заканчивающуюся мощным двигателем с винтом. А где же пилот? Он сидит в кабине, расположенной правее антенны, посередине. Что за странное летающее устройство?.. А это еще что? Теперь у самолетов уже нет винтов, они оснащены совершенно неизвестными ему двигателями с соплами. Одна необычная модель с немецким гербом и этим странным крестом на хвосте похожа на большое продолговатое яйцо. Пилот сидит спереди в полностью застекленной капле этого яйца, а вокруг него расположено пять сопел с верхней и три с нижней стороны. Этот самолет больше похож на машину времени, чем на самолет – такой он быстрый. Фон Рихтгофен озадаченно оглядывается. Земля все ближе. Он успевает разглядеть еще один немецкий самолет, но самолет ли это? В центральной части фюзеляжа расположена поворотная лебедка с тремя крыльями, на концах которых расположены эти сопла под углом девяносто градусов к фюзеляжу. Мотор вращает лебедку с невероятной скоростью, и она ему кажется огромным вращающимся вокруг фюзеляжа колесом. У этого самолета нет даже крыльев, но у Рихтгофена и времени больше нет смотреть на это удивительное будущее. Его самолет врезается прямиком в бруствер траншеи, занятой австралийскими солдатами. На мгновение он чувствует невыносимую боль, которая быстро уходит. Ему стыдно от ощущения, будто он весь залит кровью под своей кожаной курткой. Какие-то солдаты бегут к нему, не зная, кого они сбили, и опухшие губы Манфреда фон Рихтгофена, залитые кровью, израненные сломанными зубами, произносят одно-единственное слово: «Капут».








