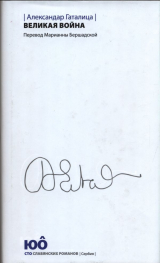
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
В этот момент в комнату, как по команде, вошли Анна Вырубова, статс-дама Нарышкина и несколько горничных. У Вырубовой под глазами черные круги, собирающиеся в складки, как парчовые занавески; у мадам Нарышкиной под толстым лицом внушительный второй подбородок, она почти ничего не видит из-за затянутых катарактой глаз; горничные кажутся смертельно испуганными. Александра стоит в центре и не принимает отказ. Она молча протягивает руки к Николаю. Он просто должен ответить и принять ее ледяные ладони. Он хотел бы ей отказать, но в настоящий момент не видит причины избежать участия в деятельности «министерства оккультизма», как называют ближайшее окружение царицы. Вызывающие духов берут друг друга за руки. С одной стороны Николая держит за руку царица, с другой – Нарышкина. Все женщины закрывают глаза. Портьера у окна шевелится, и в комнату проникает луч света. Николай не слышит никаких звуков из мира духов, но женщины рыдают и кричат «да, да!» и «конечно, конечно!». Отсутствующий звук царица заменяет своими собственными словами. Говорит глубоким, будто охрипшим голосом: «Вернется… О да, вернется. Русский трон навсегда принадлежит Романовым. Владимировичи, как ласки, ненадолго захватят престол, но скоро возвратят его Николаевичам…»
«Что ты еще скажешь, друг? – кричит царица, словно призывая ветер. – Что ты еще можешь нам сообщить? Дай нам больше света, больше света, друг…» И свет появляется, но не от взмаха руки оккультистки, а от движения какого-то человека, которого собравшиеся, привыкшие к темноте, сначала не могут узнать. «Вы просили побольше света», – звучит надменный голос, ничуть не похожий на голос привидения, человек проходит через всю комнату, чтобы закрыть за собой дверь. Тяжелый занавес отодвинул Александр Керенский, новый министр юстиции. Он делает решительный знак придворным дамам и горничным покинуть комнату. Император и императрица остаются наедине с ним. Как только все остальные выходят, министр целует руку царице и предлагает ей сесть. Она отвечает ему вызывающе, хрипловатым «голосом духа»: «Вы не можете предлагать мне это в моем собственном дворце». Царь смотрит на Керенского, подталкивает царицу к креслу и пытается сгладить ситуацию. «Вы прекрасный молодой человек, – говорит он, не зная, не обидит ли он обращением „молодой человек“ Керенского, возраста которого он не может определить, – мне жаль, что раньше я мало пользовался вашими услугами… Вы ведь не причините нам вреда?» Керенский усмехается. Усмешка слишком долго задерживается на его губах. Внезапно он становится серьезным и позволяет усмешке покинуть его лицо, как будто она была призраком. Потом он громко заявляет: бывшие царь и царица будут проживать отдельно и встречаться только во время обеда… Так началось монаршее заточение: безвыходное, безусловное и неизбежное, потому что под окнами царского дворца продолжала кипеть революция. А Россия там, совсем недалеко от дворца, расцвела сотнями красок. Все скрытое, подавленное и закулисное вышло на улицы, чтобы громогласно объявить, что оно живо, ему есть что сказать и оно умеет распознать будущее России. Все старое, преданное царю, не спряталось в подвалах или утонуло в Неве, но вытащило нарядные кавказские сабли и взмахнуло ими.
В Таврическом дворце, средоточии новых политических движений столицы, люди шевелились как муравьи; некоторые из них были бедно одеты, другие носили накрахмаленные воротнички. Тот, кто был начальником, продолжал держаться по-прежнему, советник и не предполагал, что перестанет быть советником. Никто и не думал отказываться от старой чиновничьей Табели о рангах Петра Великого, хотя тектонические изменения охватили и людей, и землю, и воду, и все стало смешиваться в отчаянном переплетении и ломке привычного.
Везде проходили митинги: на заводах, в цирках, на улицах. Театры продолжали работать, и публика каждый вечер собиралась в них, как будто ничего не происходило. Императорские орлы были сняты с царской ложи, но некоторые молодые кадеты Пажеского корпуса, заблудившиеся в новом времени, продолжали вставать перед началом спектаклей и отдавать честь в ее сторону, как будто царь все еще там… Дни совершенно отличались от театральных ночей. Улицы патрулировали свирепые полицейские, любившие читать; они убивали противников царизма, любивших читать. Солдаты Двенадцатой армии, застрявшие в грязи на фронте под Ригой, отчаянно просили доставить им книги, чтобы было что почитать…
Прочитай что-нибудь, а потом убивай, а после массового убийства обязательно что-нибудь прочитай. Nulla dies sine linea[36]36
«Ни дня без строчки» (лат.).
[Закрыть]. В таких обстоятельствах уменьшилось внимание к каждому в отдельности. Исчезли преграды, старые грехи и старые долги. В красивом доме Сухомлиновых, построенном возле церкви Спаса на Крови, спустя два дня сняли охрану. Или охранники разбежались? Вероятно, и они думали, что должны внести свой вклад в революцию или пострадать от ее руки, как счастливые несчастные в одном великом времени. Как бы там ни было, двери дома бывшего военного министра Сухомлинова с 1 марта больше не охранялись. Снаружи был театр, и в доме – тоже что-то вроде театра. Сухомлинов и Сухомлинова не слышали, что в Петрограде началась революция или, по правде говоря, не поняли масштабов переворота, потому что их мир внутри стен домашнего заключения начал странно ломать и исправлять мир наружный, приспосабливая его к внутреннему пространству шелковых чулок и нестираных подштанников.
Когда охранники разбежались и когда волнения подошли к порогу их красивого дома, Сухомлиновым была предложена свобода. Двери открылись сами собой. После двухлетнего домашнего ареста возле них не было охраны, и Сухомлинова подошла к входной двери. У некогда удивительно красивой помощницы адвоката теперь были спутанные волосы, выпученные глаза и еще большая, чем прежде, грудь, на которой выделялись крупные соски. Время парижских кремов для их смягчения и генеральской формы давно прошло. Сухомлинова вышла из дома в тот момент, когда мимо, как стая одичавших собак, мчалась группа людей. Двое толкнули ее в плечо, и она упала на тротуар. Поднялась, посмотрела на канал, сияющий в утреннем солнце, словно там была не вода, а металл. Увидела вдали церковь Спаса на Крови, окутанную туманом, будто мехом песца. Заметила и обезумевших прохожих, грабивших какой-то магазинчик, где еще можно было найти муку, – и отступила назад.
Ее мир был чем-то другим. Величайшая шпионка, она могла бы стать королевой шпионок в ореховой скорлупе, если бы ей не снились дурные сны. Она закрыла за собой двери и увидела мужа, похожего на растрепанного рыжеволосого и рыжеусого Зевса, спустившегося на нижний этаж. «Что это за шум, Катенька?» – спросил он. «Ничего, – сказала она, – какие-то взбудораженные люди бегают взад-вперед. Кто его знает, что они ищут в этом большом мире. Но здесь они не могут нам причинить вреда. Поэтому, милый, мы и дальше будем оставаться в доме. У меня страшно болит голова и снятся плохие сны. Помассируй мне ступни, пожалуйста…»
Однако не все считали, что порог дома – «самая высокая вершина на свете». Доктор Честухин в своем доме на набережной Фонтанки чувствовал себя неуверенно. Он тоже собирался остаться там, где ему все знакомо, но окна квартиры выходили на улицу, и когда от близкого выстрела полопались все оконные стекла, он решил переселиться. Куда, он не знал. Как всякий порядочный русский, он подумал, что нужно найти гостиницу. Так, как будто бы ты на Капри или в Париже. Или, когда жена выгоняет вас из квартиры, вы идете в отель с любовницей. В 1917 году женой была революция, а в гостинице его не ждала никакая любовница. Герой войны доктор Честухин взял на руки Марусю и потащил за собой испуганную тетку Маргариту и прислугу Настю, собравшую в плетеный чемоданчик только немного вещей на всех. Они бежали, прячась от пуль, пытаясь спастись, и насилу добрались до гостиницы «Астория» на Исаакиевской площади недалеко от собора.
«Астория» со всем своим персоналом была одним из тех старинных зданий, ведущих необычную трехдневную жизнь, в которую включился и доктор, и вся его семья. Все здание превратилось в пятиэтажный корабль. Никто из персонала не уходил домой, вся гостиница стала домом для работавших в ней – приближенных и просветленных. Как они договорились, как организовались за эти несколько дней так, чтобы работать как одна большая самоуправляющаяся ловушка для постояльцев, трудно сказать. В этом виновата революция, наверняка революция, которая вытаскивает из каждого человека все самое лучшее и смешивает с самым худшим, так же как при тяжелой инфекции кровь смешивается с гноем.
В такую гостиницу и вошел доктор Честухин. Торопясь покинуть улицу, он почти ворвался в «Асторию» и споткнулся. Остановился возле вращающейся двери, выпрямился и, собрав все остатки прежнего достоинства, подошел к стойке регистрации так, как если бы находился на Капри или в Венеции. Ударил ладонью по колокольчику и заполнил перед любезным служащим анкету для проживания. Сказал, что остановится в гостинице на несколько дней, и на немного некорректный вопрос: «Есть ли у господина достаточное количество средств?» – только махнул рукой. Удивительно, но этот жест убедил служащего в том, что карманы доктора битком набиты деньгами.
В этом и не было сомнений, однако все деньги, что он захватил с собой, понадобятся доктору в ближайшие дни, поскольку «Астория» действовала как большой слаженный коллектив, охватывающий и истощающий обессилевшие днем души. За все в отеле нужно было платить, а постояльцы – вольно или невольно – вынуждены были разыгрывать важных особ. Будете ли вы спускаться на завтрак? Нет, ни в коем случае, окна банкетного зала выходят на улицу, к тому же это первый этаж, что весьма опасно. Поэтому вы вынуждены заказывать завтрак в номер, а это стоит шесть рублей. Днем то же самое происходит с обедом, вечером – с ужином. Если перед сном вы хотите почистить ботинки, то не сможете это сделать, поскольку в гостинице обувь чистят только трое служащих, у которых есть щетки. Хочется вам этого или нет, вам придется звать одного из них, а это будет стоить по три рубля за каждую пару. В номере, снятом доктором, четверо постояльцев, следовательно, двенадцать рублей. Если же вы не хотите чистить обувь, служащий любезно позвонит вам в дверь и крикнет: «Господин, сейчас время чистки обуви… Господин, откройте, нужно сдать вашу обувь в чистку». Когда вы откроете дверь, он, разумеется, спросит, сколько вас в номере. Пока вы в «Астории», все должны чистить обувь, и даже Маруся должна чистить свои туфельки, – таков обычай и таковы правила ухода за собой, и здесь они соблюдаются неукоснительно.
То же самое и с другими вещами: некрепко заваренный чай из гибискуса выйдет по рублю за чашку, и его положено пить, как лекарство, минимум раз в день, свежее белье меняется ежедневно, и это стоит два рубля, даже задать любой вопрос служащему на стойке регистрации обойдется в двадцать копеек независимо от того, знает он ответ на него или нет. Тот, кто выдерживает, остается в гостинице, счета оплачиваются в полдень и в восемь часов вечера. Пожалуйста, господин, очень приятно, мадам. До свидания, господин, нам очень приятно, что вы остановились в «Астории». Это было последнее, что услышал Честухин, когда, проведя три дня в этой гостинице-пиявке, истратил все деньги и решил вернуться в свой дом на набережной Фонтанки.
Но за эти три дня революция разгорелась неугасимым пожаром, и возвращение домой растянулось на целый день беготни, остановок и поворотов на боковые улицы, настолько же приближавших скитальцев к набережной Фонтанки, насколько и удалявших от нее. Сразу же после того, как они вышли из гостиницы, доктор, как набожный христианин, хотел войти в Исаакиевский собор, но возле входа один старик сказал ему: «Не входите, это зрелище не для детских глаз». А потом шепнул ему, будто доктор был его единственным другом на свете, что не прошло и десяти минут, как из собора вышли казаки с окровавленными руками и саблями. Они застали внутри двадцать полицейских, преданных революции и республике, спавших мертвым сном после патрулирования. Казаки тихо подошли к ним и некоторым свернули шею, а другим перерезали горло. Многие даже не проснулись и умерли во сне. Просто вздохнули и взвизгнули, как поросята, которых закалывают под Рождество. Никто не встал, никто из спящих даже не пытался обороняться…
«И вы тоже, господин, не входите», – повторяет этот добрый человек, но Честухин возражает: «Я врач, может быть, там все-таки есть выжившие». Оставляет Марусю с Маргаритой и входит в Исаакиевский собор. Сцена, представшая перед ним, напоминает живописное полотно: восковые тела и запекшаяся кровь, словно нанесенная на трупы густыми мазками. Вначале он ходит между погибшими, а затем начинает метаться и переворачивать их. Сквозь высокие окна собора пробивается голубоватый свет и смешивается с алым цветом крови на белых воротничках полицейских. Их тела неповоротливы и плохо гнутся, но кажутся теплыми, словно в них еще теплится жизнь. Он осматривает одного – мертв, второго, третьего, десятого, каждого… Все как на картине: на застывшем пальце сияет кольцо-печатка, из раскрытого рта блестит золотой зуб жертвы. Казаки проделали свою работу быстро. Не оставили в живых никого. Запах свернувшейся крови поднимается до самого купола, он настолько тяжел, что его не может выдержать ни один хирург. Доктор бежит, спотыкается и, наконец, снова выходит на площадь перед Исаакиевским собором. Коротко говорит: «Здесь для меня не оказалось работы, идем дальше». Старику оставляет какие-то мелкие деньги, а сам все еще ощущает запах мертвых.
Однако он не должен сдаваться, не имеет права быть слабым. Он прижимает к себе Марусю и резко сворачивает на Малую Морскую улицу, где становится свидетелем странной сцены. В маленьком скверике перед входом в один из домов хоронят погибшего офицера. Собравшихся немного, но они перекрыли улицу. «Сейчас, сейчас», – повторяют они доктору и его спутницам, как будто собираются остановить движение только на короткое время, необходимое для похорон. Даже два попа читают молитвы по двухдневному герою петроградской улицы. Доктор останавливается, снимает шляпу. Слушает священников, которые, как ему кажется, отвешивают ему пощечины этими «слава тебе, Господи», «чистая и непорочная», «прости ему все прегрешения», и готов заплакать и истерически засмеяться одновременно. Но он не решается сделать ни того ни другого, потому что товарищи неизвестного героя уже смотрят на него как на своего и даже говорят, обращаясь к нему: «Он был прекрасным человеком и храбрым солдатом». – «Да, он был воином», – отвечает им доктор, и ему удается как-то выбраться из толпы и продолжить путь дальше. Все время после полудня он со своими спутницами избегает очередей и одиночных пуль. Теперь тетка и горничная не тащат плетеный чемоданчик, его ручка отвалилась еще на Невском проспекте.
К вечеру все устали настолько, что были готовы лечь прямо на улице и отдаться во власть беспорядка, но им уже оставалось совсем немного, чтобы вернуться в свой дом. После долгих странствий они наконец вошли в свою квартиру. Двери были взломаны, комнаты ограблены, а вещи в них разбросаны. Хотелось плакать, но на это не было сил. Они пожалели, конечно, что вообще отправились навстречу революции. Маргарита и Настасья сразу же принялись наводить порядок, а доктор еще раз прижал дочку к груди и погрузился в глубокий сон. Он снова был дома, и это было самое главное.
Наконец-то следовало вернуться домой и великому князю Николаю Николаевичу, который в должности наместника на Кавказе всегда чувствовал себя неуютно. Между тем в первые месяцы нового 1917 года он продолжал оставаться преданным солдатом империи. Готовил наступление на Кавказе, мечтал о строительстве дороги Россия-Грузия, когда услышал об отречении брата и о своем повторном назначении на пост главнокомандующего русской армией в Великой войне.
Сказал ли он что-нибудь по этому поводу, знают только самые близкие. Сожалел ли об участи брата, знает только он. Офицеры его штаба видели, как он собирается в дорогу спокойно, без каких-либо движений на изборожденном морщинами железном лице. Ему нужно прибыть в Могилев и принять командование. Дорога туда долгая даже в мирное время – из Азии в Европу. Он пакует совсем немного вещей. Ведь он все-таки солдат. Ему предстоит – этого он сейчас еще не знает – командовать русскими босоногими силами меньше десяти дней, так что много вещей и не понадобится.
ИХ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО
«Отец, отец мой, – повторял про себя торговец восточными и европейскими приправами Мехмед Йилдиз. – Отец, мой неправедный отец, мой отец-пророк, мой одинокий отец, мой неверный отец, мой вывихнутый из сустава отец, прошло шестьдесят лет, как я стал торговцем на булыжной мостовой Стамбула. Наступил 1917 год, и мне пора в дорогу. Ты помнишь, как у нас говорят: шесть десятилетий проводит в Стамбуле торговец, если хочет задержаться в нем и укрепить свое дело…»
«А шесть веков, – Мехмед в ответ словно слышал своего отца Шефкета, – почему бы для нас, Йилдизов, не стали мерой шесть веков? Турецкая мудрость гласит: на шесть столетий в Стамбуле задерживаются правоверный турок и его потомки, если они хотят, чтобы их род вошел в деревья, воду и кровоток города над водой».
«Отец, отец мой, – говорил торговец приправами, – ты виноват, ты разбил колодку, предназначенную для нас. Ты помнишь меха? Ты предлагал товар как пророк, а не как торговец, как неверный, а не как турок. Ты был похож на сирийцев, людей из камня, и на иранцев, людей из междуречья, и на евреев, людей из пустыни. Ты остался в одиночестве. Ничей. Чужой. Евреи не хотели считать тебя своим, сирийцы отворачивались от тебя на улице, люди из междуречья делали вид, что не знают тебя. Турки выкинули тебя из своей компании…»
«Но ты, сын, – казалось, снова отвечал ему старый Шефкет Йилдиз, – ты все исправил. Ты продал магазин мехов, покинул еврейское общество неверных и в последний раз спустился по обледеневшим ступеням Камондо. Ты стал турком до последнего седого волоска на голове. И пять приказчиков ты принял в лавке, как настоящий турок. И полюбил их словно сыновей, как и положено настоящему турку. И проводил их на Великую войну, как отец-турок. Потом бил поклоны и надеялся, как настоящий турок. И любую глубину ты рассматривал в двух измерениях, как подлинный турок. И лживую газетенку „Танин“ ты каждое утро читал за чаем, как всякий турок. Ты до сих пор думаешь, что праведный падишах живет на Золотом Роге и каждое утро выходит в сад, чтобы побаловать своих кротких соловьев, непривычных к раннему колкому снегу! Разве шесть десятилетий торговли ты не продал десять раз и не превратил в шесть веков? Разве не в этом состоял смысл моего убийства, когда ты бросил меня больным, предоставив подыхать, как какой-то собаке?»
«Нет, отец мой, нет, отец, – возражал Йилдиз-младший, – твоя судьба и западные странствия проникли в мои волосы, под кожу и в мою кровь. Я продавал и обвешивал – бесполезно. Нам, Йилдизам, дано в Стамбуле не шесть веков, а всего-навсего шесть десятилетий. Вчера исполнилось семьдесят шесть лет моей жизни и шестьдесят лет моей торговли. Теперь я жду, жду последнего известия, и с каждой минутой мне становится все радостнее. Это точный знак того, что надвигается самое худшее…»
Так торговец разговаривал с тенью своего отца, а самое худшее именно сейчас и приближалось. Для некоторых людей, в основном для неверных, конец наступает с плохими новостями, для настоящих, ставящих в игре все, что они имеют, конец приходит с хорошими знамениями… Для торговца европейскими и восточными пряностями конец пришел вместе с благоприятными новостями с театра военных действий. На двух фронтах Великой войны, еще интересовавших торговца, положение турок улучшилось. Его больше не интересовал Кавказский театр военных действий, где недалеко от Остипа зарубили его первого приказчика – тезку его отца Шефкета; он больше ничего не хотел знать о движении армии на Галлиполи, где пал его второй помощник, брат Шефкета Орхан, ему и в голову не приходило интересоваться Месопотамией, ведь там, в окопах, окружавших красный город Карс, он потерял своего третьего помощника, несостоявшегося счетовода.
Теперь в газете «Танин» Мехмед Йилдиз быстро просматривал вести с других фронтов, интересуясь лишь двумя направлениями, где правоверные сражались с неверными. А оттуда, с этих двух концов света, именно в первые месяцы 1917 года приходили только хорошие известия! В Персии в конце 1916 года был убит командующий гяуров граф Кауниц, а в Палестине русская армия после беспорядков у себя в стране понемногу таяла, как живые люди в живой грязи… Йилдиз радовался этим новостям, но улыбка на его лице была только внешней гримасой, вежливым проявлением патриотизма для младотурецких диктаторов, которых он называл праведниками. Поэтому Йилдиз был неинтересен для шпиков, по обыкновению пивших чай в тени за соседним столиком в прокуренной чайной. Старик с Золотого Рога дружил с себе подобными, но у него было всего несколько приятелей, в основном дремавших, пока он рассказывал им поучительные истории о великом падишахе. Это были те самые «новые друзья», обретенные им в конце 1916 года. В наступившем 1917 году Йилдиз, словно заведенная кукла, по-прежнему продолжал усмехаться. Или отводил взгляд в сторону, или опустошенно смотрел на своих новых приятелей и улыбался. Не хотел размышлять о конце, не смел, ведь конец теперь сам думает о нем.
Так и было. Произошла битва при Газе 16 марта 1917 года, и до Йилдиза дошла весть, что погиб и его четвертый помощник. Мог ли торговец заплакать, нужно ли было ему печалиться? Нет, улыбка не покинула его лица. Его приказчик Нагин, его милая долговязая жердь со звонкой улыбкой, разгонявший у них все озабоченные мысли, погиб, защищая Иерусалим, этот пуп мира. И чего же ему не смеяться, почему смерть приказчика не может его развеселить? Он, Нагин, воевал на подступах к городу, украсившему свое облачение и христианскими, и еврейскими, и мусульманскими символами. Он перекрывал подход для неверных британцев, а из города до защитников долетали легкие, как восточные танцовщицы, краски и запахи. Только защиту Стамбула можно сравнить с защитой Иерусалима, ибо только под этими городами текут такие шумные подземные реки неверных, и только на изломе земной коры их воды находятся настолько близко к поверхности, что в любой момент могут затопить оба города другой верой, другим цветом и другими запахами. Погибнуть за то, чтобы цвет Турции остался господствовать в Иерусалиме, – что может быть прекраснее? Может быть, только обстоятельства несчастной кончины Нагина могли огорчить старого торговца. Его приказчика переехало какое-то железное чудовище, которое островные гяуры-британцы называют «танком». Оно превратило его в мешок крови и костей, и было невозможно понять, где у него голова, а где – ноги… «Нет, нет, – отказывался верить в это Йилдиз, – он просто погиб, просто погиб в окружающих город окопах, а как – неизвестно. Пал на пути в город, благодаря смерти Нагина хотя бы еще на час оставшийся турецким».
Так думал Мехмед Йилдиз, обманывая себя, что улыбкой и новой партией в домино с новыми сонными двухмерными приятелями или болтовней с Хаджимом-Весельчаком можно отвратить неминуемый конец. Но 1917 год требовал свое, и он его получил. Это был, вспомним, шестидесятый год торговли, и его даже во сне нельзя было считать одной десятой шестивекового пребывания Йилдизов в Стамбуле. Всего лишь одним днем позже торговцу сообщили, что погиб и пятый, последний его помощник. Его убила горстка оставшихся в строю кубанских казаков на том фронте, где русские, осыпанные пылью революции, исчезли и навсегда вышли из Великой войны. Там пал самый младший помощник, совсем мальчишка, 1897 года рождения. Его – как последнюю жертву – зарубили русские казаки, нераскаявшиеся грешники, лишний день или лишний час убивавшие только потому, что их послали в далекую Аравию и они не могли своими шашками помочь находившемуся в столице царю.
Это был конец. Улыбка исчезла с лица торговца. Он громко повторил имена своих помощников: рыжеволосый Шефкет Фишкечи погиб возле города Остипа на Кавказе, когда казачья сабля рассекла его надвое в какой-то пустоши; Орхан Фишкечи, его черноволосый брат, был убит в Галлиполи метким выстрелом со стороны австралийцев в тот момент, когда он видел свой самый красивый сон; Шефик Кутлуер умер от цинги в Карсе, под крепостными стенами из железной земли; Нагин Турколу пал на подступах к Иерусалиму; самый младший помощник, неграмотный Омер Актан, зарублен шашками последних верных долгу казаков с Кубани…
Дождь снова начинается в Стамбуле – городе праведников, достроенном, украшенном и укрепленном на диких подземных реках неверных; в городе, которому остается только на одну ночь заснуть крепким сном и проснуться уже христианским, византийским… Капля за каплей, жизнь за жизнью – казалось, это снова шепчет дождь, уверенный в том, что здесь уже нет ничего, что стоило бы забрать… Остается сдаться? Распродать товары из лавки за гроши? Попытаться? Торговаться? Обманывать? Попробовать сбежать? Нет, огонь уже погас в постаревшем теле. Мы видим, как торговец восточными пряностями собирается в дорогу. Каждого из своих помощников он – мысленно – заворачивает в бледно-зеленую ткань и опускает в могилу своих воспоминаний. Он собирает пять чемоданов. Вскоре переупаковывает все необходимые вещи в три чемодана. Останавливается. Думает. Уменьшает багаж до одного чемодана. Затем отказывается и от этого багажа и берет с собой только маленькую удобную сумку из пестрой верблюжьей кожи, но даже в нее почти ничего не складывает. Вставляет ключ в замок. Однако дверь не запирает. Небольшие остатки приправ оставляет бродягам или грабителям. В последний раз смотрит на мост через Босфор и на Галатскую башню. Где-то осталась лестница Камондо, по которой он спустился, когда оборвал все связи с еврейскими торговцами. А теперь он спускается вниз к Золотому Рогу. Уходит. В неизвестность. Его время истекло. Шесть десятилетий торговли завершаются шестью смертями. Есть ли более неудачливый торговец, чем он? Останавливается. Оборачивается…
Великая война для Мехмеда Йилдиза закончилась, когда он исчез из жизни и ушел в рассказы о нем. Одни говорят, что сердце Йилдиза разорвалось возле стоянки кучеров на Босфоре. Они утверждают, что он рухнул как мешок, когда веселая душа наконец покинула его печальное тело. Другие говорят, что он отправился в неизвестность, куда-то далеко, чтобы дотянуть до конца своего семьдесят шестого года в этой жизни без жизни, жизни после жизни, жизни после шести десятилетий блестящей торговли в Стамбуле. Третьи утверждают, что он ни о чем не думал, никому ничего не сообщил, и теперь, где-то вдали от Великой войны, счастлив среди неверных, крепко сжимая в руках единственную сумку из верблюжьей кожи, которую захватил с собой.
И первые, и вторые, и третьи согласны только в одном: никто никогда больше не слышал о Мехмеде Йилдизе, торговце восточными и европейскими приправами.
Так еще до своего завершения Великая война закончилась для одного успешного стамбульского торговца, а в Нью-Йорке она вовсю бушевала задолго до своего начала. Утренний удар гонга нью-йоркского отеля «Астор» означал еще один прекрасный день для многочисленных немцев, собиравшихся здесь. «Астор» был местом сбора мелкой рыбешки и крупных хищников с немецкими фамилиями, всех тех, кто не жалел сил, чтобы помочь своему отечеству, «Фатерланду», и убедить Америку никогда не вступать в Великую войну. Было 5 апреля 1917 года, и десять миллионов американских немцев и немок в это утро спрашивали себя, что они сегодня могут сделать для отечества, не задумываясь о том, что оно может сделать для них. Одним из первых в отель вошел картограф Вилли Бертлинг. Вместе с Адольфом Павенстедом, основателем нью-йоркской газеты «Staats-Zeitung»[37]37
«Государственная газета» (нем.).
[Закрыть], он изучил карты Бельгии, которые нужно было опубликовать. На этих тщательно сфальсифицированных картах Бельгия была не завоевана, а «справедливо разделена между великими державами», так что королю Альберту больше нечего было делать. Оба посмотрели на карты и пришли к согласию, что это удержит американцев от вступления в войну.
Спустя всего час пятнадцать минут в уютный салон для курения гостиницы «Астор» вошел доктор Хуго Мюнстерберг и занял место под большой сушеной барракудой. Он пригладил черные подкрашенные усы и огляделся как человек, довольный собой. Мюнстерберг был врачом-лоботомистом родом из Массачусетса, блистательным выпускником Калифорнийского университета, но человеком, глубоко погрязшим в шовинизме начала XX века. Знакомство с теориями доктора Ломброзо о форме черепа и определении по ней преступников или революционеров изменило профессиональную жизнь доктора Мюнстерберга. Поэтому начиная с 1917 года он занимался «типичными формами черепа», а свои знания поставил на службу Германии еще до 1914 года. Сейчас он пришел к окончательному выводу о том, что параметры черепа «типичного американца» и «типичного немца» полностью совпадают, и захотел поделиться своими открытиями с послом Германии в Вашингтоне графом фон Бернсторфом. Эти два человека встретились около десяти утра. Они пожали друг другу руки, а потом долго рассматривали фотографии черепов. В конце разговора согласились, что это убедит американцев не вступать в войну.
Около полудня гонг в отеле «Астор» ударил еще раз. В Нью-Йорк прибыл Вальтер Дреслер, американец, шеф Берлинского журналистского агентства. Он свободно путешествует, хотя находится под наблюдением. Блестящий выпускник Джульярда, до Великой войны он был директором популярной немецкой школы для мальчиков в Вирджинии. Сейчас Дреслер считает, что его место в Европе, рядом с кайзером. В «Асторе» он должен встретиться с одним несчастным человеком – Робертом Фаем. Судя по имени, нельзя было сказать, что этот заговорщик немецкого происхождения, но его желание уничтожить британцев свидетельствовало именно об этом. Фай должен показать Дреслеру проект самой разрушительной бомбы, изобретенной человеческим умом. Когда Дреслер позвонил у стойки портье и изъявил желание снять одноместный номер на одну ночь, Фай уже переминался с ноги на ногу в музыкальном салоне, где небольшой оркестрик исполнял немецкие военные шлягеры. Они встретились сразу же после того, как важная особа из Берлина привела себя в порядок в своем номере.








