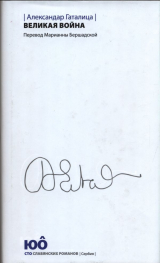
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Люсьен Гиран де Севола в новогоднюю ночь придумал, как использовать свои довоенные таланты, и стал первым командиром французской роты военного камуфляжа.
Подводник Вальтер Швигер встретил Новый год, как ему и положено – под водой, со своими змеями, мегалодонами, морскими драконами и кракенами. Команда в новогоднюю ночь пела или…
Солдат Джорджо Кирико продолжал писать свои метафизические полотна, а в новогоднюю ночь благодарил бога за то, что о его подражателе Карло Рота нет ни слуху ни духу.
В день прощания со старым 1915 годом Аманда Хенце стала самой счастливой и самой несчастной матерью на свете. Ее сын Ганс Хенце сел за рояль перед немногочисленными слушателями и исполнил «Колыбельную» Шопена, разумеется, только правой рукой, потому что левой он умел не играть на рояле, а писать стихи на французском языке.
Тринадцать дней спустя по старому стилю новый 1916 год встретили и Сухомлиновы. Старый год они провели под домашним арестом в своем доме в Петрограде. Бывший военный министр безуспешно пытался сперва подкупить охрану, чтобы ему купили бутылку грузинского коньяка, а затем соблазнить свою леди Макбет на то, чтобы она предоставила ему хотя бы часть белых парусов своего тела – хоть с носа, хоть с кормы, – но, не добившись успеха ни в том ни в другом, уснул недовольным и встретил новый 1916 год во сне.
Великий князь встречал Новый год в старом Тифлисе, в штабе вместе с казаками, и чувствовал себя как в клетке. Он был окружен простыми людьми, настоящими убийцами, стершими для этой одной-единственной ночи кровь со своих шашек, рук и папах. Но это был Кавказ, и именно с такими подданными наместник встретил новый 1916 год.
Нейрохирург Сергей Честухин в конце 1915 года был демобилизован и вернулся в Петроград. На фронте все больше солдат становились жертвами фаберовского газа, и поэтому для хирурга прибавилось работы в той клинике, из которой он отправился на фронт. Благодаря этому Сергей и Лиза Честухины снова встретили Новый год вместе. Правда, это было не совсем так. Лиза, словно отвергнутая, сидит в углу. Сергей стоит, опираясь на косяк двери. Лиза улыбается. Сергей серьезен. Лиза встряхивает волосами цвета меди и по-детски машет рукой, разгоняя дым. Сергей продолжает курить папиросы, набитые черным табаком. Такая картинка встречи второго военного Нового года осталась в памяти Маруси.
Госпожа Лир не дожила до встречи нового 1916 года. Умерла в Нише, под артиллерийскую канонаду, незадолго до того, как болгары промаршировали по городу. Госпожа Лир умерла на улице среди всеобщего бегства. Люди хлестали волов, вокруг их ног метались шерстистые свиньи мангалицкой породы. Мимо нее двигались разоренные крестьяне, цыгане со своими кибитками, офицеры с орденами, хромые солдаты, замотанные в лохмотья, военные интенданты с папками под мышкой. Все они куда-то шли, и госпожа Лир тоже шла, но она уходила далеко от этого мира.
Живка Д. Спасич, белградская портниха, была счастлива, что ей удалось найти новое помещение для своего ателье, расположенного ранее на Дунайской улице. Там случалось всякое, а здесь по новому адресу все всегда оставалось на своем месте. Ателье на улице Принца Евгения № 26 ей настолько понравилось, что она не закрыла его даже тогда, когда ее клиентами стали исключительно лица в форме австро-венгерской армии, так что ее деятельность процветала не только в новом 1916 году, но и в следующие годы, и никто, абсолютно никто больше не исчезал, задернув за собой занавеску примерочной.
Доктор Станислав Симонович встретил Новый год рядом со своим королем на торпедном катере «Мамелюк» по пути из Бриндизи в Салоники. Он сделал королю массаж с хорошо известными ему добрыми мазями, а затем король пригласил его на нищенский ужин в своей каюте первого класса, которую он в своей обычной манере назвал «Отель Ритц».
Мехмед Йилдиз и новый 1916 год неверных не отметил ничем особенным, кроме удивления. Старого турка не смущало то, что на улицах ощущалось дыхание террора, а тюрьмы были заполнены заключенными, промолвившими хоть слово против комитета младотурок «Единство и прогресс». Турция поднялась и вознеслась на терроре и тюрьмах, и это соответствовало ожидаемой торговцем картине прямолинейного мира праведников. Но как объяснить то, что через Болгарию каждый день на железнодорожный вокзал возле Топкапы прибывали немецкие семьи, затем направлявшиеся в те местности Малой Азии, откуда были изгнаны армяне? Чтобы там поселиться? Стать анатолийцами? Как могут эти немцы, западники с присущей им широтой взглядов, помочь туркам – людям без перспективы?
А может быть, это особенность 1915 года, года торговцев, оставившего в его душе два тяжелых шрама. Почему он продолжал верить в то, что торговля спасет молодые головы от всех бед? Разве все, что произошло в 1915 году, не стало его разочарованием? Почему события 1915 года не подорвали его уверенность? Одно дело – преуспеть на ступеньках Комондо и модной Галате, разделить склад с еврейскими, коптскими и сирийскими торговцами, лгать себе и другим, что вместе с товарами продаются и мечты и статус, и совершенно другое дело – воевать за то, чтобы одной Великой войной остановить все последующие войны. А может быть, он все-таки постарел и понемногу покидает торговую сцену и катится под откос жизни? Ему исполнилось 76 лет, начался 59-й год его торговой деятельности на Босфоре. Ему оставалось еще полтора года до шестидесятого (и последнего) года работы. Турецкая пословица гласит: «И со смертью, и с жизнью все-таки нужно торговаться». Эфенди тихо повторил ее про себя, и с этой мыслью уснул. Так закончился год в жизни одного торговца.
Утром, в первый день нового 1916 года, будильник прозвенел, как всегда. Но этим утром Йилдиз-эфенди не стал открывать лавку, хотя над Босфором взошло необычайно яркое, пусть и скупое на тепло солнце первого дня третьего года Великой войны.
1916
ГОД КОРОЛЕЙ
ДОЛИНА МЕРТВЫХ
Было утро 1 января 1916 года по новому стилю. Утро было синим. Потом было голубое утро и, наконец, молочное, словно детская распашонка, наброшенная на плачущее небо Салоников. Король Петр рано проснулся и не отрываясь смотрел на залив. Проглотил вкус поражения, чтобы не ощущать его во рту, как гнилой зуб. Потом его взгляд стал бесцельно блуждать. Нужно было собраться с духом – ему, такому старому, со съежившимися мышцами и набрякшими венами, нужно было начинать все сначала. Главный штаб союзников находился в Салониках. Крупный македонский порт производил впечатление шумного улья. Голубой залив был похож на огромную фабрику, где дымили трубы двухсот кораблей. Улицы были полны равнодушных французских, сбитых с толку английских и – по непонятной причине – озлобленных греческих солдат. Непрерывной колонной обоз за обозом лениво тянулись вверх по холмам, а затем – быстро – спускались с холмов к морю, как будто они без всякого плана идут только для того, чтобы создать впечатление движения. Окрестные высоты были густо усыпаны белыми палатками. Страх витал над Салониками, словно оцепенение, достаточно сильное, чтобы, подобно анестезии, отвести взгляд от другой драмы – разворачивающейся на берегах Ионического моря сербской армии. Король посмотрел вниз, на улицу. Греки в военной форме заполнили все кафе, толпились перед кинотеатрами, покупали южные фрукты в овощных лавках. Под его террасой разговаривали какие-то французы, и король Петр хорошо слышал и понимал их. Один спросил: «Вы знаете, что там, за албанскими горами, умирают сербы?» Другой ответил: «Понимаете, мы не можем им помочь. Дела здесь идут не лучшим образом. Греки против нас, мы высадились вопреки воле их короля. Вооруженные до зубов союзники уже три ночи настороже. Нет, сударь, отсюда невозможно вывести даже один батальон, чтобы отправить его на фронт в Македонию. Вполне возможно, что нас здесь ожидает Варфоломеевская ночь».
Старый король больше не слушал. Его Варфоломеевская ночь уже наступила и под истерические вопли потерявшей рассудок смерти прошла, оставив его, как трагического героя, страдать живым. Теперь он вел новое, уродливое и безжизненное существование, в которое вступил подобно слепцу. Он перешел в другой конец комнаты, закрыл окно, и звуки улицы исчезли. Он должен снова стать королем. Он должен позвонить в колокольчик и принять сербского посланника, чтобы договориться с ним о переселении из отеля, где его устроили на одну ночь. Он должен собраться с духом. Должен позвонить. Многие короли оказывались в изгнании. Разве он сам не возмужал в изгнании? Разве не его вскормила своим молоком комфортная, но холодная чужбина? И что же здесь нового? Разве то, что в изгнании находится все королевство. Нет, лучше перестать раздумывать и позвонить в колокольчик.
Он схватил колокольчик, пальцы сжали ручку, его ладонь невольно задрожала, – раздался нежный звон и день начался. Король Петр решил избежать торжественной встречи в Салониках, подготовленной представителями греческих и союзнических властей. Он приказал, чтобы на прибывшем за ним катере его доставили прямо к сербскому консульству на набережной, причем по возможности незаметно, словно какого-нибудь заговорщика или преданного анафеме отступника, а не короля. Он еще раньше решил, что не останется в отеле, а переселится в консульство, – не хотел помпезности, почетный караул его раздражал. «Разве не греческое правительство отказалось от заключенного с нами в 1913 году договора и заставило нас отправиться в горные ущелья, где мы потеряли столько людей и претерпели албанскую Голгофу? Зачем же теперь оно собирается демонстрировать свое уважение и воздавать какие-то почести?» – бормотал про себя старик, в то время как на берегу полковник Тодорович пытался убедить низкорослого и усатого начальника почетного караула отойти в сторону. «Король устал, он не хочет помпезности», – повторял полковник, пока за его спиной покачивался черный силуэт моторного катера, а некоторые греческие солдаты и без команды вытянулись во фрунт.
Король вошел в консульство ни на кого не глядя. «Сербский монарх благодарит и просит его извинить», – слышал он за своей спиной, когда толпа, собравшаяся перед консульством, стала понемногу расходиться. В последующие дни король и его свита вернулись к своим неотложным делам. Эта другая жизнь после жизни демонстрировала удивительную витальность в раскрытии своей подлинной сущности. Бельгийский посланник оказался на удивление впечатляющим, когда предстал перед королем; Эдвард Бойл, сербский благотворитель, предлагал, кажется, реальную помощь; поздравления с Рождеством, полученные королем Петром несколько дней спустя от британского короля, герцога Орлеанского и Николы Пашича, были напечатаны на очень убедительных телеграфных бланках. Однако король Петр продолжал не верить в жизнь и этот летящий в тартарары 1916 год, так же как не верил этому самому году ни один из турок.
Мы можем называть его Не-бек, хотя сам он величал себя Джам Зулад-бек, а на самом деле его звали Вартекс Норадунян. История этого жестокого и упорного турецкого полицейского начинается в тот момент, когда он меняет веру и гасит в себе последний – еще горящий – армянский уголек. Он, этот бек, думал, что делает это ради продвижения по службе, ради более высокого чина и значка на лацкане с надписью «канун» («закон»), и ему никогда не придется выяснять, что же армянского в нем еще осталось, но вышло иначе. Джам Зулад-бек ничуть не колебался, когда еще в 1914 году, в начале Великой войны, нужно было обвинить армянских солдат в неудачах турецкой армии на Кавказе и последующем разгроме под Саракамышем. Заглянув в себя поглубже, он ни в себе, ни на себе не нашел ничего армянского. Присаживается на берегу Босфора и берет в руки газету, как настоящий турок. Читает и держит во рту турецкий чубук, немым движением губ одобряя опубликованную в газете речь Энвер-паши: «Армяне виноваты в поражении турок и гибели шестидесяти тысяч правоверных, оставшихся лежать в грязи и снегу. Поэтому солдат армянской национальности нужно разоружить. Они – инородное тело в нашей армии». Да, да, повторяет про себя полицейский, выпуская дым, и видит, что в нем и на нем все в порядке. Поэтому он идет дальше, не оглядываясь.
Не-бек не увидел ничего необычного в том, что ему, одному из лучших стамбульских полицейских, было поручено заниматься цензурой армянских писем. Ни единая бакелитовая пуговица на его мундире не была армянской. Он не стеснялся того, что избегает посещать армянские магазины и мастерские. Не видел ничего плохого в том, что в апреле 1915 года было ликвидировано пятеро армянских лидеров. Не видел ничего, что могло бы оправдать восстание армян в городе Ван, и проклинал тот день, когда русские солдаты пришли на помощь повстанцам. После этого террор распространился по всей Турции, но особый вкус он приобрел на столичной мостовой. А Не-бек чувствовал себя очень хорошо. Его совсем не удивило, что именно ему было поручено следить за армянской интеллигенцией всего Стамбула, а потом отправлять ее представителей под домашний арест. Он заглянул в свою душу и в черном осадке на дне не увидел ни одного армянского слова, которое предупредило бы его, что пора остановиться. Вот почему для него не было ничего необычного в том, чтобы в 1915 году отправить в ссылку своих недавних соседей-армян. В его обязанности не входило сострадать им. Он не проронил ни единой слезинки, услышав, что множество людей умерло на этом пути в Сирию и Месопотамию.
Когда в конце 1915 года Талаат-паша заявил: «Я решил армянский вопрос за три месяца, в то время как султан Абдулхамид не смог решить его за тридцать лет», Не-бек стал стопроцентным турком. За ревностную службу он был повышен в чине и смог купить красивый деревянный дом на Хисаре, что казалось ему вполне закономерным. Он выбросил все вещи прежних владельцев вплоть до последней простыни и тряпки, чтобы ничто не напоминало о христианах, и приобрел хорошие турецкие диваны, плетеные стулья, зеркала в деревянных рамах и даже вьющиеся растения для балкона. Теперь он был начальником вилайета – он, бывший армянский полицейский с побережья Босфора. Как его звали, когда он был армянином? Он не мог вспомнить. У него не было на это времени. Его направили в Трабзон, чтобы «выровнять почву» после «решения армянской проблемы» в этом городе.
Когда в начале 1916 года он отправился в путь, то думал о том, что не доверяет этому году. Ему казалось, что предыдущий год для турок был самым важным, поскольку они навсегда избавились от этих проклятых армян. Он приехал в город Трабзон, а перед ним была долина мертвых. Он буквально ходил по телам покойников, так много их было. Но Джам Зулад-бек не обращал на это внимания. Иногда его ноги наступали на гниющую плоть и дробили кости, но у новоявленного турка не дрогнула ни одна жилка на лице. Большинство трупов были засыпаны только тонким слоем земли, ее частично смыл дождь, и под его ногами внезапно появлялись ямы, в которых ползали серые черви. Повстанцы остались лежать в том же положении, в котором настигла их смерть во время трехдневной резни – еще в движении, как будто готовые снова восстать против Турции и Комитета младотурок, а Джам Зулад-бек не чувствовал себя удрученным. В одном месте он видел полуобглоданные тела турок и армян, держащих друг друга за горло, их руки не разжимались даже после смерти. Казалось, что Джам Зулад-бек вообще ничего не чувствовал. Но потом он обернулся. Тот, кто ничуть не сомневался, когда нужно было обвинить армянских солдат в поражении при Саракамыше, кто не стеснялся игнорировать армянские магазины и мастерские, кто отправлял под арест армянских интеллигентов во всем Стамбуле, кто отправил в ссылку своих соседей, кто не мог вспомнить свое армянское имя, – остановился.
Он оглянулся, словно что-то забыл, какую-нибудь мелочь, оставленную в столице, упустил из виду положить в карман табакерку или сигареты. Потом у того, кто без сомнений обвинял армянских солдат в разгроме под Саракамышем, кто не стеснялся игнорировать армянские магазины и мастерские, кто отправлял под домашний арест армянских интеллигентов во всем Стамбуле, кто ссылал соседей, кто не мог вспомнить свое армянское имя, – по лбу прокатилась струйка пота, как будто он немного устал от ходьбы по трупам. Потом у него на губах появилась пена. Он схватился за горло, его глаза стали бешено вращаться, как будто каждый хотел выскочить в свою сторону, – и вдруг рухнул как подкошенный.
Он, обвинявший армянских солдат в поражении под Саракамышем, беззаботно игнорировавший армянские магазины и мастерские, отправлявший под домашний арест интеллигентов во всем Стамбуле, ссылавший своих соседей, окончательно позабывший свое армянское имя, – не выдержал.
Джам Зулад-бек пал как последняя жертва армянской резни.
Для Не-бека Великая война закончилась тогда, когда в последний миг жизни он вспомнил свое армянское имя – Вартекс Норадунян, но признал ли он его и вознесся на небеса как армянин или до самого конца остался турком-османом и упорным стамбульским полицейским, знает только Бог, под именем Аллах или Иегова, это безразлично. А 1916 год остался равнодушным: он не обвинял 1915-й в преступлениях, но и сам не собирался быть иным.
Гийом Аполлинер во французских окопах на Западном фронте узнал, что такое настоящая война. Писем из тыла больше не было. И новых девушек – тоже. И опиумных притонов. И фальшивых китайцев, предлагавших трубки с опиумом. И лобковых волос в форме креста. И капель менструальной крови. Сейчас артиллериста мучает «великая меланхолия». Не только из-за климата. Он уже привык к сумасшедшим дождям. Привык к грязи. Привык к окопным друзьям – крысам. Но терпеть не может палочной дисциплины. Военные советы заседают постоянно. Введены военные трибуналы. Каждый солдат, раненный в руку, рискует попасть под расстрел. Черные следы вокруг раны могут быть от пороха. А это означает самострел.
В начале 1916 года поблизости от Суэна 2-я рота 336-й пехотной дивизии отказалась выполнять приказ атаковать вражеские окопы. Люди обессилены. Атака. Контратака. Атака. Контратака. Новый штурм означает смерть. Немцы совсем недавно заменили колючую проволоку на нейтральной полосе. Идти в атаку в подобных условиях означает самоубийство. Столкнувшись с таким неповиновением, французский генерал, командовавший 336-й пехотной дивизией, собирается открыть артиллерийский огонь по своим окопам. Благодаря вмешательству преданного ему полковника отказывается от этого решения. Приказывает выбрать шестерых капралов и восемнадцать солдат из числа самых молодых, и трибунал немедленно приговаривает их к расстрелу.
Бывает и так, что унтер-офицеры выбирают смертников здесь, рядом с лейтенантом Аполлинером. Иногда просто бросают жребий. Затем расстреливают тех, кому не повезло. Особенно потряс Аполлинера случай с лейтенантом Шапланом, служившим в пулеметной команде 98-го пехотного полка. Шаплану двадцать лет. Он храбр. У него голубые глаза. И взгляд мечтателя. Взгляд, какой когда-то был у Аполлинера. Когда поэт познакомился с ним, мечты уже стали покидать пулеметчика Шаплана. День спустя участок обороны Шаплана был атакован. Пулеметчиков окружили, но взять их в плен врагам не удалось – каждые пятнадцать минут из окопов раздавалась очередь, и немцам казалось, что у французских солдат достаточно боеприпасов. Они оставили их между мраком и смертью, возле колючей проволоки. Когда санитары наконец-то подобрали раненых, Шаплана на носилках доставили в трибунал. Приговор – смертная казнь. Носилки подняли. Шаплана привязали, чтобы тот не упал, и выпустили ему в грудь три пули. «Такие вещи деморализуют армию», – пишет матери Аполлинер на обычной военной открытке. Ожидает открытку от матери. Она не приходит. Вероятно потому, что она была куплена не в магазине чудесных военных открыток, принадлежащем Биро.
Пьер Альбер-Биро до Великой войны был поэтом и скульптором. Он был поэтом-самозванцем, да и скульптором его тоже никто не считал. Однако он упорно утверждал, что у него лицо поэта и руки скульптора. На самом деле это был рахитичный, с цыплячьей грудью, вечно сгорбленный человечек, так что его тень всегда маячила перед ним независимо от того, с какой стороны светило солнце. Во время Великой войны он издавал несколько авангардных журналов, но очень быстро заметил, с какой скоростью они пожирают его сбережения. Дольше всего он верил в журнал «SIC» (Sons, idées, couleurs, formes)[28]28
Sons, idées, couleurs, formes (фр.) – звуки, идеи, цвета, формы.
[Закрыть], не желая признаваться себе в том, что «SIC», так же как и «Elan»[29]29
Elan (фр.) – порыв.
[Закрыть], второй журнал, издаваемый им вместе с дадаистами, по сути дела только ширма для публикации его собственных стихов. В конце концов он понял, что это больше, чем он может себе позволить. Все-таки он просто человек с постоянно усиливающимися болями в искривленных костях и карманом мелкого фабриканта.
В начале Великой войны он открыл небольшую мастерскую по производству военных открыток и стал торговать ими. Он печатал их на свои деньги для солдат и их семей, чтобы облегчить им переписку. Его открытки на первый взгляд походили на все другие. На внешней стороне был изображен идеализированный французский солдат с цветком на мундире, а рядом с ним его возлюбленная. Качество печати было не очень высоким, но популярность открыток заключалась в том, что они доставлялись адресатам гораздо быстрее, чем другие. Если обычное почтовое отправление путешествовало неделями и даже месяцами, то открытки Биро шли со скоростью военной почты, минуя сортировку и цензоров, самостоятельно выбирались со складов женевского Красного Креста, где тысячи писем солдат, военнопленных и их семей ожидали, что их кто-то разберет, проштемпелюет и отправит.
Это очень быстро заметили солдаты, а еще быстрее – их семьи. То, что они особенные, вовремя заметили, кажется, и сами открытки. Похоже, что только сам дядюшка Биро не отслеживал путь открыточной корреспонденции. Он жил с убеждением, что мрачные дадаисты весьма удачно изобразили солдата с цветком рядом с возлюбленной, хотя эти художники презирали фигуративную живопись. Он думал, что именно лицо идеального солдата, этого совершенно бесхарактерного праведника, изображенное на открытке, и обусловливает удачные продажи и повышенный спрос, но он ошибался. В перерывах между боями солдаты нетерпеливо ждали почту и лихорадочно писали письма – писали, когда не было атак, когда удавалось выйти из боя живыми, когда приборы отмечали отсутствие газовой опасности и они снимали маски… Поскольку они писали очень много, то вскоре заметили, что открытки Биро доходят до адресатов, а остальные – нет. Как этого не заметил внимательный Аполлинер, писавший письма матери на обычной бумаге, непонятно. Да это и не имеет значения для нашего повествования.
Это рассказ о том, как открытки Биро начали составлять параллельную историю войны, по своему усмотрению дополняя ее текст. Открытки продавались во многих местах на фронте и в тылу, но значительное число их исчезло со склада. Бедный дядюшка Биро думал, что открытки воруют бродяги, ему даже в голову не приходило, что те покидают склад самостоятельно. И вот что с ними происходило. Пока солдат был жив и сам отправлял почту, открытки подчинялись ему, использовав лишь свою способность обязательно попасть к адресату. А если солдат погибал, они брали инициативу в свои руки и продолжали дописывать его историю в течение нескольких следующих месяцев.
«Я в порядке, правда, немного завшивел, но это не важно», – писали они вначале, но по мере того, как день смерти их автора отдалялся, они все больше и больше тяготели к философствованиям и антивоенной агитации. Единственной помехой был небольшой размер открыток, но и это они сумели преодолеть с помощью мелкого почерка и лапидарного изложения. Целая группа самых талантливых открыток прошла именно такой путь; их использовал и пулеметчик-лейтенант Анри Шаплан. В 1914 году, будучи еще жив, он писал матери: «Дорогая мама, я думаю, что эта война запачкала и твое материнское лоно»; младшему брату: «Не верь, брат, недобрым слухам, я не погиб под Ипром, я выбрался и отделался только шрамами, потому что вовремя купил маску». В открытках встречались и грустные подробности: «Я голоден, чертовски голоден, некоторые мои товарищи жарили крыс. Я смог на это смотреть, но не смог решиться их есть». И: «Сегодня утром, мама, снег покрыл весь холм, как белый сахар, все кажется нереальным. Снег мелкий и идет не преставая – даже когда я вставляю в ствол патрон, он становится белым, как сахарное печенье из твоей духовки».
Потом Шаплан был расстрелян (мы уже знаем, как это произошло), но открытки продолжали приходить. В Авре мать получала их десятками, и еще долго думала, что ее сын жив. Только семнадцатилетний брат Шаплана заподозрил, что здесь что-то не так. Сначала от пулеметчика приходили лишь короткие сообщения: «Я жив, не волнуйтесь», «На нашем участке шли большие бои» и снова «Я жив…», а затем – долгожданные открытки с пространным текстом, но любящий брат был уже достаточно взрослым, чтобы заметить: это почерк Анри, но не его стиль. Встречались неуклюжие грамматические ошибки, то и дело попадались странные слова, которые мечтатель до войны никогда не употреблял. Но Великая война затрагивала всех и заставляла многих людей меняться. Так думали родственники пулеметчика, а открытки сами посылали себя к ним. Что можно сказать о последних открытках из мастерской Пьера Альбера-Биро? Они были написаны искореженными, похожими на картошку буквами, без использования ударений. В одной из них говорилось: «Последний бог умер на кресте, а своим воскресением он, кажется, спас только самого себя. Иешуа Га-Ноцри не взял на себя никаких наших грехов, и я, если бы мог, пошел бы в мастерскую с цыганами, ковавшими гвозди, и выковал тот самый четвертый гвоздь, потерянный перед распятием». А в последней почтовой открытке, пришедшей в Авр, была выражена его прощальная, смешанная с упреком жалоба, ни в коей мере не достойная мечтателя: «Где этот неприкосновенный Бог? Знаете, договоры пишутся для того, чтобы важные господа скоротали время и немного развлеклись, а бумага – она и есть бумага, она все вытерпит. Бог – это выдуманная личность, его придумали те, кому это выгодно, так же как им выгодны и война, и смерть, и страдание, и гибель всех нас».
На этом переписка закончилась. Из долины мертвых от Шаплана больше не пришло ни одной самовольной открытки. Еще несколько раз мать и брат посылали на фронт волшебные открытки Биро, но ответа на них не последовало. Многие другие французские солдаты – живые и недавно погибшие – продолжали писать своим близким. Переписка прекращалась только в том случае, когда мертвые удалялись слишком далеко от этого мира, и даже магические открытки больше не могли имитировать их жизнь. Но их место занимали новые солдаты, и дядюшка Биро думал, что нашел золотой Грааль.
Правда, были и такие солдаты, которые не вели переписку, поскольку обладали такой большой свободой передвижения, что сами смахивали на магические открытки и довольно часто покидали место фронтовой службы, словно война не накладывала на них никаких обязательств. Одним из самых талантливых «летунов» с фронта в тыл был Жан Кокто. Он должен был вернуться назад, в цивилизацию. Он израсходовал все запасы «Мадагаскара», и теперь ему было необходимо найти девушку-девочку Кики. В Париж 1916 года он прибыл с печалью в сердце и такими словами на устах: «Он совсем не похож на Париж 1915 года, а Париж 1915 года даже близко не стоял с Парижем 1914 года». И затем добавлял: «Это был урожай 1914…» Однако Кокто не позволил себе долго предаваться меланхолии. У него даже в мыслях не было искать Пикассо. Зато с большим усердием он стремился увидеть свою благодетельницу, девочку-грязнулю Кики. Кики, какая Кики? Как на самом деле зовут эту Кики? Он не знал, что в военной картотеке Кики значилась под своим настоящим именем – Алиса-Эрнестина Прен. Потому-то он ее и не нашел. На ее месте работала какая-то глуповатая, упрямая и несговорчивая крестьянка из Прованса. Он решил ее подкупить, но она то ли не осознавала ценность денег во время войны, то ли была откровенно неподкупной. В конце концов он украл десять банок консервов, рискуя попасть под трибунал. Пошел с добычей к слесарю-частнику и попытался спрятать в банки лучшую говядину. Открыв одну банку на пробу, он почувствовал запах моторного масла и тут же избавился от всех консервов.
В конце своего пребывания в Париже он услышал, что солдаты охотятся за лекарством от астмы. Чем же их привлекал этот препарат доктора Уилкокса? Кокто разузнал, что в его состав входит сульфат атропина (что не имело значения) и гидрохлорид кокаина (а вот именно это и имело значение). Это лекарство использовалось во всех армиях союзников. Он немедленно обратился в Медицинскую комиссию Парижа. Как некогда летом 1914 года он стремился набрать вес для того, чтобы отправиться на казавшуюся тогда опереточной войну, так и сейчас он пытался вызвать в себе не слишком серьезную болезнь. Один из недавних друзей посоветовал ему: «Спи, обернув плечи мокрым полотенцем, – заработаешь лихорадку и неглубокий кашель, похожий на астматический». Так он и сделал. В течение двух дней Кокто казалось, что ему тяжелее, чем солдатам в окопах под дождем. На третий день начался спасительный кашель. Комиссия прописала ему лекарство.
Какой прекрасной казалась теперь война тому, кто снова вернулся к кокаину! Он больше не чувствовал голода. К нему вернулось вдохновение. Он писал о небесных ордах, подземных демонах и красоте одетых в траур матерей, потерявших сыновей-героев. О девушке-девочке Кики он больше не вспоминал и не пытался ее разыскать. А между тем она теперь работала на другой фабрике – по ремонту солдатской обуви. Поношенные ботинки снимают с мертвых солдат. Маленькая Кики дезинфицирует их, размягчает маслом и обрабатывает молотком. Поначалу эта новая военная работа выглядит ничуть не лучше прежней. Кики все еще прозябает в страшной нищете. За пятьдесят сантимов в неделю она должна починить пятьдесят пар ботинок: сантим за одну пару. Кики одинока. Она мечтает о мужчинах, но даже представить себе не может, что сразу же после Великой войны станет самой известной моделью Монпарнаса и любовницей многих знаменитостей. Сейчас, в 1916 году, она еще ничья, а ей хочется принадлежать сильному мужчине. Может быть, тому худосочному поэту в летной форме, бежевых перчатках и кепи с красным верхом? Нет, она больше не помнит Жана Кокто.








