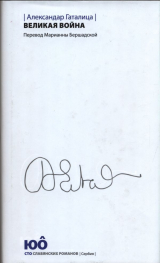
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
О неизбежном приходе нового дня сообщал и еще один необычный будильник. Звонивший каждое утро на французских позициях ровно в десять часов, он стал объектом подробных немецких донесений. Будильник звонил во французских окопах к северо-востоку от Вика на реке Эне. Он начал регулярно звенеть после непродолжительного празднования нового, 1915 года. Сначала немецкие солдаты думали, что этот звонок что-то предвещает: артиллерийский обстрел, атаку пехоты, запуск сигнальной ракеты, но выяснить это было невозможно, так как будильник привычно звонил и в те дни, когда на французской стороне наблюдалось движение, и в те дни, когда его не было.
Это было знаком того, что на такую эксцентричную деталь окопной войны не следует обращать внимания, но армия есть армия, и рассказы о французском будильнике продолжали обрастать различными версиями. Сперва распространились слухи, что каждый звонок означает смерть как минимум одного немецкого солдата (вопреки малой интенсивности военных действий на данном участке фронта это могло оказаться верным), потом – что противники пытаются вывести из строя немецкое оружие, и в конце концов французский будильник стал причиной распространения болезней и даже опозданий при доставке питания. Чтобы пресечь эти слухи, унтер-офицеры доложили о них капитанам, те – командирам батальонов и бригад. «Случай с будильником» стал известен и командиру корпуса, но никаких особых приказов не последовало.
Тогда солдаты в немецких окопах нашли выход. Они попросили родственников прислать им будильники, и воинственные прусские женщины прислали им небольшие деревянные часы с кукушками. Часы были подвешены на подпиравшие стенки окопов столбы так, чтобы гири могли свободно управлять часовым механизмом. По истечении каждого часа кукушкам «сворачивали шею». Нужно было, чтобы все немецкие часы «закуковали» одновременно. Так и произошло, но это не смутило французский будильник, он перекрыл своим звоном хор немецких кукушек, что повергло кайзеровских солдат в еще большее уныние.
В четырехстах километрах западнее, на том же Западном фронте, никому не приходило в голову заводить будильник. Там, на позициях у французского городка Авьон, все еще говорили о первой военной опере, закончившейся гибелью великого баса из Эдинбурга Эдвина Макдермота, о великолепном пении Ханса-Дитера Уйса с немецкой стороны и о том, как все в эту рождественскую ночь стали братьями и больше не могли стрелять друг в друга. Сейчас напротив частей 92-го шотландского полка и 26-й французской бригады стояли какие-то другие немецкие подразделения, и солдаты, стиснув зубы, не сводили глаз с противника и стреляли, как только чья-нибудь голова показывалась над бруствером окопа.
Новогодний вечер под Авьоном стал объектом серьезного расследования с обеих сторон. Никогда в обычном французском имении не собиралось столько генералов. Солдат всех трех армий обвиняли в измене родине за то, что они собрались в ночь перед Рождеством под крестом отца Донована. Затем последовали аресты, за ними – расстрелы. Отец Донован тоже был в списках приговоренных, но в 1915 году еще никто не решался расстрелять священника за измену родине, и армейский капеллан был помилован.
Обе враждующие стороны поняли, что солдаты, вместе стоявшие на коленях перед крестом, не смогут стрелять друг в друга, и поэтому выжидали, кто первым начнет атаку. После двухдневных колебаний это сделали немцы. Солдаты 93-й немецкой дивизии в вагонах для скота были отправлены на восток, в предстоящее сражение на Мазурских озерах, и теперь против шотландских и французских солдат должны были сражаться другие немцы, ненавидевшие их после произошедшего еще сильнее. Эта ненависть доставила удовольствие немецким генералам, возвратившимся в свои штабы на черных автомобилях с высокими крышами.
На фронте под Авьоном на первый взгляд все было нормально. В ночном небе подобно зловещему фейерверку рассыпались сигнальные ракеты, немецкая артиллерия била из ближайшего лесочка, французские дальнобойные 75-миллиметровые пушки отвечали бесперебойно. Пятого февраля 1915 года был отдан приказ на штурм. Несмотря на трехдневную артподготовку, пруссаки встретили атакующих таким неожиданно плотным огнем, что шотландские солдаты быстро отступили. Те, что продвинулись недалеко и были легко ранены, скатились обратно в окопы, а те, что оказались поодаль, скоро перестали стонать, и на них – как покрывало – опустился мелкий снег. Наступила ночь, но отец Донован не мог заснуть. Далеко за полночь он завел разговор с раненым, лежавшим на ничейной земле и умолявшим о помощи. Почему он с ним разговаривал? Почему сразу не помог? Причиной тому была английская пунктуальность. Шотландские полки, как и вся британская армия, имели шесты с крюками для вытаскивания раненых с ничейной земли. Длина в шесть локтей для таких шестов считалась оптимальной, поскольку более длинные сломались бы, да и сам способ спасения раненых с большего расстояния мог вызвать у них такое кровотечение, что попытка все равно была бы бесполезной. Вот почему рядом с отцом Донованом в эту ночь был шест длиной в шесть локтей. И ни на пядь длиннее.
Раненый, ужасно стонавший и умолявший о помощи, находился на расстоянии в десять локтей…
Вот какой разговор состоялся между пастырем и его прихожанином в эту ночь.
– Отец Донован, я умру молодым! У меня страшная боль, я зажал рану рукой, чтобы остановить кровь. Помогите! Ради бога, помогите!
– Сын мой, хватай шест, я его тебе протягиваю. Видишь его?
– Темно, отец. Я умру. Я ничего не вижу.
– Дождись осветительной ракеты, вот она, я слышу ее шипение. Теперь ты видишь крюк?
– Вижу, отец, но я не могу до него дотянуться. Он далеко от меня, в добрых четырех локтях. Проклятый британский порядок! Почему шесты должны быть длиной именно в шесть локтей?
– Подползи, сын мой, потихоньку подползи, ведь это всего четыре локтя, это всего ничего.
– Не могу, отец мой, я весь в крови. В глазах темнеет и кружится голова. Помогите мне, отец, вы же наш пастырь и нет другого бога, кроме Отца нашего…
– Кто ты? Как тебя зовут? Откуда ты? Ты меня знаешь, а я тебя нет. Расскажи мне о себе.
– Меня зовут Гамильтон… Джон Гамильтон. Я родился в Глазго в 1893 году. Я студент, математик… У меня есть брат и сестра, она вышла замуж за англичанина. Я люблю вторую половину дня… Что я говорю? Я люблю сумерки в Глазго. Раньше я занимался спортом. Я люблю запах чиппендейловской мебели. Один столик…
– Говори, мальчик мой.
– В детстве я очень любил один столик. На нем моя мама сервировала чай и джем из айвы. Никогда я не забуду аромат черного чая и материнскую руку, подносящую ложечку джема к моим губам. А потом – темнота, такая же, как сейчас. Ах, отец, тогда я был ребенком. Был здоровым, а не изуродованным, как сейчас. Мама укладывала меня в постель, на накрахмаленные простыни, и гладила по голове. Бедная моя мама… Когда она услышит, что я погиб вот так…
– Как зовут твою маму и как ее девичья фамилия?
– Ребекка. Ребекка Ситон.
– О боже! Мы же родня. Мое имя – Донован Ситон, а твоя мама, должно быть, моя дальняя племянница. Сын мой, ты не смеешь умереть. Мы с тобой одной крови, мы из одного клана Монтгомери.
– Тогда спасите меня, отец… дядя… как хотите. Найдите шест подлиннее, вылезьте из окопа…
– Я пробовал, но один шваб целился прямо в меня. Чуть не убил.
– Я слышал выстрел. И что теперь? Мы снова вернулись к началу. До окопа десять локтей, а ваш шест длиной в шесть.
– Расскажи мне еще о себе.
– Не могу, отец. Сейчас я думаю о том, насколько мало расстояние между жизнью и смертью. Четыре локтя. Четыре локтя – это длина стойки в пабе «Арта» на улице Альбион, куда я заходил. Бармену нужно было всего три секунды, чтобы толкнуть кружку с темным пивом по направлению к посетителю, сидевшему на расстоянии четырех локтей от него. А потом, подождите, шотландской винной мушке нужно меньше секунды, чтобы пролететь это расстояние…
– Это нас, племянник, никуда не приведет, а шест в шесть локтей до тебя не дотянется. Расскажи мне о себе.
– А что рассказывать? Я был отличным студентом. Предполагали, что я останусь в университете ассистентом, но я очень любил спорт. Как только заканчивались занятия, я бежал в «Хемпден Парк» на футбольные и беговые тренировки. О, я был прекрасным спортсменом, бог мне свидетель. Я пробегал сто ярдов за десять и три десятых секунды. Надеялся, что превзойду рекордсменов Вильямса и Келли, но не смог опуститься ниже десяти секунд. Знаете ли вы, дядя, что бегуну надо сделать сто десять шагов, чтобы с хорошим результатом пробежать сто ярдов? Одним шагом больше, и результат будет уже плохим. Нужно всего три шага, чтобы преодолеть расстояние в четыре локтя. Три шага, отец Донован! Всего только год назад я мог бы пробежать это расстояние меньше чем за секунду. Всего за секунду, а сейчас мне так больно, что я не могу дотянуться до шеста в шесть локтей…
– Давай еще поговорим о спорте. Это мы, англичане, выдумали футбол, что бы ни говорили об этом наши союзники французы. Ты был футболистом. На какой позиции ты играл?
– Я был… больно… я был центрфорвардом.
– А, это тот, кто должен быть невидимкой, ему даже играть не нужно, только забить гол?
– Ага. Когда моему тренеру сказали, что меня «не видно на поле», а я все-таки забиваю голы, он ответил этим людям, что они ничего не понимают в игре центрфорварда, что им стоит посмотреть на китайский пинг-понг. Центрфор… сейчас я не могу смеяться… центрфорварду нужно быть невидимым, чтобы усыпить оборону противника, а потом забить мяч в ворота. Ему не нужно играть… нужно только… забить гол…
– А теперь, сынок, давай забьем гол швабам.
– Больно, чертовски больно…
– С какого расстояния легче всего промазать по воротам?
– С «пятерки», дядя… да, так, с четырех локтей промазать легче всего.
– Я слышал об этом раньше, но не мог поверить. Объясни мне это. Центрфорвард забивает гол с расстояния в двадцать локтей, но может промазать с четырех? Как это?
– Штанги и перекладина ворот слишком близко. Ты думаешь: ударю по мячу, и он влетит в сетку, но черта с два… простите, святой отец, это совсем не так. Если ты просто ударишь по мячу, он перелетит через перекладину, а если прицелишься – пролетит мимо штанги. Нужно зажмуриться и бить как попало, только так он влетит в ворота.
– Давай так и сделаем. Зажмурься и представь, что ты в пяти ярдах от ворот. Не думай про рану. Толкни свое тело, словно оно мяч, просто толкни как выйдет. Если же попробуешь приподняться, то шваб, который не спит в эту ночь только из-за нас двоих, продырявит тебя пулей, если попытаешься поймать шест, что я тебе протянул, то промахнешься. У тебя всего одна попытка, сними руку с раны на животе, закрой глаза и протяни обе ладони вперед.
– Не могу, святой отец, вы говорите с мертвым человеком.
– Можешь, клянусь всеми святыми. Спартанцы в Фермопильском ущелье тоже были мертвыми и все-таки оставили за собой много мертвых персов. Я вознесу молитву Господу, а ты вцепись ногтями в землю. Вспомни девиз клана Монтгомери, «Garde bien. Будь упорным». Ночь темная, двигайся вперед, ни вправо, ни влево. Вперед, сынок, вот так… Это кровь, это пахнет твоей кровью, но тебе ее еще хватит для жизни, ты молод… Вот так, шотландский центрфорвард, враг тебя не видит, а ты в этот момент забиваешь ему гол. Вперед… Велика наша церковь, Eaglais па h-Alba, велик и наш Бог. Толкай себя, сынок… ухватись за крюк. Теперь расслабься. Я тащу тебя. Не отпускай. Не смотри на кровавый след, тянущийся за тобой. Вся кровь вернется к тебе. И народ возблагодарит тебя за нее. Волынщики! Волынщики, просыпайтесь! Санитары, сюда! Ты жив, сынок. Ты еще будешь забивать голы немецким футболистам после этой страшной войны!
Только эти слова: «Волынщики! Волынщики, просыпайтесь! Санитары, сюда!» – и были услышаны историей. Весь предшествующий разговор между отцом Донованом и его дальним племянником Джоном Гамильтоном остался известен только им двоим, однако раненый был спасен. Множество других не пережили ночь с 5 на 6 февраля 1915 года, но о них в тылу не думали. Командующие фронтами склонялись над топографическими картами и видели на них только отметки высот, линии и некие крестики, которые не помогали сохранять жизни солдат на фронте, а, наоборот, отнимали эти жизни. В ночь с 5 на 6 февраля под Авьоном погибли двадцать шесть солдат. Девятнадцать из них были убиты, семеро умерли от ран на расстоянии в пятьдесят и более локтей от шотландских окопов. Только один раненый, оказавшийся на расстоянии в десять локтей, спасся, но Ханс-Дитер Уйс ничего не знал об этом.
Он возвратился в Берлин, по которому разносилась одуряющая вонь дезинфицирующих средств, смешанная с запахом свернувшейся крови. Его любимая улица Унтер-ден-Линден была пуста, так же как и омертвелая, на этот раз навсегда, душа великого певца. Он решил больше никогда не петь, хотя его и заставляли, поскольку только этого от него и ждали. Некоторые знали о том, что случилось с ним в Северной Франции, другие – нет. И все-таки никто не был готов оправдать его слабость, потому что так было легче скрыть слабость собственную. Его оставили в покое всего на два дня, а потом пригласили в Военное министерство. Принял певца какой-то старый генерал с серебристыми усами, вытянутыми в стиле кайзера Вильгельма, участвовавший, наверное, еще в франко-прусской войне.
«Вы, вероятно, не знаете, что нашей стране катастрофически не хватает селитры, необходимой для артиллерийского пороха, – начал свою не совсем понятную тираду генерал, – селитру, если вам неизвестно, мы получали из Скандинавии, но сейчас неприятель перекрыл нам этот морской маршрут. Вероятно, вам также неизвестно, что в нашей стране недостаточно меди, свинца, цинка, продовольствия. Вероятно, вы слышали, что приказано экономить резину и пользоваться автомобилями только в крайнем случае. Но вас это не касается. Вы, маэстро, лишаете нашу страну того, что необходимо ей так же, как медь и селитра. Вы лишаете ее музыки. Почему вы отказались от запланированного турне в Польшу?»
Только в конце Уйс понял смысл речи, хотя по-прежнему не видел связи между селитрой и своим голосом. Он захотел солгать, сослаться на больное горло, слабое здоровье, но потом вспомнил загнанных в подвал стариков и в очередной раз понял, что цивилизация после окончания Великой войны исчезнет так же, как его публика. А тогда зачем лгать? «Господин генерал, я больше не могу петь. Случилось нечто, о чем нет смысла рассказывать, нечто, что лишило меня голоса и дыхания. А я художник».
«Художник! Вы не художник, – нервно вырвалось из-под серебристых усов, – вы солдат, Уйс!» Маэстро мешало то, что генерал обращался к нему по фамилии, будто следователь, но он не собирался отступать. «Я уже сказал вам, и хочу еще раз повторить, господин генерал: горло больше мне не подчиняется. Когда я пытаюсь петь, из него выходит только свистящий воздух… Когда я смогу петь, вы и моя публика первыми это узнаете».
Был вечер. В чистом зимнем небе над берлинской равниной сияла вечерняя звезда, когда великий довоенный баритон вышел на Фридрихштрассе. Он удивился обстоятельству, которому раньше не придавал значения: вокруг него повсюду были женщины. Женщины работали кондукторами в трамваях, сидели за рулем автомобилей, женщины правили телегами, подметали улицы, женщины улыбались у входа в пивные. Он подумал, что находится в каком-то женском мире – как последний мужчина, который не может воевать, потому что его предало его единственное оружие – собственное горло.
«Великая война, – думал он, – для меня закончена». Он мог уехать в провинцию, на север, в родной город Л. на берегу Северного моря, где он вырос. Там можно было бы начать все сначала, давать уроки пения каким-нибудь молодым людям и приучать их к новому миру, если тот вообще будет существовать.
«С выступлениями на фронте покончено», – сказал он себе, надевая на голову шляпу, но он ошибался…
НЕКОТОРЫЕ ВСЕ ДЕЛАЮТ ДВАЖДЫ
Его звали Вильгельм Альберт Владимир Аполлинарий Костровицкий. У него были ресницы в форме запятой. Он был enfant terrible парижской художественной сцены. Никто не мог выпить столько, сколько он выпивал у дядюшки Либиона в «Ротонде». Никто не мог влить в себя столько бокалов, сколько удавалось ему у дядюшки Комбеса в «Клозери де Лила». Разве что Амедео Модильяни. Используя этот опыт, он написал сборник «Алкоголи», но… Вильгельм Альберт Владимир Аполлинарий Костровицкий хочет на войну. Будучи польским итальянцем, он собирается вступить в Иностранный легион. Однажды, во вторник, направляется на улицу Сен-Доминик. Шагает тяжелой поступью. Вместе с ним вербовочный пункт Легиона осаждает толпа каких-то помятых иностранцев. Для Гийома Аполлинера Великая война началась, когда ему сказали, что Легион укомплектован. Укомплектован?! Разве войне не нужен каждый «Король Убю», готовый сложить голову за Францию? Нет, Легион принял всех необходимых новобранцев! После этого он направляется в интендантский центр в Тампль. Там сомневающийся Владимир все-таки хочет купить военную форму. И газовую маску. Интенданты продают ему шинель, бриджи, мундир и кепи с козырьком, в котором он позже будет щеголять.
Он сердится, что ему не удалось сразу же стать солдатом. Осуждает Ромена Роллана за то, что тот «стал немцем». Выходит на улицу. Громко кричит: «Боши!» Сообщает, что немцы напечатали его стихи и не заплатили за это ни единой марки. В «Клозери де Лила» он пьет меньше прежнего. Цена за рюмку пастиса повысилась на шесть су. Выходит из кафе и видит молодых людей. Они ругают каждого, кто только и делает, что пьет «во славу войны». Ему хочется крикнуть им, что он тоже хочет на войну. Но он глотает эти слова. Думает, что его не поймут. Во всяком случае не потому, что он плохо говорит по-французски.
Месяц спустя он хочет выяснить некоторые вещи. На этот раз он отправляется в муниципалитет. Утверждает, что он любит Францию. Но у бюрократии на это свой взгляд. Он родился в Риме. А мать у него по происхождению полька. Что означают все его имена? Владимир еще сойдет. Но кого так зовут в Польше? Он не знает. Возможно, он выдумал это имя. С Альбертом, говорят, все в порядке. Ведь так зовут и отважного бельгийского короля. Аполлинарий им кажется более подходящей кличкой для пса. Самое большое подозрение вызывает первое имя – Вильгельм. Не так ли зовут немецкого императора? Обстоятельства заставляют обо всем хорошенько подумать.
Поэтому Аполлинер едет в Ниццу. Там сияет солнце Средиземноморья, не ведающее о войне на севере. Предательское солнце будет согревать предателя, избегающего войны. В эти дни поэт старается забыть о своей предвоенной музе Мари Лорансен. Она уехала в Испанию. Без единого слова. Даже кольцо не вернула. Предательница! Убежала с Отто фон Веткеном, художником. Шесть недель спустя вышла замуж за этого самого Отто. По сути, ее второй муж никакой не художник, он скорее гравер. Так говорит их общий друг Андре Сальмон. Такого она и заслужила. Поэтому сейчас поэт ищет новую возлюбленную. Отчаянно! Едет в поезде из Марселя и видит красавицу с длинными ресницами. Они бросают тень на ее глаза цвета радуги. Он сразу же начинает за ней ухаживать. Видимо, неудачно. На вокзале их пути расходятся. Она садится в одно, он – в другое такси. Они расстаются. Похоже, навсегда.
Потом его выбор падает на Луизу де Колиньи-Шатийон. Она требует, чтобы он называл ее Лу. Хочет называть его Ги. Лу говорит, что она медсестра. Он выдает себя за добровольца Великой войны. На самом деле она обычная вертихвостка. В каждом ее взгляде сквозит похоть, как на каждой винтовке блестит штык. Но он уже ее «пожизненный слуга». Вскоре они начинают вместе выходить в свет. Он хочет полноты отношений. Ему нужна дикая девятидневная оргия. Она предпочитает большую дистанцию. Скорее платоническую любовь. Они вместе девять дней посещают опиумные курильни. Их содержат какие-то китайцы. На самом деле они не китайцы. Просто китайские курильни пользуются популярностью. Поэтому некоторые эмигранты выдают себя за китайцев. Кожа у многих явно белая. Просто они подтягивают глаза к вискам, чтобы стать похожими на китайцев. Однако курильщикам это безразлично. Им разжигают трубку с опиумом. Укладывают на лежанки. Они выпускают дым. Искусственный рай, как кладбище разбитых надежд, поселяется прежде всего в глазах. Потом в конечностях. Проникает повсюду до костей.
Лу и Ги курят опиум. Занимаются любовью. Дико. Девять дней. Девять ночей.
Через пару недель в Иностранном легионе вспоминают о Вильгельме Альберте Владимире Аполлинарии Костровицком. Его вызывают в вербовочную контору. С наркотиками покончено. Поэт уходит на войну. Его посылают в учебный центр в город Ним. Выходит, происхождение его имен прояснилось? Нет! 1914 год обглодал целое поколение. В 1915-м Иностранному легиону нужны и те, кого зовут Вильгельмами. Аполлинер об этом не знает. Он думает, будто все произошло потому, что им не хватало именно его. Он откликается на вызов. Говорит себе: «Некоторым приходится отправляться на войну дважды». Снова едет на поезде. Быстро привыкает к казарменной жизни. Учится ездить верхом. От седла у него болит задница. У него понос. Нет денег – это действует ему на нервы. Но на положение курсанта школы подготовки унтер-офицеров он не жалуется. Ему не хватает, и с каждым днем все больше, только минувших девяти дней. И девяти ночей. Он хочет Лу. Пишет ей. Без всякого стыда. Напоминает ей, как они занимались любовью в позе 69 из книги Камасутра. Требует, чтобы и она была более непристойной в своих письмах. Требует, чтобы она вырвала несколько стыдных прядок и послала ему. Вначале она отказывается. Он снова настаивает. Когда наконец приходит письмо с прядками, Ги останавливается. Прядки завернуты в бумагу. Они должны были собраться в кучку на сгибе листа. Вместо этого они прилипли на середине к кляксе синих чернил. Как раз возле слов «я хочу только тебя» они образовали крест. Это, без сомнения, были стыдные прядки. Они принадлежали Лу. Золотистые. Без сомнения, ее. У них даже был аромат тех девяти дней. И девяти ночей. Но они прилипли к бумаге в форме креста. Поэтому поэт порывает с Лу. Не хочет, чтобы она стала его могильщиком. Гийом Аполлинер ищет новую возлюбленную.
По другую сторону фронта немецкие солдаты тоже мечтали о своих возлюбленных. Подразделение Штефана Хольма было переброшено в вагонах для скота на Восточный фронт на пополнение поредевшей Десятой германской армии. На позициях в Восточной Пруссии их встретила северноевропейская зима. Ртуть опускалась ниже тридцати с лишним градусов, и многие солдаты спасались от вшей и клопов, по два часа лязгая зубами на морозе, а потом, смеясь, вычесывали перхоть и вытряхивали из брюк замерзших насекомых. В городе Браунсберге, где подразделение Штефана расположилось на отдых в здании местной гимназии, он нашел в кармане пуговицу Станислава Виткевича, несчастного поляка, которого он должен был привязать впереди себя и подставить под «дружественный» огонь французов во время одной из неудачных атак 1914 года. Увидев пуговицу, он заплакал. Он вспомнил, когда она оторвалась. Вспомнил и то, что обещал поляку пришить ее, как только найдет иголку и нитку. Но найти ни той ни другой ему не удалось. Приказ пришел. Свисток просвистел. Любое неподчинение каралось расстрелом.
Позднее Хольм был награжден солдатским Железным крестом второй степени. О, какая ирония заключалась в том, что он носил его – якобы с гордостью – на левой стороне своего мундира. А что делать с пуговицей? Несколько дней он продолжал ее хранить. Их перебросили на позиции восточнее Мазурских озер. Им ничего не говорили, но солдаты догадывались о подготовке к большому сражению, поскольку несколько дней стояла полная тишина и регулярно увеличивались запасы продовольствия. Штефану было нечем заняться. Он думал о том, что ему делать с пуговицей. Потом его осенило: он пришьет ее на том же месте, где прикреплен Железный крест, но с внутренней стороны. Пуговица, таким образом, станет метафизической основой креста, основой для ордена, который они получили вдвоем, связанные как две платоновские половины одного существа. Поэтому он стал искать по всему окопу иголку и нитки, а простодушные товарищи смеялись ему в лицо, кашляя между двумя затяжками сигаретного дыма. У одного солдата из Франкфурта все-таки нашелся набор для шитья, который ему дала мать, и он передал его Штефану, предварительно вдев нитку в иглу, словно тайком передавал заряженное оружие. Штефан отошел в угол и пришил пуговицу Виткевича с гербом Французской республики на то же место, где был прикреплен крест, только с обратной стороны. Поначалу она натирала ему кожу, но потом он к ней привык. Его дорогой поляк снова был рядом с ним, но долго размышлять об этом ему не пришлось, поскольку наступило 8 февраля 1915 года и началась вторая, зимняя битва на Мазурских озерах.
Бяле, длинное Августовское и еще целая сотня озер поменьше вскоре увидят то, что их могучие воды никогда не видели, хотя одна битва в минувшем 1914 году здесь уже произошла. Но теперь была зима, вероятно самая суровая из всех военных зим. Немецкая Восьмая армия под командованием Отто фон Бюлова, невзирая на страшные холода, начала внезапное наступление в снежную метель 8 февраля. Наступление развернулось по направлению на Вуковишки и Лик. Русские понесли большие потери и отступили на двадцать километров. Больше всех пострадал русский 20-й корпус. Немецкая Десятая армия генерала фон Эйхгорна окружила в лесу на берегу Августовского озера около ста тысяч русских солдат генерала Булгакова.
Несмотря на то что термометр показывал минус тридцать восемь, русские солдаты не прекращали сопротивления. Вскоре была перерезана единственная дорога из Серпца в Полоцк, и на позициях русского 20-го корпуса начался голод. Вначале использовали остатки продовольствия, а потом стали ловить в лесу мелких животных, позже стали искать развороченные снарядами кротовые норы и вытаскивали из них спящих зверьков. Солдаты обдирали с них шкурки и ели еще теплыми, не дожидаясь, пока мясо замерзнет. На десятый день окружения деревья стояли голыми, потому что солдаты съели всю кору. Земля повсюду была перекопана, но ничего съедобного ни в ней, ни вокруг больше не было. Ожидать спасения от стального неба не приходилось, и казалось, что оно, украшенное далеким туманным солнцем, насмехается над русской армией. Никто из солдат не знал, что их поражение скрывают, что через три дня после того, как окружение замкнулось, председатель Совета министров Горемыкин заявил в Думе под крики «ура»: «Сейчас, когда счастливейший конец войны вырисовывается все яснее, ничто не может поколебать глубокую веру русского народа в окончательную победу. Наша героическая армия, несмотря на все потери, является как никогда сильной». Если бы кто-нибудь попросил солдат 20-го корпуса подтвердить последние слова председателя Совета министров, те ответили бы, что таких потерь у них не было еще никогда. С каждым днем становилось все холоднее, и на вторую неделю окружения многие начали подумывать о каннибализме. Возможно, люди и начали бы есть своих мертвецов, но раньше них до окоченелых трупов добрались одичавшие собаки, обитавшие в густых лесах, откуда по ночам непрестанно доносился жуткий концерт лая и завываний.
За несколько дней до окончательного поражения один солдат решил – вопреки всему – устроить большой пир для своих товарищей из 12-го взвода. Для Бориса Дмитриевича Ризанова Великая война началась тогда, когда он вместе со своим нехитрым воинским снаряжением прихватил с собой любимую книгу – «Сатирикон» освобожденного римского раба Петрония Арбитра. Ризанов не случайно выбрал эту книгу. До Великой войны, в той жизни, когда он и сам на Невском проспекте чувствовал страх, смешанный с решительностью толпы, Борис был студентом университетского классического отделения. Цитировал Софокла и знал наизусть последние слова Сократа перед тем, как на глазах у своих учеников он выпил черное молоко цикуты. Незадолго до начала Великой войны он прочитал «Пир Трималхиона» из «Сатирикона» на латинском языке и решил перевести эту книгу. Поэтому он и взял ее с собой в надежде, что у него будет свободное время между небольшими маршами и стрельбой по неприятелю, находящемуся где-то далеко. Но свободного времени как-то не случилось, а маршей, обстрелов и стрельбы по врагу было более чем достаточно. Вскоре он говорил себе, что перестал быть филологом и стал мясником.
И свои филологические способности, и свой интерес к ремеслу мясника он употребил для того, чтобы организовать настоящий пир Трималхиона на севере Европы, за день до окончательного поражения русской армии в окружении возле Мазурских озер. Прежде чем войти в роль богатого Трималхиона, Ризанов, как подлинный патриций, пригласил гостей. Это были его оголодавшие товарищи и их офицеры. Для начала он перевел и вслух прочел им вот этот отрывок из «Сатирикона» Петрония: «Гениальное пиршество, – воскликнули мы, когда вошли слуги и расстелили перед нашими обеденными столами небольшие ковры с изображениями охотников с копьями и сетями для ловли дичи. За ними вплыл огромный поднос, и на нем огромных размеров кабан. На его клыки были повешены корзинки из пальмового луба: одна со свежими сирийскими, вторая со свежими египетскими финиками. Для разделки кабана, к нашему удивлению, появился какой-то бородатый великан. Он вытащил охотничий нож и с силой вонзил его в бок кабана. Вначале из кабана появились жареные поросята, потом великан взрезал и их, и из них выпали жареные дрозды».
Нужно признаться, что Борис не совсем точно перевел Петрония, но его товарищей больше интересовало то, что последовало за чтением. Из ближайшего лесочка, рискуя тем, что его пристрелит какой-нибудь немецкий снайпер, Борис Ризанов с помощью двух своих товарищей приволок огромного дохлого коня. Конь, вероятно, погиб недели за две до этого, а в лесочке он был разморожен и потом нафарширован… Жарка этого животного продолжалась до поздней ночи; солдаты с песнями рубили деревья и приносили все новые и новые охапки сучьев для разожженного большого костра. Никто не понимал, как это вьючный коняга уцелел среди голодных солдат, но было похоже, что Ризанов держал его закопанным в земле, мясо пахло глиной, но от этого никто не морщился. Когда многочасовое переворачивание фаршированной туши закончилось, Борис-Трималхион надел на голову коня нечто вроде «освобождающего венца» (никто из его товарищей не знал, что это такое) и выбрал одного русского великана, чтобы тот вонзил нож в бок коню. Мясо слегка пованивало, но гости были снабжены самой лучшей приправой – волчьим голодом.








