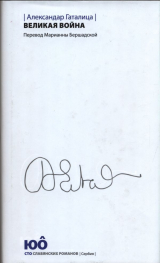
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Закат еще одного шпиона в 1917 году тоже начался с вытаскивания ниточки. И у Сиднея Рейли вдруг стали распарываться карманы. Одна ниточка, затем другая. Их надо потянуть или оборвать… Еще с конца XIX века Сидни Рейли воспринимал шпионскую деятельность как средство личного самовыражения. Уже в начале XX века он работал на такое количество спецслужб, что часто сам не мог разобраться в густой паутине двойного шпионажа. Он оставался мастером переодевания и владельцем самого большого количества поддельных паспортов.
Многим дамам было знакомо это мышиное лицо с выделяющимися черными круглыми глазами, длинный аристократический нос и тонкие губы с постоянно торчащей между ними сигарой с ароматным черным табаком с ванилью. Рейли известен веселым характером и короткими романами, которые заканчивались выдачей государственных тайн сквозь слезы радости или вины. Во время Великой войны он являлся главным агентом секретной британской службы SIS, что, однако, не помешало ему открыть в Нью-Йорке фирму, продававшую боеприпасы и русским, и немцам с Восточного фронта. В конце концов, он же должен был чем-то зарабатывать себе на жизнь, а заработка шпиона британской короны хватало только на дорогой гардероб и оплату гостиниц.
Когда в октябре 1917 года после выхода России из Великой войны дела замерли, он вернулся в Британию. Один или два раза встретился с террористом Освальдом Райнером и дал ему секретное поручение, которое должно было завершиться одной выпущенной пулей. Он умел отдавать приказы, и более того – шантажировать, а самому не становиться жертвой шантажа. Поэтому в конце 1917 года, незадолго перед большевистской революцией, Рейли отправляют в Петроград. Он еще с юности хорошо говорит по-русски и имеет связи в царской охранке. У его группы задание – убить нескольких подкупленных министров Временного правительства и, таким образом (по странным причинам, известным только SIS), подтолкнуть ленинский переворот. Все это кажется Рейли, «господину Рыбенко», как его называют в России, очень простым. Русские женщины ему всегда нравились больше англичанок и американок, да и он – со своими нервными мышиными глазами – очень скоро стал дорог петроградским старым девам. Они улыбались ему и кокетничали: «По-русски вы говорите, как какой-то татарин, но ваш английский превосходен». Словом, все шло как надо, пока у него не порвался карман. Один, а потом и второй. Он вытягивает нитку за ниткой, он тоже не понимает, почему его дорогие костюмы сшиты так плохо. Виноват русский октябрь, самый плохой месяц в году, когда дождь превращается в острые иголки снега и инея. В этот скверный месяц он был разоблачен. Вытягивая ниточки, он тоже вытянул собственную судьбу. Его товарищи были арестованы и, после короткого следствия, расстреляны, а Рейли с помощью немецкого паспорта удалось бежать в Финляндию с того самого Финляндского железнодорожного вокзала, на который несколькими месяцами ранее прибыл Ленин. Свою жизнь он спас, но Великая война для этого шпиона была все-таки закончена.
И еще одной, третьей по счету шпионке, карьеру оборвали все те же ниточки. Ее звали Мата Хари. Она слыла непревзойденной исполнительницей восточных танцев. У нее было свое шоу, где она представала поклонницей яванских богов. Округлые щеки, мраморное лицо, взгляд холодной и непреклонной соблазнительницы. На сцене она появлялась в коротких юбочках, подчеркивающих ее бедра и мышцы. Под милым взглядом скрывался безжалостно амбициозный и жадный до славы манипулятор. Трудно было найти человека, не видевшего шоу Маты Хари. Не было никого, кто не поверил бы, что боги на Яве говорят именно так, как танцует Мата Хари под их музыку.
Огни рампы, грим и пудра скрывали жалкую жизнь голландки Маргареты Гертруды Зелле. Когда ей было восемь, ее отец стал банкротом, в пятнадцать она уже содержала себя сама, в девятнадцать по расчету вышла замуж за голландского колониального служащего и уехала с ним на Яву. В двадцать четыре года она потеряла сына, умершего от цинги. На двадцать шестом году жизни она возвращается в Париж, где хочет попытать счастья как танцовщица. В Париже, Городе света, она постоянно нуждается в деньгах и зарабатывает как стриптизерша, ассистентка в цирке и изредка – как модель для фотографов. Отчаявшаяся, научившаяся мстить и переносить месть других, в начале 1910 года она выдумала собственное прошлое: представилась принцессой с Явы, в детстве оставленной в храме, чтобы стать весталкой, поклоняющейся божествам и танцам.
Это была биография, достойная одновременно и отвращения и трогательного сочувствия; одна из тех нелепых сказок, в которые все верят потому, что они – явная ложь. Но когда на сцене зажигаются огни и выходит Мата Хари, когда свет рампы падает на ее кожу цвета слоновой кости, когда она начинает извиваться под звуки восточной музыки как рыба, у которой нет ни бедер, ни талии, тогда глаза мужчин забывают о пристойности и любая сказка вызывает доверие.
Мата Хари ведет свободный образ жизни, она склонна к сомнительным любовным приключениям и, так же как и Кики с Монпарнаса, ничуть не боится сифилиса, гуляющего по Европе; она обладает смертоносным шармом и часто пользуется им. Большое количество любовников укрепляет ее славу. Один из них будет стоить ей жизни. Непосредственно перед войной она знакомится с Фридрихом Вильгельмом Гогенцоллерном, германским престолонаследником, осыпавшим ее любовью и подарками, с завидным – до неприличия – постоянством присутствуя на всех ее выступлениях в Европе. Все осталось легендой. Во время Великой войны Мата Хари много путешествовала со своим голландским паспортом. За ней следили как за немецкой шпионкой, хотя сама она утверждала, что работает на французскую разведку. В феврале 1916 года стали распарываться откровенные платьица, в которых она выступала на сцене. Перед выступлением ей бросалась в глаза одна шелковая нить, которую она безуспешно пыталась оборвать или спрятать под подкладку. Перед следующим выступлением она меняла платьице, но и с ним происходило то же самое…
Ее арестовали 13 февраля 1917 года в отеле «Плаза Атене», обвинив в том, что она передала немцам чертежи английского танка. Ей показали перехваченные сообщения немецкого военного атташе под псевдонимом «Н-21». Она сказала, что никогда о нем не слышала, и повторила, что работает на французскую разведку. Потом пришли какие-то грубые люди с черными усами, падавшими до плеч, страшными шрамами и воспаленными запавшими глазами. Они ничуть не походили на ее поклонников. Допрашивали ее несколько дней, а она как бабочка крутилась вокруг обвинения, пытаясь не сорваться и не прилипнуть к нему. В конце у нее иссякли силы. Следователи объяснили ей, что она никогда не работала на французскую разведку, но является немецкой шпионкой. Ее приговорили к смертной казни.
В последний путь она отправилась 15 сентября 1917 года, сопровождаемая вздохами всего Парижа. На ней, яванской принцессе, была длинная шуба и туфли на высоких каблуках. Холодный ветер свистел в ветвях, когда ее привезли в Венсенский лес. В расстрельной команде было двенадцать солдат – совсем молодых мальчишек, никогда не видевших, как она танцует: офицеры боялись, что солдаты постарше, впав в неистовство, в последний момент могут прийти ей на помощь вместо того, чтобы расстрелять. Поэтому они и нашли этих безусых исполнителей приговора, привезенных со всех концов Франции. Вместе с ними за осужденной следовал доктор – для констатации смерти Маты Хари – и ее адвокат.
Когда они прибыли на место, где танцовщицу должны были расстрелять, Маргарета Гертруда простилась с адвокатом и дала немного денег доктору, который должен был после казни засвидетельствовать ее смерть. На предложение высказать свое последнее желание она расстегнула шубу и сбросила ее на землю. Расстрельный взвод увидел ее нагое тело, сиявшее на утреннем солнце, как перламутр. Округлые плечи девочки, маленькие груди, похожие на серебряное руно, повешенное на ребра, и свежевыбритый и надушенный в это утро лобок… Мальчишки-солдаты с трудом подняли винтовки и замерли. Залп прозвучал как заикающаяся просьба о прощении для всех тех, кто толкнул на смерть яванскую принцессу. Залитая кровью Мата Хари упала, как «Большая одалиска» Энгра. Ноги она скрестила, левую руку уронила на свои заплетенные волосы, а правой судорожно вцепилась в траву. Врач быстро констатировал смерть – смерть, о которой говорил весь Париж.
«Остерегайтесь распутанных нитей», – говорил в эти дни изображающий мудреца Аполлинер, в то время как весь Париж скорбел по Мате Хари и каждый мужчина чувствовал себя хотя бы немного виноватым в том, что не пришел ей на помощь. Но такой город, как Париж, не может долго помнить героев и дольше месяца оплакивать заблудшие души. Эта дурно пахнущая клоака просто должна веселиться, как клоун должен выступать и перед выходом на сцену надевать улыбку паяца на свое лицо, пусть даже оно в слезах. Уже через неделю засияло солнце, и каждый городской квартал сбросил маску виноватого и начал радоваться последнему солнцу и умирающей осени, засыпавшей красной листвой авеню Републик, странным просветам в парке Тюильри, необычным прохожим возле Гран-Пале и одной странной свадьбе в разгульном мире художников.
В роли жениха и невесты выступают художник и замужняя женщина. Как это может быть, чтобы состоящая в браке женщина была невестой? Но на дворе 1917 год. Девушки становятся эмансипированными. Утренние сеансы любви сменяют вечерние оргии. Мужчины на полях сражений, а почти высохшие под жаркой звездой Сириуса женщины каждый день хотят, чтобы кто-то заменил их в постели. Самые неотесанные простушки утверждают, что не получают от мужчин известий неделями и месяцами. Живы они или погибли, не так трудно установить, но кто будет заниматься розыском, если их жены о них позабыли? За несколько франков в городском морге и за такую же сумму в военном ведомстве можно получить свидетельство о «временном исчезновении», а этого для Парижской мэрии достаточно, чтобы замужняя женщина снова вышла замуж.
Художник Кислинг влюбился в Рене-Жан Грос, двадцатилетнюю блондинку с челкой до самых бровей, в мужских брюках и непарных носках. Она немного похожа на Кики, но гораздо более изысканна и, как говорит художник, «пукает только в туалете». Рене нужна Кислингу, чтобы залечить раны, нанесенные Кики (источник ее дохода вмиг иссяк), а Рене необходим Кислинг, чтобы снова выйти замуж. Она понимает, что художник отнюдь не идеал. Знает, что он развратник и манеры у него совершенно разбойничьи, но рассуждает следующим образом: нужно хотя бы один раз выйти замуж, чтобы избавиться от своего бретонского скульптора, которого она объявила «временно пропавшим без вести», а потом все пойдет легко. Второго мужа легко заменить третьим, а там, где третий, легко запрыгнуть в кровать и к четвертому…
Жених, Кислинг, знал первого мужа Рене Грос. Он даже и развратничал вместе с ним в 1914 году и теперь появился, чтобы утешить «вдову» и «сохранить память о великом художнике». Он планирует грандиозную свадьбу. Участники пройдут по улицам, как крестный ход. Так и случилось. Весь Париж собрался на эту сомнительную «фешту» с обручальными кольцами и клятвами. Свадебная процессия начинается от квартиры Кислинга на улице Жозефа Бара. В ней участвуют все: Кики и Фуджита, дядюшка Комбес и дядюшка Либион, Андре Бретон, Жан Кокто (без револьвера за поясом), Аполлинер и та самая кокетка, игравшая на рояле на премьере его спектакля «Груди Тирезия». Веселая компания шествует по улицам. Некоторые играют на губных гармошках, другие неритмично бьют в барабаны, третьи дуют в свистульки. Когда они проходят мимо «Ротонды», дядюшка Либион покидает процессию и угощает ее участников своим самым кислым вином, утверждая, что оно десятилетней выдержки.
Это стадо заполнило отель «Вила», и молодые были полны решимости произнести перед господином помощником мэра свое судьбоносно-ненадежное «да», но в этот момент невеста неожиданно вскрикнула. Она смотрела на Кислинга, но в его лице внезапно увидела своего бывшего, без сомнения живого мужа. Неужели произошла подмена? Неужели бретонский скульптор сумел прокрасться в мэрию и удивить свою неверную избранницу? Ничего подобного. У невесты случился нервный срыв, а Кислингу показалось, что он, уже стоя перед алтарем, потерял вполне пристойную невесту. Но в этот момент из толпы выскакивают старший сват и кумовья. Они уверяют мадам Рене-Жан, что ее бывший муж «временно пропал без вести», но она и слышать об этом не хочет. Она кричит, бьет Кислинга по плечам и кричит: «Убирайся с глаз долой, бретонское дерьмо, я хочу жить!»
Ну и пусть живет, только почему из-за этого у Кислинга должны быть синяки? Из толпы выходит Кокто. Спокойно достает бритву (он всегда носит ее с собой) и говорит невесте: «Посмотри, сестричка, это не твой муж. Это непутевый художник Кислинг». А сам в это время насухую сбривает художнику усы, потом бакенбарды и, под конец, даже брови. Теперь перед Рене стоит монстр с лицом манекена из какого-нибудь магазина на бульваре Осман, но невесте становится лучше. Ее взгляд приобретает осмысленность, на губах появляется улыбка. Господин помощник мэра может наконец начать церемонию, и он старается сделать это как можно быстрее, чтобы шумная компания пьяниц и бывших фронтовиков как можно быстрее покинула отель.
Бракосочетание проходит в полной тишине. Жених выглядит так, будто пережил пожар, а невеста – будто только что хорошенько проблевалась после веселой пьянки. Оба бледны, но процессия продолжает шествие. Музыка все больше удаляется, веселье выплескивается на соседние улицы и площади, как песни бродячих музыкантов, которые в конце октября можно услышать в Венеции, хотя там в эти дни было не до песен. К австрийской Пятой армии под командованием Светозара Бороевича фон Бойны присоединились девять австрийских и шесть немецких дивизий под командованием Отто фон Бюлова, снятых с Восточного фронта. Наступление на юге Италии в направлении реки Тальяменто и города Капоретто началось 24 октября 1917 года в два часа ночи и стало полной неожиданностью для итальянцев. Вскоре Венеция оказалась в осаде. Фронт находился всего в десяти километрах от Местре и перешейка, ведущего к городу на воде, а густой туман расцвел как украшение ночи и лег на каналы, улицы и переулки.
Многие музыканты оказались пленниками тумана, но все-таки играли свои горячие южные мелодии, хотя за это никто не давал им ни лиры. Они хотели развлечь народ, а не заработать в эти тяжелые времена, тогда как семьи аристократов уже принялись паковать фамильное серебро и садиться в лодки прямо из нижних сырых комнат, а гондольеры перевозили этих пристыженных потомков патрициев бесплатно. Каждый надеялся, что уже завтра засияет солнце или пойдет дождь, но туман не рассеивался и в городе поселился страх. Люди бродили по улицам, как призраки или ожившие маски, и разговаривали друг с другом на венецианском диалекте. Если кто-то замечал в тумане, что ему навстречу движется незнакомец, то говорил по-венециански: «Остерегайся, немецкие шпионы не дремлют!», а встречный должен быть ответить: «Остерегаюсь, во имя короля и отчизны!» Это был знак того, что встретились два венецианца. Но, увы, немецкие шпионы, несмотря на эти меры, без всяких предосторожностей разгуливали по улицам. Это были не немцы или какие-то иностранцы, которых можно было легко узнать по акценту; шпионами были сами венецианцы, хорошо знавшие венецианский диалект и весело приветствовавшие друг друга фразой «Остерегайся, немецкие шпионы не дремлют!» Так говорили все, а музыканты продолжали играть и петь, в то время как их обезьянки непрерывно били в маленькие тарелки…
Петь легче всего. Или нет. Два певца перестанут выступать в 1917 году, хотя про одного из них можно сказать, что в этом году он все-таки пел. Флори Форд, полненькая австралийская певичка из кабаре, заменившая в Лондоне арестованную немку Лилиан Шмидт, в 1917 году не исполнила ни одной песни. Весь год она продолжала устраивать чаепития и суаре в своей солнечной квартире на Ройал-Хоспитал-роуд, но петь больше не хотела. Делала вид, что нездорова, что у нее проблемы с голосовыми связками, что она уже завтра запланирует концерт и снова порадует своих поклонников от Вест-Энда до Эдит-гроув, – но это было ложью; она лгала себе и другим, она и сама это знала, когда по вечерам, тихо, чтобы не услышали даже мыши, пела «Oh, what a Lovely War»[44]44
«О, какая прекрасная война» (англ.).
[Закрыть] или «Дейзи Белл». После участия в том, что она по-прежнему называла «шпионской аферой», воспоминания об этой пухленькой австралийке стали бледнеть и растворяться. Молодые художники, которых она так любила, посещают ее все реже и реже, публика ее больше не помнит, так что в конце концов она остается в одиночестве. Живет на маленькую пенсию, экономит каждый пенни, хотя все еще остается обладательницей золотых голосовых связок…
Что случилось с горлом Ханса-Дитера Уйса – на этот вопрос, вероятно, не смог бы ответить никто, кроме таинственного ларинголога доктора Штраубе, обитавшего в доме, окруженном лужами, отводными каналами и тростником, – того самого, что прописал ему странную микстуру с запахом аниса. Из-за этого голос солдата Уйса, бывший баритон, начал мутировать и подниматься во все более высокие регистры. В 1916 году он сначала стал драматическим тенором, потом тенором-буффо и, наконец, лирическим тенором. Вся Германия вплоть до окопов на Западном фронте была в восторге, когда бывший баритон Ханс-Дитер Уйс запел «Tuba mirum» из моцартовского «Реквиема» как подлинно немецкий лирический тенор. Колебания его голоса объясняли стрессом, однако солдат Уйс был счастлив только в этот вечер и еще два следующих, когда вместе с теми же музыкантами исполнил «Реквием» Моцарта на бис. Уже на третьем концерте у Уйса появились проблемы с исполнением «Tuba mirum», поскольку его голос неудержимо становился все писклявее и писклявее.
Всего через неделю он уже не мог исполнять и партии лирических теноров, для него остались только произведения времен барокко, написанные для кастратов. Но этому Уйс не мог радоваться. Он чувствовал себя человеком, оказавшимся на ничейной земле, поскольку знал, что в роли контратенора продержится всего лишь день или два. Говорил он каким-то сиплым, но очень писклявым голосом, и это было последнее, что слышали от него окружающие. Потом он для всех онемел. На самом деле этого не произошло, просто его голос вышел из диапазона, воспринимаемого человеческим ухом. Никто из людей больше не мог слышать бывшего величайшего баритона немецкой сцены, но Уйса еще могли слышать берлинские псы! И прежний Дон Жуан вскоре понял, что четвероногие остались его единственными слушателями, поэтому он бродил по улицам и пел во весь голос все, что только мог хоть как-то переложить на свой нечеловеческий голос. А берлинские псы замирали. В собачьих ушах арии Моцарта звучали как божественное завывание. Его слушали пудели и боксеры, таксы и легавые, русские борзые и бернардинцы, его слушали чьи-то и ничьи псы, которые вскоре стали ходить за ним стаями, как за волшебным флейтистом, чарующим их своей музыкой. Все берлинцы думали, что это конец, что знаменитый Уйс сошел с ума. Неслышимый для всех людей, он с непокрытой головой бродил по улицам и открывал рот, как будто пел, а собаки следовали за ним стаями и завывали, как его последние хористы…
РЕВОЛЮЦИЯ ПУТЕШЕСТВУЕТ НА ПОЕЗДЕ
Было начало ноября по новому календарю. Старая Европа умирала во фривольностях Парижа, неопределенности Лондона, односторонности Берлина, сумраке Рима и пожарах Вены – на каждом шагу бледного Запада. Восток в это время ломался и крошился, как полуразрушенный фасад, за которым шатаются стены старой Думы и трещат гнилые помещичьи балки… Массы вооружались и готовились к восстанию от Триеста до Кёнигсберга и от Печа до Берлина, но самая высокая температура тела наблюдалась в Петрограде. В начале ноября 1917 года выпал первый снег, а необузданная столица доживала свои последние вавилонские дни.
Игорные клубы, вход в которые стал стоить до двадцати пяти тысяч рублей и где рекой лилось шампанское, лихорадочно работали от заката до рассвета. В центре города проститутки в дорогих украшениях и драгоценных шубах прогуливались по улицам и наводняли кафе. Их клиентами были заговорщики-монархисты, немецкие шпионы, контрабандисты и помещики, продававшие земли за пачку ассигнаций. Многие все еще хотели остановиться, застыть на месте и подумать, но лихорадочный Петроград под серыми облаками, захваченный первыми сильными морозами, мчался все быстрее и быстрее – но куда?
На углу Большой Морской и Невского проспекта отряды солдат с примкнутыми к винтовкам штыками останавливали все частные автомобили, выбрасывали пассажиров, а шоферам приказывали ехать к Зимнему дворцу. Чуть подальше, перед Казанским собором, та же самая картина: автомобили разворачивают назад, на Невский проспект. В это время там оказалось пять-шесть матросов с надписями «Аврора» и «Заря свободы» на ленточках бескозырок. Они потихоньку сообщили самозваным дорожным регулировщикам: «Кронштадт восстал, матросы вот-вот будут здесь».
Петроградский Совет большевиков заседал в Смольном. От усталости и бессонницы делегаты падали на пол, но снова вставали и продолжали участвовать в дискуссиях. Девятнадцатого октября по старому стилю, то есть 4 ноября по новому, состоялось самое важное революционное заседание. Товарищ Троцкий сказал: «Меньшевики, эсеры, кадеты, сторонники Керенского, трубачи генерала Корнилова и те, кто отправился к послу Бьюкенену на переговоры между Востоком и Западом, – все они нас не интересуют». Затем встал делегат 3-го самокатного батальона: «Три дня назад наш корпус получил приказ двинуться к Петрограду с Юго-Западного фронта. Нам этот приказ показался подозрительным, поэтому на станции Передольск мы встретились с делегатами 5-го царскосельского батальона. На совместном митинге мы постановили, что среди самокатчиков нет ни одного человека, желающего проливать кровь за правительство помещиков и буржуев». Выкрики одобрения и воодушевление, переходящее в поломку стульев и столов. Товарищ Либер попытался разрядить атмосферу словами: «Маркс и Энгельс говорят, что пролетариат не имеет права брать власть в свои в руки, когда он к этому не готов, а мы еще не готовы». Возгласы негодования, откуда-то с порога летит пивная бутылка. Голос товарища Мартова, которого постоянно прерывают и перекрикивают, едва слышен: «Интернационалисты не против передачи власти демократам, но не согласны с методами большевиков…» Затем поднимается высокий костлявый солдат, в его глазах сверкают громы и молнии, направленные против собравшихся. У него прозвище «Лазарь», потому что его два месяца считали мертвым. «Солдатские массы не доверяют своим офицерам, – говорит он, – чего же вы ждете?»
К каким они пришли выводам, почти неизвестно. В четыре утра пришли товарищи и граждане с винтовками в руках. «Пошли, – сказал гражданин Зорин, – мы арестовали министра юстиции и министра просвещения. Матросы из Кронштадта вот-вот прибудут. Красногвардейцы на улицах, они перехватывают все машины, что на ходу. Спать нам сегодня ночью не придется. Необходимо захватить почту, телеграф и государственные банки».
В понедельник 5 ноября трамваи продолжали мчаться по Невскому проспекту, а на них со всех сторон висели мужчины, женщины и дети. Гостиница «Астория» неподалеку от Исаакиевского собора была реквизирована, а февральские «самоуправленцы», дравшие с постояльцев деньги за любую мелочь, разогнаны. В продаже остались только две газеты – «Рабочий путь» и «День», печатавшиеся в захваченной редакции «Русской воли». Читатели занимались перепродажей прочитанных газет, а небольшая группа растерянных людей столкнулась с капитаном Гомбергом, меньшевиком, секретарем военной секции партии, и спросила его: «Это и в самом деле восстание?» – на что он ответил: «Черт его знает! Может быть, большевики и возьмут власть, но они не продержатся больше трех дней. Куда им править Россией?»
В те дни всем снова захотелось куда-то ехать. Поездами передвигались не только люди, но и призраки. На перроне Варшавского железнодорожного вокзала в Петрограде появились люди, толкавшие перед собой, как огромные мячи, узлы с одеждой. Встречались и элегантные пассажиры с лицами, напоминающими турецкие, путешествующие с единственной сумкой из пестрой верблюжьей кожи… В те дни на поезде путешествовала и одна цыганка. Она была одета как базарная гадалка: огромная грудь перевязана платком цвета борща, на бедрах три слоя пестрых юбок. У нее были черные волосы, завязанные узлом, и глаза с постоянно скачущими зрачками, изучающими заблудших путников, но она никому не предсказывала судьбу в купе поезда. Она отправилась из столицы в заранее запланированное путешествие в Ревель. До Ревеля она ехала целый день, потому что из состава постоянно кого-то выбрасывали или, наоборот, подсаживали прямо на дороге. Днем поезд остановился по той причине, что какому-то служащему должны были вручить орден прямо в вагоне, так что пассажиры невольно стали свидетелями этой сцены… Все это цыганка воспринимала молча. В отличие от многих других, не возмущалась, не досадовала. Ближе к вечеру она все-таки прибыла туда, куда направлялась – на ревельский вокзал – и за день до революции встретилась с Яном Анвельтом, председателем Ревельского Совета. У товарища Анвельта под глазами были темные круги, опускавшиеся до верхней губы. За всю предшествующую неделю он спал не больше нескольких часов. Он полностью потерял голос, превратившийся в какой-то писклявый шепот, который вскоре должен быть перейти в настолько высокий регистр, что его смогут слышать только ревельские псы.
Товарища Анвельта гадалка нашла в центре Большевистского комитета в реквизированном деревянном здании недалеко от Ревельской крепости. Она сказала, что хочет передать ему важное сообщение. Пока она его ждала, какие-то люди в вязаных северных шапках на головах торопливо оттолкнули ее в сторону, гадалка мысленно склонилась над миром мертвых, о котором цыгане никогда не помнили и не смели вспоминать. Еще раз «вчера» показалось ей тем же самым, что и «завтра», и поэтому она про себя произнесла слово «майса», означающее и «вчера», и «завтра», и «завтра-вчера». Потом она засмеялась, словно отбрасывая все это, и вспомнила, что она в Ревеле не для того, чтобы погружаться в опасный подземный мир и плыть с оскаленными зубами по реке мертвых, а для того, чтобы кого-то обмануть. В этот момент перед ней появился товарищ Анвельт. Он взглянул на нее, и она увидела в его глазах смерть. Мертвые цыгане крикнули ей: «Анвельт, Анвельт… Будет арестован в должности секретаря Интернациональной комиссии Коминтерна и расстрелян в 1937 году… расстрелян как собака…» Это кричала ей толпа мертвых цыган, но она только улыбнулась. Она приехала, чтобы обмануть Яна Анвельта, а не говорить ему правду. Она протянула ему ладонь и, когда он ее принял, поздоровалась с ним по-дружески и тут же поклонилась и поцеловала ему руку. «Вы не верите в предсказания, но я предвещаю вам великое будущее. Я приехала приветствовать товарища Яна Анвельта, первого президента Советской России». Быстро повернулась и поспешила к желтому ревельскому вокзалу.
Там она снова садится на поезд. Делает вид, что спит, но сквозь приоткрытые веки наблюдает за сменяющими друг друга пассажирами: матерями, успокаивающими детей, и красивыми офицерами, во взглядах которых сквозят гадость и мерзость. В столицу она возвращается во вторник 6 ноября по новому стилю. Всего за час или два до штурма Зимнего дворца. Цыганке удалось найти товарища Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, за час до этого принявшего командование Красной гвардией, которая должна была взять этот самодержавный царский оплот. Представший перед гадалкой товарищ Антонов-Овсеенко был очень взволнован. Он постоянно отбрасывал со лба и лица непослушные волосы и был похож скорее на какого-то худощавого буржуя, чем на революционера. Однако говорил он иначе, чем можно было предположить. Он отдавал последние детальные приказы и сам не знал, почему в тот момент, когда нужно было начинать штурм, заметил цыганку. Она молча стояла рядом, а он кричал: «Какие к черту юнкера – всех перебить! Что, и женский батальон во дворце? Всех изнасилуем!»
Тогда она протянула руку, и он охотно принял ее. Она видела, что и Антонов-Овсеенко – мертвец. Смерть уже хозяйничала в его костях, ногах и руках, не коснувшись только глаз. А цыганка знала, что и этот революционер станет всего-навсего безвкусной пищей революции. Видела, что он будет арестован в 1938 году и его не спасет даже должность народного комиссара юстиции, но ведь она пришла обмануть и его… Она быстро нагнулась и поцеловала ему руку, как царю, а тот с отвращением отдернул ее. «Вы можете не верить гадалке, – сказала она, – но я пришла к Зимнему дворцу, чтобы предсказать великое будущее, которое вас ожидает. Я приветствую товарища Антонова-Овсеенко, первого президента Советской России».
Прежде чем глава штурмующих успел что-то ответить, цыганка повернулась, и ее пестрые юбки исчезли в массе возбужденных солдат Красной гвардии. Этой ночью в скором поезде на Кронштадт, уже украшенном красными флагами, она услышала, что Зимний дворец пал. Воздух в купе был полон угольной пыли. Возмущенный кондуктор пытался проверить билеты, но их ни у кого не было. В перебранке и ожесточенных политических спорах цыганка добралась до Кронштадта ранним утром в среду 7 ноября. Маслянистое ноябрьское солнце пролило свои немощные лучи, которые были не в состоянии согреть революционную страну, но гадалке не было холодно. Она сразу же поспешила в Революционный комитет кронштадтских моряков, и вскоре перед ней оказался их лидер Степан Максимович Петриченко. Когда она подошла к нему, он разворачивал черный флаг с вышитым лозунгом «Смерть буржуям!», под которым были изображены скрещенные винтовка и коса, а в центре красовался череп. Когда Петриченко отдавал приказы матросам, казалось, что его крупные губы постоянно улыбаются. Его голос был охрипшим и грубым, но создавалось впечатление, что командовать он может бесконечно. Цыганка знала судьбу и этого матросского вожака – он сгинет в ссылке в 1929 году, но повторила традиционную сцену с пожатием и целованием рук и предсказала: «Я вижу вас в роли первого президента Советской России». А потом ушла.








