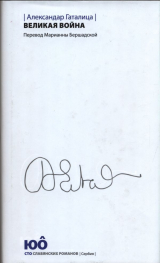
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
Незнакомец с готовностью вытащил из кармана пачку открыток, изготовленных в мастерской Биро, и принялся размахивать ими перед моим лицом как какой-то скандалист, готовый драться со мной на глазах уличных торговцев и прохожих.
– Подождите, – все-таки возразил я, – не думаете же вы, что эти открытки сами себя написали?
– Не знаю, господин, я ведь просто шорник и не очень разбираюсь в колдовстве, но я действительно убежден, что это история для французской газеты. Может быть, вы хотите посмотреть открытки? Все они написаны рукой Димитрия после его смерти. Может быть, вы хотите, чтобы кто-нибудь из наших перевел их для вас?
– Спасибо, в этом нет необходимости, я верю вам, и в ваших руках наверняка имеются не только две открытки Биро, но целая дюжина.
Тогда прохожий встал, закачался на своих по-паучьи тонких ногах, как будто намеревался убежать семимильными шагами, а я остался со своими вопросами. «Салоники действительно оживились, – подумал я, – если даже такие типы разгуливают здесь по улицам».
ЧУДЕСНЫЕ СРЕДСТВА И ДРУГИЕ ЭЛИКСИРЫ
«Дорогая птичка из Бенина», – такими словами в начале 1916 года начал письмо, адресованное Пикассо, Люсьен Гиран де Севола, бывший сценограф авангардных театров, бывший радиотелеграфист, бывший ясновидящий, бывший постановщик первого и последнего спектакля в окопах 1914 года. Прежде всего следует сказать, что Севола жив. Следовательно, он писал не на открытках Биро, которые сами составляют сообщения после смерти солдата. Нет, он собственноручно исписал два листа бумаги. В письме Севола немного перехваливал Пикассо, и был в этом далеко не единственным, в некоторых местах он чрезмерно льстил ему и в конце заговорил о самом важном: он спрашивал, не хочет ли «птичка из далекого Бенина» наконец поучаствовать в Великой войне – в качестве художника-кубиста роты военного камуфляжа. Попытки скрыть расположение артиллерийских орудий начались сразу же после того, как вспыхнула Великая война. Некий художник-декоратор, имени которого никто не может припомнить, предложил спрятать пушки и их обслугу под холстом, раскрашенным под цвет окружающего кустарника и осенних французских деревьев. Проверка проходила на позициях под Тулоном. Штаб отдал приказ поднять в воздух самолет и осмотреть место, где было расположено замаскированное орудие крупного калибра и его расчет. Летчик ничего не заметил, кроме невысоких кустов и красивейших платанов, покрытых осенней листвой. Но вскоре после этого поднялась буря и первое камуфляжное полотно унесло ветром прямо к вражеским окопам, но противник – к счастью для французов – не понял, каким целям служит это пестрое полотно, продырявленное пулями.
Несколько месяцев спустя Севола с артиллерийских позиций под Понт-а-Муссоном послал радиосообщение главному командованию. Используя свой опыт сценографа и изрядное воображение, он предложил революционное решение проблем маскировки: раскрасить сами орудия и лица солдат, а рядом с ними на деревянных клетях закрепить пестро раскрашенные щиты из твердого материала, который не позволит им улететь во вражеские окопы. Поэтому де Севола и писал Пикассо, однако нам неизвестно, ответила ли ему «птичка из Бенина» на уже упомянутое письмо в начале 1916 года. Но Севола – с Пикассо или без него – двигался вперед.
Весной 1916 года он создает первое специальное маскировочное подразделение в истории военного дела. Тридцать добровольцев надевают светло-голубую форму с вышитым на рукаве золотисто-желтым хамелеоном на красном фоне. Севола воодушевляет и остальных кубистов, и они откликаются на его призыв. Тридцать добровольцев становятся унтер-офицерами в роте алкоголиков, хорошо помнящих запрещенный сейчас «монастырский ликер», так как это немецкий напиток, – в роте, состоящей из художников-декораторов. Какой новостью это стало для всей богемы Парижа! Эти художники считались поборниками «швабского искусства» на службе различных Уде и Тангейзеров, а теперь оказалось, что все они трудятся на благо своей родины – Франции. И не только это. Все до одного они клянутся, что в душе были и остаются кубистами, и теперь начинают разрисовывать первые военные объекты в некогда неприемлемом стиле пересечения пятиугольников и квадратов. Картины, которые до Великой войны казались абсолютно ни на что не похожими под этим небом, в мгновения непосредственной опасности оказались похожими на все! Камуфляж сначала был пестрым. Эта «арлекинская маскировка» – так работы Севола назвал герой войны Аполлинер – принесла первой роте военного камуфляжа признание, но довоенному сценографу отнюдь не казалось, что он достиг своей цели. Он понял, что наступил момент, когда можно прославиться, если уж это не удалось ни на Монмартре, ни на Монпарнасе. Это, думал Севола, то самое мгновение, когда он станет первым художником, который пишет самой жизнью или, прежде всего, смертью.
Куда заведет его решение сделать первый французский камуфляж как можно более жизнеподобным, станет вскоре ясно. «Арлекинская маскировка» была только началом, потому что у командира Севола одна идея опережала другую. Следующий шаг он назвал «дислоцированным камуфляжем». План был прост: подлинные части французской армии и дальше маскировать арлекинскими красками и деревянными щитами цвета листьев и кустов, но наряду с этим создавать ложные позиции с манекенами солдат, чтобы заставить неприятеля бомбить именно их.
«Изобретательно», – сказали некоторые усталые генералы. Это прозвучало, можно сказать, почти философски, если бы не оказалось преувеличением по отношению к ужасной идее, от которой пришлось очень скоро отказаться.
Итак, дислоцированный камуфляж. Целыми неделями командир Севола шагал по грязным дорогам за линией фронта; его сопровождали большие сизые облака, когда он в бронированном автомобиле ехал в Главный штаб французской армии, чтобы изложить свои передовые идеи генералам с большими темными кругами под глазами. В результате дислоцированный камуфляж был одобрен. Теперь работу получили еще две тысячи клиентов дядюшки Либиона, чему он совсем не обрадовался. Все это были несостоявшиеся скульпторы, наскоро набранные из рядов слушателей Академии старого времени и современных кандидатов в члены Союза независимых художников. Они были похожи на длиннобородых, распущенных, невоспитанных и немного избалованных солдат третьего срока призыва, но все они стали характерными скульпторами фигуративного стиля, теперь ваявшими головы солдат для их манекенов на ложных позициях.
В нескольких местах возле Буа-де-Лож, Туля и Понт-а-Муссона, где посередине клеверного поля бегали кролики, были изображены ложные позиции длиной в несколько километров. Немецкая артиллерия бьет «ведрами с углем» и сначала поражает в основном муляжи человеческих голов и какого-нибудь бедного кролика. Люди остаются невредимыми. Севола вне себя от счастья, но немецкие артиллеристы на третий год войны совсем не столь аккуратны и точны. Скоро снаряды начинают попадать и в настоящих солдат. Так происходит в первый день, то же самое – во второй. Скульпторы Севола прилагают усилия по созданию новых ложных позиций, но командир первой роты военного камуфляжа знает, что начальство не будет удовлетворено. Двадцать первого мая 1916 года достигнуто соглашение о перемирии. Санитары выходят на изрытую снарядами ничейную полосу, словно на елизаветинскую сцену, чтобы, подобно шекспировским героям, найти и унести своих мертвецов. Командиру первой роты военного камуфляжа это краткое затишье дает возможность обойти свои ложные позиции. Увидев трупы, он останавливается.
Нет, его испугала не смерть: он видел ее в стольких обнаженных формах, что смог бы заполнить весь гербарий смерти. Что-то другое заставило его остановиться. Не отличая жизнь от смерти, санитары подбирали все, что попадалось им на пути. Рядом с разорванными манекенами лежали и настоящие, окровавленные человеческие головы, руки и голени в военных ботинках… Командир Севола сразу же направил рапорт вышестоящему командованию. В его словах звучали спартанские интонации: «Вот возможность, чтобы и наши мертвые товарищи продолжили борьбу с врагом», а смысл этих слов был в том, чтобы на ложных позициях вместо манекенов разместить головы и останки погибших солдат! Севола утверждал, что их препарируют, они не будут пахнуть и никому не будут мешать. Когда павшие исполнят свое предназначение и умрут во второй раз, останки вернут их родственникам, чтобы предать земле как героев, дважды отдавших жизнь за Францию и заслуживших два ордена за храбрость!
Это было неслыханно, но на французских позициях 1916 года эта мысль отравила души солдат и офицеров. Если бы это произошло в 1914 году, если бы у командования сохранились остатки довоенной человечности, эта идея была бы с отвращением отвергнута. Севола был бы наказан, а рота лентяев расформирована, но сейчас идея – по крайней мере, в первый момент – была одобрена и даже удостоена похвалы.
Новые «метафизические позиции» французской армии были ужасны. Не помогало и то, что Севола называл их чудесным средством обороны. Головы и части тел из Буа-де-Лож были перевезены на позиции возле Туля, а из-под Туля в ложные окопы под Понт-а-Муссон только для того, чтобы солдаты не видели обезображенных лиц, золотых зубов в челюстях и сломанных рук своих препарированных товарищей, теперь смотрящих, как древние лакедемоняне, в лицо своей второй смерти. Но солдатам все-таки было неприятно вопреки тому, что неизвестные мертвые соратники служили им защитой. Волей-неволей они представляли свою смерть: если их разорвет гранатой под Тулем, их высушенные мертвые головы отправятся на ложные позиции возле Буа-де-Лож, а руки и ноги – под Понт-а-Муссон. Даже у таких ослабевших и лишенных надежды живых людей подобная «защита» вызывала мучительное чувство, а низшее командование – из-за обычного подхалимажа перед высшим – хвалило деятельность первой роты военного камуфляжа и в донесениях с гордостью преуменьшало свои потери. Между тем недовольство росло, но конец всем этим готическим камуфляжным опытам, откровенно говоря, положила немецкая артиллерия. Она била наугад, по три-четыре дня подряд, так же как и прежде. Сотни людей отдали жизни за Республику в первый раз, сотни – во второй, так что вскоре никто не видел смысла продолжать эту ужасную «защиту» позиций. Тела последних спартанцев были кое-как соединены и отправлены по домам. Скульпторы и кубисты третьего срока призыва на радость дядюшке Либиону и дядюшке Комбесу были отправлены в Париж, а Люсьен Жирар де Севола переселился в полную неизвестность, словно и сам он и в первый, и во второй раз отдал жизнь за отечество.
От одного из немецких солдат все еще требовали, чтобы он что-то совершил для своего отечества. От Ханса-Дитера Уйса нетерпеливо ожидали, что он снова запоет и как солдат – настоящий немецкий солдат – вернется к благородной борьбе в Великой войне. Но у знаменитого немецкого певца и в начале 1916 года по-прежнему не было голоса. Может быть, в этом была виновата Эльза, отравившаяся из-за него в далеком девятнадцатом столетии? А может быть, и нет. Все говорило ему: «Не нужно жить», но маэстро был немцем, и все то немецкое, что было в нем, требовало не прекращать сопротивление. Он слышал, что в военных госпиталях еще вспоминают его имя, что солдаты умирают, рассказывая о его концерте в рождественскую ночь на ничейной полосе под Авьоном. Поэтому он нашел свою военную соратницу Теодору фон Штаде, великое сопрано из Лейпцига, с которой еще в 1914 году пел для престолонаследника.
Не так уж важно, где они встретились. Не так существенно, как именно она его утешала. Не стоит вспоминать о дребезжании чересчур напряженных голосовых связок маэстро, когда они попробовали спеть вместе. Для последней попытки маэстро Уйса запеть имеет значение то, что Теодора порекомендовала ему одного ларинголога, имеющего связи в ландвере, частную практику и обслуживающего только избранных клиентов.
Она порекомендовала. Что ему было терять?
На следующий день мы видим великого Уйса стоящим на тихой проселочной дороге, начинающейся сразу же за последними городскими домами. Какие-то птицы летают высоко в небе, как будто хотят покинуть землю, но он их не видит. Потом он подходит к дому из красного кирпича, останавливается, как будто подозрительной личностью в данном случае является не он, а врач. Под мышкой он держит что-то, завернутое в запачканную жиром бумагу.
Окруженный обводным каналом, укрытый шелестящими камышами речной поймы, доктор Штраубе взимает плату за свои услуги только гусями и гусиным жиром. Что нужно Уйсу от этого нескладного человека, на округлом лице которого даже усы держатся очень плохо и похожи на черных бабочек, готовых взлететь прямо сейчас?
– Я больше не питаю доверия к деньгам, – говорит этот доктор, – ведь сейчас 1916 год, а мы, прошу прощения, проигрываем войну. Теперь я верю только в хорошего берлинского гуся. Что вы мне принесли? Ага, полкило гусиного сала, две ножки с сомнительным запахом и немного потрохов. Не бог знает что, но ведь сейчас, простите, 1916-й. Хорошо, согласен. Вот ваша микстура. Да ладно, не думаете же вы, что я должен вас осмотреть? Но, простите, это же 1916 год. Меня заранее предупредили о вашей болезни, а я столько раз слушал вас в берлинской «Дойче-опере», что, можете мне поверить, уже много раз осмотрел. Всего доброго, три раза в день. Будьте здоровы и удачи в пении.
Уйс берет микстуру и пьет ее три раза в день. Микстура пахнет корнем танина. Сначала ничего не происходит. Певцу жалко гусятины, купленной с таким трудом, но затем в один самый обычный вторник к нему – сам по себе – возвращается голос. Как счастлив был Ханс-Дитер Уйс – правда, обманчиво – снова почувствовать себя солдатом! Всего через день или два он смог исполнять весь свой репертуар, но тогда… голос самого известного лирического баритона стал словно мутировать. Он стал более высоким. За неделю или две он перешел в иную вокальную специализацию – баритональный тенор. Вот и все, подумал он, пораженный: это означает забвение. Ему остаются опера, неизведанное поле теноровых ролей и забвение той единственной партии Дон Жуана, которую он своим новым голосом уже никогда не исполнит.
Солдат Уйс полностью удалился от мира и заперся в своем доме. Он никому не звонил – ни врачу, ни начальству. Начал, как сумасшедший, разучивать новые роли. Как прекрасно он, новоиспеченный тенор, спел сам для себя партию Орфея Монтеверди, а сразу же после этого – Самсона и Флорестана. Он подумал, что теперь сделает карьеру как драматический тенор, но голос продолжал меняться и становился все более писклявым. На десятый день, когда он снова запел, то перешел в еще более высокую тональность и стал тенором-буффо, но и это сделало его счастливым. Он снова пел то, что никогда не мог исполнять. Опять Моцарт и роль Дона Базилио, и вагнеровский Мим, и еще столько всего, но ненадолго. Через две недели после того, как он снова смог петь, он достиг еще более высокой специализации: лирический тенор. Теперь его ожидали роли Андре Шенье, Тамино в «Волшебной флейте» и Фауста. В конце концов он решил выступить и поставил на рояль ноты моцартовского «Реквиема». Удивлен был не только Берлин, но и вся Германия вплоть до окопов на Западном фронте, когда бывший баритон Ханс-Дитер Уйс запел «Туба мирум» из «Реквиема» Моцарта как настоящий немецкий лирический тенор. Изменения голоса маэстро были приписаны войне и неизвестному влиянию стресса, а его выступление в «Дойче-опере», как и в прежние времена, было снова встречено овацией. Не аплодировал только один слушатель. Это был нескладный человек, на округлом лице которого даже усы держатся очень плохо и похожи на черных бабочек, готовых взлететь прямо сейчас. Этот человек с бабочками на лице только усмехнулся и вышел из оперного зала на улицу Унтер-ден-Линден.
В тот же день, когда Уйс закончил свое последнее выступление перед публикой, король Петр Карагеоргиевич хотел кое-что записать в своем дневнике, но его рука вдруг остановилась после первой незаконченной фразы. Он написал: «Мы, короли и цари, наиболее виноваты…» и оторвал перо от бумаги. Он думал о том, что Великую войну должны были завершить монархи и что 1916 год мог бы стать годом королей, если бы они захотели увидеть что-нибудь кроме своих шелков и горностаев. В израненной Европе почти все связаны родственными узами: дяди воюют с племянниками, отцы с дочерями, выданными замуж в чужие страны, деды стали кровными врагами внуков… Где эмиссары, эти полноватые подозрительные личности в толстых шубах, которые могли бы передать письма принцев императорам враждебной стороны? Обо всем этом он хотел написать в дневнике, но остановился. Разве он сам не таил в своем сердце тяжелые упреки к родственнику, итальянскому королю Витторио Эммануилу III, не считал ли он сам короля Николая, своего тестя, фарисеем, обманщиком и комедиантом? Не слишком ли большим преувеличением было бы считать, что 1916-й – это год королей? А что творится с великой Французской республикой?
В этой приводящей в изумление республике гражданские типы продолжают свою легкомысленную борьбу с войной. В июне 1916 года в галерее рядом с салоном видного модельера Поля Пуаро проходил салон «Д’Антен». Он находился в конце прекрасной аллеи, пересекающей похожие на версальские сады. Здесь Андре Салмон собирает иностранных и французских деятелей искусств и напоминает им о солидарности. Собравшиеся представляют собой сливки непризванных и демобилизованных: рядом с Пикассо находится Матисс, а рядом с ним – Леже и недавно демобилизованный итальянский солдат Джорджо ди Кирико, затем Северини, Кислинг, ван Донген и Макс Жакоб. На почетном месте сидит Аполлинер с чалмой на голове.
Андре Салмон берет слово и пытается перекричать царящий вокруг шум. Когда толпа наконец успокаивается, откуда-то доносится немецкая речь. Никто не знает, кто произносит эти слова, они звучат как эхо французских слов… Салмон пытается кричать, но все оглядываются по сторонам. Беспокойство перерастает в беспорядок, а теснота и давка угрожают уничтожить сливки выживших представителей современного искусства… Салон «Д’Антен» оказался сорванным, а в суматохе никто не заметил, что на одной из стен были впервые выставлены «Авиньонские девицы» Пикассо. Когда все уже покинули помещение, в пространство, где прозвучали немецкие слова, вернулся только Пабло Руис. Снял со стены свою картину и, не говоря ни слова, унес ее. Он и без того не собирался ее выставлять… Когда он, держа в руках картину, шел по прекрасному саду возле салона модельера Пуаро, кто-то сказал: «Вы мерзко нас разыграли».
А на следующий день французская столичная пресса опубликовала ошибочное сообщение о том, что салон известного модельера закрыт и что вместо того, чтобы продемонстрировать солидарность, деятели искусств передрались между собой. Об этом было написано всего несколько строк и ничего больше. В той же самой газете гораздо больше места было уделено изобретению чудесного эликсира. Известный французский хирург Алексис Каррель и химик Андре Дакен изобрели новый антисептик, который, наряду с быстрым уничтожением микробов, в то же время остается безвредным для тканей человеческого тела. Опыты проводились в Компьенской больнице и, по словам журналистов, дали невероятные результаты. Компонентами этого средства были вода, соединение хлора, формула которого оставалось тайной, сода и борная кислота. Лекарство очень успешно применялось для лечения раненых. То, о чем не сообщала печать, осталось военной тайной: у тех, на ком было опробовано это средство, зарастали телесные, но появлялись другие раны.
Случайно или в результате шпионажа, похожий рецепт волшебного антисептика для лечения ран изобрели и венгерские хирурги Секели и Киш. Об этом писала венгерская пресса, но и она промолчала о том, что у солдат Двуединой монархии также были замечены странности поведения, а раны хотя и заживали, но появлялись неожиданные психические расстройства.
Актер Бела Дюранци, уроженец Суботицы, солдат венгерского гусарского полка, лучше говорил по-немецки, чем по-венгерски. В 1887 году в Мюнхене он исполнял роль Гамлета, и все восторгались его монологом «Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage» («Быть или не быть, вот в чем вопрос»). Когда разразилась война, он начал воспринимать ее как большой спектакль, где он играет одну роль за другой. Сидя в окопе накануне вражеского наступления, он играл роль Макбета, ожидающего, когда двинется лес; в первый раз убив французского юношу, он играл роль Ричарда III; выбегая из окопа с примкнутым к винтовке штыком наперевес, играл, само собой разумеется, Гамлета; будучи тяжело ранен в бок и попав в госпиталь, он, весь в крови, исполнял роль Юлия Цезаря.
Важным для этой истории является то, что ранение Белы Дюранци лечили с помощью волшебного средства для заживления ран профессоров Секели и Киша. Ткань, пронзенная штыком, действительно зажила за три дня, а затем с солдатом Дюранци стали происходить странные вещи. У этой болезни не было названия, и вначале все это его даже забавляло. Беле казались знакомыми некоторые лица, однако, приблизившись, он видел, что ошибался. Поначалу он думал, что видит командиров в то время, когда они находятся в разведке, потом генералов, которые и шагу бы не сделали из своих штабов, удаленных от фронта на сотни километров. Это продолжалось изо дня в день. Посылают его передать какое-то сообщение, а он идет по окопам, и ему кажется, что на расстоянии в сто метров он видит кого-то из родной Суботицы. Он окликает его, а когда солдат оборачивается, замечает, что это вовсе не друг его молодости. Извиняется, идет дальше, и уже на очередном расширении траншеи, в какой-нибудь «гостинице», ему кажется, что он видит покойных братьев и друзей с подсолнечных полей. Подходит к ним, не может не проверить, но каждый раз оказывается, что он ошибается. Все это не было так уж серьезно, пока в венгерских окопах ему не стали чудиться известные люди, а он даже на близком расстоянии не мог убедиться в том, что ошибается.
Он мог остановить обычного солдата и спросить его: «Вы, должно быть, Генрих Ландау, известный Пер Гюнт из Гамбургского немецкого театра?»; другому он мог заявить: «Вы вылитый Карел Витек, самый известный на всем севере шорник…» Поэтому те врачи, что лечили его с помощью чудесного средства, провели консилиум. Молчаливый доктор Киш прибыл в окружении своих молодых сотрудников. Не заметив, как удивительно поют утром полевые птицы, он тут же направился к улыбающемуся больному. Доктор видел, что с ним что-то не так, но в медицинском заключении это не отметил, потому что хотел улучшить впечатление о действии своего лекарства и получить заслуженный – по его мнению – орден. Поэтому солдата Дюранци оставили в окопах. «Пусть ему привидится хоть сам Франц-Иосиф, у него есть две здоровые руки, чтобы стрелять». Что ему пожелали, то и произошло.
Чуть позже он увидел в венгерских окопах самого императора Франца-Иосифа. Он вспомнил, как еще ребенком видел его в затопленном Сегеде в 1879 году. Император проплывал на лодке мимо пострадавших от наводнения, сидевших на крышах своих домов. Вода была грязно-желтой и пахла падалью и заразой. Грузный император сидел на носу, закутавшись в меха, и повторял те немногие слова, что были ему известны на венгерском языке: «Minden jó, Minden szép» («Все хорошо, все прекрасно»). Теперь каждое увиденное лицо казалось ему лицом императора из 1879 года. Поэтому он останавливал и поворачивал лицом к себе всех унтер-офицеров и солдат с длинной бородой и кричал: «Minden jó, Minden szép!», так что в конце концов его отправили в санаторий под Марбургом. Здесь Бела провел остаток Великой войны в роскоши, ибо за ним ухаживали исключительно принцы, известные актеры европейских театров, и даже сам император с лицом из 1879 года частенько навещал его.
В те же дни капитан подводной лодки Вальтер Швигер тоже заменял погибшие корабли-жертвы различными другими понятиями, хотя его и не лечили чудесным средством будапештского профессора Киша. Он погрузил на глубину свою подводную лодку у берегов Дании как всегда на рассвете, и уже в 10.02 увидел на горизонте дым в открытом море. Он поспешил к этому месту, но, приблизившись, увидел, что густой черный дым поднимается не над трубой корабля, а прямо над самой поверхностью воды. Капитан выругался и подумал, что какая-то немецкая подводная лодка опередила его и уничтожила корабль. Между тем над водой не было видно корпуса тонущего судна. Только дым над поверхностью воды. И никакой трубы не видно… Он не допустил, чтобы его это смутило. Продолжил свой путь, и в 12.49 ему снова показалось, что он видит что-то на атлантическом горизонте, но это был не корабль, а, скорее всего, одно из его чудовищ, которое беззаботно возлежало на поверхности, рассматривая свое отражение в спокойной глади океана. Позднее случилось то же самое. В 17.54 он снова крикнул: «Судно на горизонте!», но и на этот раз это была не мишень, и снова то же самое в 19.22 и в 20.46. В конце концов он с неудовольствием записал в бортовой журнал подлодки U-20, что боевых действий в этот день не было, отдал приказ не погружаться ночью слишком глубоко, чтобы не дразнить подводных драконов, и присоединился к команде, находящейся на камбузе.
Таким образом, в Марбурге и в Атлантике, несмотря ни на что, было все-таки весело, а вот в Стамбуле – нет. Да, погиб и третий приказчик торговца Йилдиза, самый умный из тех, что у него когда-либо были, его новоиспеченный бухгалтер. Он был призван в Месопотамию и писал ему до последнего дня на военных открытках, купленных в магазине Нурезина: «Дорогой хозяин, сегодня мы подошли прямо к красному городу Шайба. Попытались атаковать его, но на красной железной земле погибло много праведников, а многие попали в плен. Я, слава Аллаху, остался цел и невредим и нахожусь вместе со своими». «Дорогой мой хозяин, мой добрый отец, из-за поражений под Шайбой и на реке Хамисийи сегодня в больнице в Багдаде покончил с собой наш командир Ашкери-бек, что стало для нас очень сильным ударом». «Дорогой отец, мы отступаем к реке Тигр. Наш новый командир Нарудин – слава Аллаху и его пророку – вселяет в нас уверенность». «Милый хозяин, сегодня на помощь к защитникам Багдада подошла наша свежая армия Мехмеда Фазиль-паши. Все мы целовали друг друга как братья». «Дорогой отец, военное счастье перешло на нашу сторону, мы загнали британцев в крепость Карс. Не даем неверным ни пищи, ни воды».
А потом открытки перестали приходить. Если бы приказчик писал на открытках Биро, а не на военных карточках Нурезина, то он наверняка бы и после смерти сообщал: «Я жив!», «Я жив!», но турецкие открытки не были столь талантливы. Правда, приказчик, несостоявшийся бухгалтер, собственной рукой написал еще одну открытку, но ее не пропустила военная цензура. А потом он погиб в окопах под Карсом. Сейчас никому не нужно было сообщать о его смерти – ни людям, ни молве. Приказчик сам потрудился объяснить: если он перестанет писать, это будет конец. Он и был. Конец. Торговец погасил еще один светильник на складе своей души. Теперь у него оставалось только двое его помощников, которых он любил, как собственных детей: милый долговязый парень, развлекавший всех своими песнями и смехом, находился в Палестине, а самый младший, 1897 года рождения, сущий ребенок – в Аравии. Но они ему не пишут. Они неграмотные. Как он узнает об их гибели? Ему дадут знать. Дверь будет открыта. Ее и не стоит закрывать, ведь известие перепрыгнет через три стены и откроет три замка. А может быть, они выживут? Они вернутся, надеется эфенди, он снова откроет уже давно закрытую лавку – и все будет как прежде, только красные приправы, олицетворяющие неверных, никогда не будут продаваться лучше, чем зеленые, олицетворяющие праведников. Или, может быть, все напрасно. Приближается 1917 год, и его ждут со страхом. Шестидесятый год торговли для одного верного мусульманина. Почему он должен быть рабом одного изречения? На следующий день он перестанет думать об этом.
На следующий день наступило 1 июля 1916 года по новому стилю. Точно в семь часов двадцать минут взорвалась мина, начиненная тринитротолуолом, весом в 18 000 килограммов. Взрыв был сигналом для начала второй величайшей битвы этого года на Западном фронте – битвы на реке Сомме. Так же как и сражение под Верденом, эта битва – в головах генералов – должна была положить конец Великой войне и всем войнам вообще, но произошло обратное. Древняя римская дорога из Альбера в Бапом в два слоя была покрыта трупами сражающихся, а французские и британские генералы снова не приняли во внимание стойкость немецких солдат, прочность их укреплений и новых бункеров. Только на небольшом участке фронта, на южной части римской дороги, оборона была прорвана. Пали города Эрбекур, Бискор, Асвиль, а десяток немецких бункеров вместе с их гарнизонами остались на ничейной земле. Французы решили, что штурм бункеров в топкой пойме будет только бесполезной жертвой человеческих жизней, и поэтому оставили их в блокаде, продолжая прорыв к городам на севере. Французские солдаты, окружавшие каждый бункер, окопались и провоцировали противника израсходовать все боеприпасы; ждали, пока те съедят все запасы продуктов, выпьют всю воду и сдадутся.
В одном из таких бункеров оказался Александр Витек, сын Карела Витека, самого известного на севере сербской Воеводины шорника. Увидев, что он, вместе со всем гарнизоном бункера, окружен и что ему грозит неминуемая смерть, Витек решил написать завещание. Начал он его так: «Я, Александр Витек из Суботицы, в здравом уме решил оставить все, что имею, хотя в данный момент я не имею абсолютно ничего». И продолжил: «Я сын известного шорника Карела Витека, но старик еще не переписал мастерскую на мое имя, так что ее я не могу завещать никому. Два года я изучал архитектуру в Цюрихе, их я завещаю своим бородатым профессорам, никогда меня не замечавшим. У меня три брата и две сестры, и им я не могу подарить ничего, кроме пощечин и несправедливости, которыми я их и так щедро одарил. Если подумать более серьезно, то из земных благ в моей собственности есть только конь, серый в яблоках, но о нем мы поговорим позднее. Кроме этого коняги у меня есть только будущее. Его я и намерен завещать, высказав свою последнюю волю. Сегодня трое моих товарищей и я съели последние резервы продовольствия и начали пить собственную мочу, поэтому я считаю, что самое время разделить в этом завещании свое будущее.








