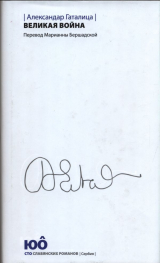
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
Через неделю она была убеждена, что тот незнакомец и эти двое втянули ее в какой-то заговор. Как спасти в себе все английское? У нее не было сил, чтобы самостоятельно заниматься разоблачением заговора. Можно попробовать обратиться в Скотланд-Ярд, но это нужно было сделать в первый же вечер, а не продолжать петь… Она задумалась и приняла единственно верное «английское» решение. Стоял исключительно холодный день, и лондонские птицы под последним скупым солнцем кувыркались в небе. Флори Форд вышла на сцену 17 декабря 1916 года и объявила, что больше не будет петь песню «It’s a Long Way to Tipperary». Причину она не назвала, но и не стала лгать, что устала, а публика шумно отреагировала на ее заявление. Зрители кричали «хотя бы сегодня вечером» и «как вы можете, мы же заплатили за билеты», но Флори интересовали только эти двое. Кричали ли они вместе с остальными? Или поспешно покидали зал? Ни в коем случае. Просто сидели и, с лишенными всякого выражения лицами, ждали свою песню, которую она решила больше не исполнять.
Так было и в этот вечер, и на следующий. Стоял холодный лондонский день, тумана не было, но и птиц тоже. Флори Форд сдержала свое обещание, и так песня «It’s а Long Way to Tipperary» забрала свою первую жертву в 1916 году. Эта первая жертва плохой песни почти забыта, но и вторая, положа руку на сердце, тоже будет популярной недолго. Лилиан Смит, точнее, Лилиан Шмидт вернулась в Германию. Обмен шпионами оказался для нее счастливым выходом, а орден и громкая слава разведчицы дали ей возможность быстро вернуться на берлинские подмостки и вызвали множество газетных статей. Одну из них, очень зажигательную, в журнале «Всадник в немецкой ночи» написал военный корреспондент Макс Осборн незадолго до своей гибели возле села «Мертвая свинья» на Северном французском фронте.
Таким образом, фрау Шмидт не составляло труда снова построить карьеру певицы варьете. Свой небольшой концерт-попурри она обязательно завершала «Песней ненависти к Англии». В этот период она еще некоторое время пела «It’s a Long Way to Tipperary», но потихоньку, чтобы никто не слышал, а на сцене она, разумеется, блистала с «Песней ненависти к Англии». Эта песня неплохо звучала. Немцы любили ее так же, как англичане любили «Tipperary», а Лилиан знала, как своим, уже немного отяжелевшим, бархатным голосом пробудить самые глубокие прусские патриотические чувства. Она любила и другие военные хиты – «Стражу на Рейне», «О, Страсбург, о, Страсбург…», «Бог, кайзер, Отечество» – и охотно исполняла их вплоть до того вечера, когда какой-то незнакомый поклонник открыл – почти неожиданно – дверь ее гримерки. Дверь была не заперта, как обычно. Коридор пустовал, что было необычно. Позже никто не мог объяснить ей, как посторонний вошел в театр. Незнакомец стоял у дверного косяка. Ослепленная лампочками вокруг гримерного зеркала, она видела только его огромный силуэт, заполнивший почти весь дверной проем, и черные усы на изборожденном морщинами лице. Незнакомец был офицером высшего ранга. Он не собирался задерживаться. Сказал только: «С этого момента, госпожа Шмидт, вы будете петь только „Песню ненависти к Англии“, вы поняли? Это будет лучше всего». Потом вышел. Больше ни с кем не разговаривал.
На следующий вечер фрау Шмидт в концертной программе варьете среди имен других немецких артистов увидела и свое имя. Она должна была исполнять только одну песню. «Песню ненависти к Англии». У нее не было выбора. После возвращения она со временем поняла, что ее не считают стопроцентной немкой. Будто бы за годы, проведенные в Англии, на ней образовался некий английский налет, который она не могла с себя смыть. А ее смертельно опасная работа? А полученный орден? Вокруг нее повсюду шла война. Заслуги забывались невероятно легко, а вот к обязанностям на родине отношение было по-прежнему серьезным.
«С этого момента, госпожа Шмидт, вы будете петь только „Песню ненависти к Англии“. Понимаете?» Понимает. Разве что честь не отдает. Вечер за вечером поет эту песню, делать это ей становится все труднее и труднее, но, как и артист в цирке, она вынуждена каждый вечер выходить на сцену. Она пишет письма руководству, просит дать ей возможность разработать патриотическое шоу с разнообразной программой. Предложение отклонено. После этого она просит разрешения исполнить небольшое попурри из семи своих самых любимых песен, с которыми она собирается выступать для солдат на фронте и в больницах, где лечат тяжелораненых. Ей запрещают и это. Последнее, о чем она умоляет, чтобы ей разрешили хотя бы изредка – скажем, раз в месяц – исполнять «Стражу на Рейне». Когда ей отказывают и в этом, она наконец понимает: ее не обменяли, она не вернулась в Германию. Она – по сути дела – оказалась в аду, где постоянное исполнение одной и той же песни стало ее единственным наказанием.
Как и подобает артистам, Лилиан Шмидт умерла на сцене после своего последнего выступления. Она исполнила «Песню ненависти к Англии», скрестила ноги, как балерина, и склонилась в глубоком поклоне, из которого не поднялась. Последнее, что она слышала, были восторженные аплодисменты слушателей, невидимых в свете софитов.
В это время, в конце 1916 года, многие смерти совпадали. Так отдали Богу душу не только Лиза Честухина и Распутин. В одно и то же время на небо отправились тысячи людей, и так случилось, что в одни и те же минуты и секунды умерли Лилиан Шмидт и отец Донован, капеллан 3-й роты 2-го батальона 91-й шотландской дивизии, но его смерть случилась не на публике в ореоле славы, хотя именно отсутствие интереса к мертвым телам обоих было почти одинаковым. Лилиан Шмидт была в тот же вечер отправлена в берлинский морг, где ее даже толком не осмотрели. Тело отца Донована было отправлено в военный госпиталь, где патологоанатомы тоже не обратили на него особого внимания. Шла война, и мы не можем их упрекнуть. Кто умер, тот мертв. Того, кто мертв, просто вычеркивают из списков живых. После смерти Лилиан Шмидт ни одной другой немецкой певице не было приказано исполнять только «Песню ненависти к Англии». А почему так произошло именно с ней, никто не объяснил. Публика еще какое-то время обсуждала ее бархатный голос и героизм в Лондоне, а затем все десять тысяч двести семьдесят три человека, побывавшие на концертах с ее участием после возвращения в Германию, стали ее забывать. После смерти отца Донована какой-то молодой шотландский капеллан занял его место, однако он отправлял мертвых солдат на тот свет молча и никогда не вытаскивал раненых с ничейной земли шестом длиной в шесть локтей. Ровно три тысячи двести одиннадцать шотландских солдат вспоминали тот рождественский вечер 1914 года, когда отец Донован служил мессу для солдат и офицеров всех трех армий, расположенных на ферме недалеко от Авиньона. Но была война. Из трех тысяч двухсот одиннадцати солдат новый 1915-й встретили две тысячи семьсот пятьдесят, а новый 1916-й, после ожесточенной битвы на Сомме, – только девятьсот одиннадцать. Иногда эти девятьсот с лишним бедолаг вспоминали отца Донована, но половина из них вскоре стала забывать его имя и называть его «отец Дункан» или «отец Донерти». Половина из десяти тысяч двухсот шестидесяти посетителей варьете в Берлине начала забывать имя Лилиан Шмидт и называть ее «Лилиан Штраубе» и даже «Лилиан Штраус». А потом время потекло дальше. Когда Великая война закончится, останется всего два шотландских солдата, четко помнящих имя отца Донована и все, что он сделал, и только три семьи, которые все еще будут рассказывать о высоком альте военной героини и не будут путать ее имя с другими – ибо такова судьба героев.
Трусам проще, они хотя бы не рассчитывают, что их будут помнить. Это история величайшего труса Великой войны. Имя Марко Цмрк немного рифмовалось со смертью. Было бы сложно описать молодого человека, который сейчас, в конце 1916 года, носит на голове венгерский шлем и отсчитывает последние часы жизни. В первые годы XX века он занимался всем понемногу, так же как всего понемногу было и во времени, в котором он жил. У него был очень сильный отец, ожидавший, что сын будет настоящим хорватским домобраном. А в голове у него гудел улей, требовавший, чтобы он стал революционером. В его душе жил страх, а готовность спасаться бегством поселилась в плоскостопии. Уязвимые пятки и мечтательная голова соединялись хрупкими костями, резиновыми мышцами и тонкими сухожилиями.
Однако вряд ли бы рахитичный Марко Цмрк, напоминающий плохо сохранившийся скелет из какого-нибудь анатомического кабинета, отличался чем-то необычным, если бы еще в юности не разделился на две половины: безумно смелая половинка рулевого приманивала труса. Это была шизофрения, довольно запущенная, но ее не лечили из-за того, что болен был весь этот век. Поэтому она и достигла трагически исторических масштабов. Все началось в 1897 году, когда Марко сжег венгерский флаг. Он и сам на знал, почему сделал это. Венгрию он ненавидел, но никогда не сделал бы ничего подобного, если бы не услышал команду: «Сожги знамя!» Голос был его, страх тоже принадлежал ему. Смертельно испуганный и в то же время полный решимости, он снял зелено-бело-красное знамя и сжег его, за что и был приговорен к шестимесячному аресту строгого режима в Лепоглаве.
Позже он клялся, что пытался помешать себе, но это ему не удалось, в то время как его влиятельный отец, дважды кандидат на должность хорватского вице-бана, решил лечить болезнь сына единственным возможным способом: он вытащил его из Лепоглавы и отдал в венгерское военное училище. Годы, проведенные в Венгерской гонведской школе в городе Печ и Венгерской военной академии «Людовицеум» в Будапеште, на первый взгляд кажутся не интересными для этой истории, но атмосфера венгерских военных училищ оставила неизгладимый след и повлияла на первые политические и литературные взгляды этой двойственной личности. В это время в нем бодрствовали и рулевой, и трус. Марко старался избавиться или от одной, или от другой половины: это можно увидеть по тому, что в гонведской школе его попеременно то наказывали, то хвалили, но в эти годы, вплоть до 1912-го, до кораблекрушения дело не доходило. А потом молодой венгерский кадет получил отпуск и – отправился в Сербию.
Марко Цмрк позднее запишет: «Эту поездку в Белград, куда я отправился без удостоверения личности, не достигнув совершеннолетия и не соблюдая тысячи бюрократических формальностей, я предпринял для того, чтобы предложить свои услуги Сербии. Но какие услуги, боже мой… Я, недоучившийся венгерский кадет, сын двукратного кандидата на должность хорватского вице-бана, к тому же с неудачной наследственностью и проблематичным будущим…» Ничего не поделаешь, половинка рулевого снова победила труса. Несчастная трусливая половинка Марко Цмрка просила другую, исполинскую половинку Марко Цмрка, оставить ее в покое, но безуспешно. Пребывание в повстанческой Сербии закончилось крахом, потому что его всюду встречали с подозрением. За ним наблюдали. За ним следили. Он был арестован. Его допрашивали. Депортировали назад в Венгрию. После возвращения в «Людовицеум» и самостоятельно предоставленного Цмрком отчета о совершенном путешествии (без каких-бы то ни было колебаний, но и без раскаяния) было проведено внутреннее расследование. Его результатом стали строгий шестидневный арест и множество других наказаний. Вероятно, именно это путешествие оказало решающее влияние на то, что руководство академии предоставило кадету Цмрку отпуск по службе в марте 1913 года.
В это время состоялась и вторая встреча Цмрка с Сербией. Дело в том, что героическая половинка требовала, чтобы кадет Цмрк через Салоники отправился в только что освобожденный Скопле, где он во второй раз предложил свои услуги сербской армии. Но его и в этот раз обвинили в шпионаже и под стражей отправили в Белград. Три дня трусливая половина требовала не выпускать его из турецкой тюрьмы в Топчидере и оставить в Сербии, он три дня по-собачьи лизал нож, но его отправили на барже в Земун, а затем, на основании протокола о задержании, передали австро-венгерской пограничной страже как дезертира.
Так, в результате приобретенного им жесткого двойного жизненного опыта, была наконец разрушена его юношеская вера в идеализированную им самим Сербию, «Пьемонт освобождения и объединения», и Марко Цмрк возвращается в Загреб. Он одинок. Семьи у него больше нет. Отец публично отрекся от него в газете. С ним никто не хочет водить знакомство. Столкнувшись с потерей идеалов, он к тому же испытывает и голод. Это могло бы стать концом истории, если бы время, в котором он жил, не состояло из двух половинок: храброй и трусливой. Марко не смог надеть на голову шайкачу и стать рядовым Моравской дивизии, но ему все-таки придется отправиться на войну – такому, каков он есть.
Для Марко Цмрка Великая война началась тогда, когда он увидел, как сотни стаканов в кафе на Тушканце разбиваются о стены. Он упал в объятия обезумевшей толпы и вместе с ней весь этот вечер страстно ненавидел Сербию. Представьте себе – он! Возвращаясь домой, он разбил витрины двух сербских, как ему показалось, магазинчиков. На следующий день он горько раскаивался и зарекался, что станет неслышным, как вор, будет наступать только на свои собственные следы, только бы в 1914 году оставить за собой как можно меньше следов, которые могли бы выдать его и отдать во власть сиренам войны. Но Цмрк ошибся, недаром его имя рифмовалось со смертью.
В начале войны бывший гонвед не был сразу же мобилизован, да и половину 1915 года он провел в штатской одежде. Только в июле его призвали в Резервную офицерскую школу в Загребе, а 1 августа он был переведен в Домобранский полк, где – в соответствии с военным образованием – получил одно из низших офицерских званий и задачу обучать новобранцев, которые готовились к «последнему испытанию в борьбе с врагом». Он, бывший пироман, узник Лепоглавы, «сербский шпион» и постоялец гауптвахты. Но трусливая военная половина была довольна тем, что Марко не видел ни газа, ни штыков, ни пуль, и, таким образом, одержала кратковременную победу над храброй. Спала ли эта другая сила в теле и уме Марко Цмрка? Ни в коем случае, ей просто нужно было немного подождать. До конца 1916 года трус Цмрк спасался от отправки на поле боя диагнозом «туберкулез». Настоящим или придуманным, в данном случае это не слишком важно. Он лежал в госпитале в Ловране, и, как только врачи заметили, что лихорадка немного ослабла, его отправили на Восточный фронт, в Галицию. Был самый разгар Брусиловского прорыва, и Двуединой монархии нужна была каждая пара рук, даже если это и руки Цмрка.
Он едет в перегруженном воинском эшелоне. Солдаты вокруг него стоят, курят, поочередно сидят друг у друга на коленях, задевают и сталкиваются один с другим и извиняются, как буржуазные молокососы. В купе Цмрк начинает чувствовать себя как-то странно. Его мрачная половина поднимается из горького осадка души, и Марко понемногу переходит в фазу героизма. Все, о чем он думал и что ощущал, слушая другого себя, – пришло время прославиться. Он выходит из поезда, или, скорее, новобранцы чуть ли не выносят его на руках, ведь именно их он готовил к «последнему испытанию в борьбе с врагом». Он не узнает себя. У него есть свой «класс», молодые ученики, которые смотрят на него, как на бога. Рассказать ли им о своих поездках в Сербию? Нет, нельзя. Он делает вид, что он вожак. Убеждает в этом самого себя. Ждет не дождется начала боев, но надоедливые дожди в Галиции продлевают его жизнь на двадцать ненужных дней. В это время он безуспешно пытается утихомирить свою героическую половину.
Просит. Скулит. Мучается. Заклинает.
Никто этого не замечает. Во время сильных морозов на Рождество 1916 года назначена атака. Первым выскакивает из окопа «классный руководитель» Цмрк. Он кричит, словно не знает, что ему нужно делать. Какие-то черные птицы устремляются к нему, будто собираясь сесть на голову. Он пересекает метров десять ничейной земли, размахивая руками, как чучело. Потом внезапно останавливается, сраженный единственной, прекратившей все пулей, скрещивает ноги, словно балерина, и склоняется в глубоком поклоне, из которого уже не поднимается. Умирает сидя, а не лежа, как многие. Последнее, что он видит, это те самые вороны. Они летают большими кругами над обледеневшей галицийской землей и каркают, будто отпевая одинокого героя.
А на расстоянии в тысячу пятьсот километров к северо-западу после смерти императора Франца-Иосифа власть унаследовал последний австро-венгерский монарх Карл I. Как новому главе династии, предназначенной править тысячу лет, ему передают все символы власти и войну… ожидается, что она будет победоносной.
Ничего страшного. Всего-навсего война.
Новые правители всегда наследуют какую-нибудь войну. Между тем Карл испуган. У него тоже есть свои храбрая и трусливая половинки. И подвластные ему народы, догадывается он, являются такими же. Он усмехается. Старается быть собранным на похоронах Франца-Иосифа и потом, на собственной коронации. Шагает по улицам Вены вместе с императрицей Зитой и маленьким эрцгерцогом Отто, однако не смотрит на окружающую толпу. Его взгляд блуждает по серым венским фасадам. Он видит лица своих подданных, прижавшихся к окнам, и они напоминают ему бесцветные тыквы. Он ни о чем не думает. Какие-то кони с черными султанами, черная свита в касках с черными перьями – все кажется ему похожим на черных ворон оттуда, из Галиции. Потом он стоит перед собором у подножия огромной горы из венков и цветов, принесенных обычными людьми. Уходит с похорон в сопровождении каких-то людей, пропахших влагой. Принимает корону и скипетр, но отказывается жить в покоях старого императора во дворцах Хофбург и Бельведер. Размещается в апартаментах, которые раньше занимали первые секретари двора. Они тоже кажутся ему слишком роскошными, но ему хочется спать. Он устал и должен прилечь.
Заснул он или нет – неизвестно. Но встает он бодрым и выспавшимся. В ночной рубашке садится на край своей кровати. Не хватается за колокольчик, не вытаскивает из-под кровати ночной горшок. Смотрит. Кто-то идет к нему в гости. Первым он узнает престолонаследника Рудольфа, покончившего самоубийством в прошлом, более красивом XIX веке. За ним входит покойная императрица Елизавета Баварская по прозвищу Сиси и в конце – изрешеченные пулями эрцгерцог Фердинанд и герцогиня Гогенберг. Плачут ли пришедшие? Стонут ли они? Нет. Они хотят что-то сказать ему, но голос им не подчиняется. Мертвенно-бледные, голые, очень плохо сложенные, со слоями сала, свисающего как мешки с их костей, они двигаются вокруг его кровати, но это его не путает. Он пытается по их губам прочесть то, что они хотят сказать ему. Но что это? У императрицы Елизаветы Баварской небольшой рот, но его артикуляция наиболее отчетлива. Карл пытается ее остановить, но она вырывается и продолжает вместе с остальными кружить вокруг его постели. Он должен дождаться ее и на лету понять движения ее губ, в то время как все танцуют этот вакханальный танец, постоянно вскидывая головы и поворачивая их так, чтобы он не смог понять ничего, срывающегося с их губ. Но ему нужно постараться. Они и так, как сатиры, повторяют один и тот же рефрен. Сейчас императрица Елизавета повернется, его губы хорошо видны. Она говорит… Что она говорит? Произносит какую-то дату: «Одиннадцатое ноября тысяча девятьсот восемнадцатого». Теперь он смотрит на другие губы. Да, Фердинанд повторяет то же самое, и герцогиня Гогенберг, и престолонаследник Рудольф. Это день, думает Карл, когда на него будет совершено покушение. Ничего другого. Все покойные вельможи предупреждают его об этом.
Он пробуждается, а может быть, это и не было сном? Сейчас рядом с ним никого нет. Он без размышлений хватает колокольчик. Требует, чтобы к нему привели какого-нибудь астролога. Самые лучшие находятся в Баварии. Их тысячи. Наверное, пооткрывали свои заведения на улицах и предсказывают солдатам и их матерям время смерти или счастливого избавления. Он требует самого лучшего, в то время как недавние подчиненные императора Франца-Иосифа растерянно переглядываются. Двое отправляются в подозрительный квартал Мюнхена и привозят оттуда одного мага, рекомендованного очень многими. Его зовут Франц Хартман, о себе он гораздо более высокого мнения, чем его окружение, для которого он просто «Грязный Франц». Хартман утверждает, что приобрел оккультные знания в Мадрасе, что в 1907 году вернулся в Германию, где только при помощи своей силы и вопреки злым языкам обеспечил себе место в теософском сообществе. Он считает себя первым, что бы ни говорили об этом другие. Называет себя Франц Баварский, как будто бы он какой-то князь. Его приводят в императорские покои, и «князь» Баварский внимательно слушает то, что император может доверить только ему. После этого астролог уединяется со своими натальными картами и прочими атрибутами. Через семь часов победоносно выходит из отведенной ему комнаты и радостно констатирует: «Ваше величество, на вас будет совершено покушение 11 сентября 1918 года, но вы его успешно переживете. Все остальное не должно вас беспокоить. К этому времени наши страны уже победят в Великой войне. Вам не о чем волноваться, уверяю вас».
Несколько дней спустя наступает Новый год. Карл I встречает его в белом дворце Бельведер. Его взгляд устремлен вниз по зеленой аллее, на город. Он окружен своими подданными, которые за его спиной едят и пьют, как будто делают это в последний раз. Даже генералы жадно запихивают в рот куски холодной индюшатины, еще не проглотив предыдущие. Однако он не слишком озабочен. Он не понимает, что даже высшие государственные служащие и военное командование недоедают. В канун нового 1917 года он даже слегка весел, безо всяких на то оснований, разумеется. Так последний австрийский император встретил новый 1917 год.
Этот новый 1917 год дядюшка Либион и дядюшка Комбес встретили в облаве. Десятки жандармов на велосипедах подъехали к их заведениям и начали арестовывать до смерти обиженных деятелей искусств как раз в тот момент, когда те провозгласили тост за свободу французского народа. Ни дядюшке Либиону, ни дядюшке Комбесу не было жалко этих уродов. Уже завтра заявятся те, кого выпустят из-под ареста первыми, а за ними последуют остальные, как только окажутся на свободе. Они интересовались, были ли облавы в других кафе или только у них. Они сразу же послали своих людей, чтобы проверить, происходит ли то же самое у конкурента, и те столкнулись на полпути между двумя заведениями. Хозяева вздохнули с облегчением услышав, что жандармы на велосипедах одновременно посетили оба кафе – и дядюшки Либиона, и дядюшки Комбеса. Значит, все в порядке. Это часть встречи Нового года, сказали они себе, и около трех часов ночи закрыли свои кафе.
Для актера Белы Дюранци Великая война закончилась в новом 1917 году, когда его в последний раз посетил император Франц-Иосиф. Император выглядел так же, как и в 1897 году, с расчесанными шелковыми усами. Он поприветствовал его с порога отчетливо, но достаточно тихо, чтобы не разбудить других умалишенных: «Minden јó», на что Дюранци ответил ему: «Minden szép», погрузился в сон и уже не проснулся.
Гийом Аполлинер в Новый 1917 год устроил вечеринку у себя на квартире на улице Сен-Жермен. Он сидел в центре веселой компании с тюрбаном на голове, будто какой-нибудь султан, и рассказывал шутливые истории. В соответствии с модой третьего военного года все курили глиняные трубки. Вокруг него сидели только те, кто был менее значителен, чем он, те, кого он называл «молодыми» и «интеллигентными». Среди них был и Джорджо Кирико. Он смеялся над шутками Аполлинера и обеспокоился, когда «султан» до наступления полуночи устал и удалился к себе.
Жан Кокто, бывший солдат авиационной части под командованием Этьена де Бомона, дислоцированной возле Безье, бывший интендант и бывший санитар, встретил новый 1917 год беспричинно веселым. Он пообещал себе, что так будет всегда, во все последующие новогодние торжества, даже если Великая война продлится целое десятилетие. Он всегда будет встречать Новый год с радостью. Обещание, данное себе, он выполнил. Девушка-девочка Кики в новогоднюю ночь была промискуитетной. В мастерской на полу она занималась любовью с тремя парами солдатских башмаков, и в конце ощущала себя вымотанной и опустошенной.
Фриц Габер проспал Новый год. Он ни о чем не думал и ничего не видел во сне.
И Светозар Бороевич фон Бойна встретил 1917 год во сне. На нем была пижама. Оба комплекта форменной одежды висели в шкафу и без своего хозяина прекрасно веселились, встречая новый 1917 год.
Люсьен Гиран де Севола после провала своей идеи с камуфляжем потерял ощущение реальности, и поэтому то, как он встретил 1917 год, совершенно не важно.
Ханс-Дитер Уйс новый 1917 год встретил в одиночестве. Он ни с кем не разговаривал, потому что потерял голос. Точнее говоря, голос не пропал, но стал настолько писклявым, что нормальный человеческий слух его уже не воспринимал. Это был конец карьеры. А может быть, и нет…
В противоположность ему Вальтер Швигер голоса не потерял. То, что он потерял и вторую подводную лодку, его не беспокоило. Его акула U-20, потопившая «Лузитанию», села на мель 4 ноября 1916 года у берегов Дании. Капитан Швигер высадил экипаж, минировал судно, измерил глубину моря и взорвал U-20. В порту Л. ему сразу же предоставили новую, впоследствии роковую для него подлодку U-88, с которой он обращался по-старому. Довольно много пил, вопреки правилам морской службы и достоинству отмеченного наградами офицера. К себе в каюту никого не впускал. Перекрикивался с горбатым морским дном вплоть до самого утра, и поэтому встретил новый 1917 год – последний год своей жизни – во сне.
А фон Б встретил Новый год в Вене. Как один из самых высокопоставленных служащих Двуединой монархии он тоже находился в процессии, провожавшей в последний путь любимого императора Франца-Иосифа. Наблюдал со стороны за новым императором Карлом I и думал о том, насколько тот недостоин императорской короны.
Красный Барон встретил 1917-й, обнимая свою возлюбленную. Начиная с рождественского вечера 1916 года и до первых дней нового 1917 года вылетов не было ни с одной стороны. Поэтому он мог целоваться со своей возлюбленной как ему заблагорассудится, поскольку это не имело никакого значения для составления планов полета.
Мальдгангер 19-го баварского резервного «листовского» полка Адольф Гитлер, будучи раненым, встретил Новый год в госпитале Белиц-Хайльштеттен под Берлином. Своим чудесным спасением он был обязан псу. Пес был дворнягой, непослушной и глупой, все смеялись над мальдгангером, а Гитлер бил пса. В тот момент, когда снаряд полевой гаубицы полетел к немецким окопам и засвистел в воздухе, посыльный Гитлер побежал за непослушным щенком, пытаясь его схватить. Раздался взрыв, и погибли все, кроме Гитлера. И глупая дворняга тоже была мертва. Теперь Гитлер врал раненым, рассказывая легенды о псе, бежавшем перед ним и спасшем его от неминуемой смерти. Солдаты смеялись и подшучивали над ним: «Ади, пес может быть у тебя под носом в тарелке с супом», но Гитлер не хотел этого слышал. Вместо того чтобы пререкаться с ними, он вытащил тетрадку с цитатами из Макса Осборна, куда внес следующую запись: «Немецкие солдаты в окопах, насквозь промокшие под своими плащ-палатками, встречающие новый 1917 год со своими верными псами-хранителями, напоминают мне заколдованных голландцев, поющих „Сквозь бурю и непогоду в открытом море мы плывем“».
Певица Флори Форд даже в новогоднюю ночь не спела «It’s a Long Way to Tipperary», хотя многие и просили ее об этом. В какой-то момент она захотела исполнить эту роковую песню, но некий незнакомец, один из собравшихся в ресторане «Скотт», где она встречала Новый год, подмигнул ей, и это сбило ее с толку. Она покинула празднество, не дожидаясь полуночи, так что и она оказалась среди тех, кто встретил Новый год в кровати.
Тринадцать дней спустя Сухомлинов новый 1917 год по юлианскому календарю встретил во сне, но Сухомлинова не спала. Она составляла опись носков бывшего киевского генерал-губернатора Владимира Александровича. Записала: «Двенадцать пар черных носков, всего двенадцать пар. Из них четыре пары шелковых и пять пар рваных. Подчеркиваю: двенадцать пар».
Портниха Живка отпраздновала сначала «швабский», а потом и «сербский» Новый год в своем салоне на улице Принца Евгения № 26. О встрече «швабского» Нового года рассказывать нечего. Почти нечего рассказать и о встрече «сербского» Нового года. И первого января по юлианскому календарю она была в одиночестве. Ее страшно рвало. Утром она в первый раз подумала о том, что беременна. Отцом мог быть только один человек – офицер с рваным карманом…
Сергей Честухин в Новый год долго целовал дочку Марусю. Он так обнимал и целовал ее, что она очень быстро заснула в его объятиях.
Великого князя на Новый год посетила его жена Стана, которая провела в путешествии на Кавказ целых семь дней, чтобы увидеться с наместником. Стана прибыла в сопровождении своей сестры Милицы, как будто собиралась не на встречу Нового года, а на какую-то дуэль. Но ей все-таки не удалось затеять семейную ссору, потому что Николай каждый раз заставлял ее замолчать решительным взмахом руки и словами: «Ведь это Новый год, Стана. Давай праздновать!»
Мехмед Йилдиз именно в Новый год неверных решил выйти из тишины своего темноватого и почти всегда закрытого магазинчика, который уже стал похожим на сарай с разноцветными приправами, разбросанными как драгоценности в пыли. Он назвал этот выход на улицу «выходом из своей шкуры». Он вступал в свой последний торговый год – шестидесятый, и поэтому мог позволить себе расслабиться. Теперь он для себя решил, что будет выходить на люди и станет общительным турком. Поиск новых друзей он начал в кафе, за чашечкой чая с жасмином. Здесь он познакомился с двумя стариками, похожими на него. Один все время молчал, а другой – разговаривал. Тот, что говорил без передышки, называл себя Хаджим-Весельчак. У него был невероятно звонкий голос и цокающий язык, у этого Хаджима, и слова, слетающие с его губ, были похожи на лепестки ромашки. Он сказал Йилдизу, что ждет не дождется победы или поражения в Великой войне. Победы потому, что все три центральных района Стамбула встретят ее невероятным праздником со знаменами, конями, шелковыми полотнищами, свисающими с минаретов словно гигантские шальвары, с цветами лотоса, которые будут бросать в воды Золотого Рога. А почему поражения? Потому, отвечал восторженный Хаджим, что тогда все будут встречать оккупационные войска с еще более ярким восточным умилением и помпезностью. «А веселье всегда веселье, – добавил Хаджим-Весельчак, – оно ведь всегда понапрасну – и в победе, и в поражении». – «Да», – равнодушно ответил торговец пряностями и снова вышел на улицу. Там его поджидал дождь, хлещущий с неба. Он поднял воротник шерстяного пальто и поглубже надвинул на лоб феску. Теперь у него было два друга из кафе – этот молчаливый, которого он даже не знал по имени, и Хаджим-Весельчак. На улице он встретил еще одного или двух, так что теперь у него насчитывалось четыре новых друга. Он построил их в своем прямолинейном сознании так, чтобы они выглядывали один из-за другого как профили, вырезанные из картона. Четыре новых друга, а он, несмотря на это, выглядел несчастным…








