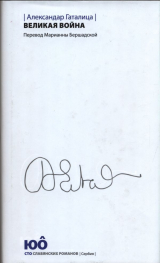
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Дреслер сразу же узнал Фая по имевшейся у него фотографии. Худое лицо, короткие усики, отчетливо очерченный нос, отбрасывающий тень на половину челюсти, и глаза, кидающие полный ненависти взгляд на все окружающее. Фай снимает серые перчатки и откладывает трость, изображая из себя важного господина. Говорит, что он в своей секретной лаборатории в Бронксе закончил проект бомбы, которую нужно погрузить на торговый корабль с поддельными судовыми документами. Состав бомбы: 25 фунтов тротила, 25 брусков динамита, 150 фунтов хлорида карбоната калия, двести корпусов для бомб и 400 фунтов металлических обрезков. В погрузке этой не такой уж и маленькой бомбы им должен помочь Пауль Кёниг, также прибывший в отель для того, чтобы сообщить важную информацию о нью-йоркских доках. Три человека продолжали беседу, а музыканты в это время все громче играли «Gott, Kaiser, Vaterland». В конце они сошлись во мнении, что потопление кораблей при помощи бомб Фая разозлит американцев, но все-таки не заставит их вступить в войну. «Если они не объявили войну после „Лузитании“, – говорит Дреслер и саркастически усмехается, – зачем им это делать сейчас?» Все трое смеются, заказывают у бармена по сигаре и, довольные собой, выкуривают их молча.
В час дня у европейцев время обеда. Американскую привычку обедать позднее никто не признает в «Асторе», и поэтому множество ложек и вилок звенят по тарелкам, пока посетители поглощают баварский суп и «зайца, фаршированного по-альпийски», запивая все это рейнским рислингом. В половине третьего пополудни, вскоре после обеда, в отель прибывает еще один необычный человек – Ричард Штеглер, специалист по невидимым чернилам. Он применял лимонный сок, потом услышал, что англичане используют для письма сперму, объединил обе субстанции и дополнил их секретными, только ему известными веществами. Теперь он хочет передать формулу первому секретарю немецкого посольства, прибывшему на встречу с сотрудником секретного отдела. Все трое наблюдают за действием невидимых чернил Штеглера и довольны результатами. Затем как соратники, у которых нет тайн друг от друга, они говорят о сети станций беспроводного телеграфа на обоих американских континентах и об известном англо-немецком словаре (редкое издание 1826 года), который служил шифровальной книгой для телеграфных сообщений. Хотя Штеглер и является американцем, уроженцем Орегона, он вместе с двумя немцами с удовольствием смеется над глупостью соотечественников, которые никак не могут взломать коды. Все трое уверены, что золотое время шпионажа продлится вплоть до окончательной немецкой победы и Америка встретит ее в статусе нейтральной страны…
Когда эта встреча завершилась, день уже почти заканчивался. В шесть часов вечера в отеле «Астор» появилась работа и у переводчика Карла А. Фира. Он ни с кем не встречался. Он прошел в номер 212, зарезервированный немецким посольством, чтобы кое-что перевести. Закончив работу около семи, он еще немного задержался в номере. Потом спустился вниз и прошел мимо Ганса фон Веделя и его жены. Было около восьми, когда эта пара встретилась с неким человеком, имени которого они не знали. Этому незнакомцу, говорившему по-немецки с американским акцентом, они передали сто двадцать два поддельных паспорта, которые тот взял и тут же скрылся, покинув холл кратчайшим путем. Супруги заказали себе абсент. Еще некоторое время они выглядели как обычные американцы, отдыхающие после удачного рабочего дня: он в шляпе «борсалино», создающей прохладу, она в цветастом платье, еще больше подчеркивающем ее полноту. В десятом часу вечера жена спросила мужа: «Ганси, а война будет?» – «Nein[38]38
Нет (нем.).
[Закрыть]», – без малейшего колебания ответил ей муж, продолжая пить свой абсент, как человек с абсолютно чистой совестью.
Около полуночи наступило время последней деловой встречи дня. Представители американо-немецкой продюсерской компании «American Correspondent Film Company» обсудили число пропагандистских киножурналов из «Фатерланда», демонстрировавшихся в кинотеатрах Массачусетса. Количество зрителей, их посмотревших, наполняло гордостью все это веселое ночное общество, уверенное в том, что американская сторона никогда не примет участие в войне. Последний раз звонок на ресепшене прозвучал в час ночи; он завершил еще один успешный день для немцев в Америке. Завтра этот колокольчик зазвонит снова, и пестрая компания людей с беспокойным прошлым и чистой совестью будет разгуливать по холлам отеля или не будет… Шестого апреля 1917 года на рассвете американский президент заявил, что Соединенные Штаты объявили Германии войну, и это был конец.
«Фатерланд» – в глубине души все здешние немцы знали это – не выдержит, если Америка тоже окажется его противником. Местные немцы даже 5 апреля так старались, чтобы этого не произошло, и поэтому никто не видел своей вины в том, что Америка вступила в Великую войну, так что 6 апреля 1917 года у кинематографистов, фальсификаторов, изобретателей бомб, картографов, лоботомистов, переводчиков, редакторов газет и саботажников из нью-йоркских доков совесть по-прежнему оставалась спокойной. Время немецкого шпионажа и пропаганды минуло навсегда.
«Я со спокойной совестью готовлю этот спектакль за счет дядюшки Биро», – сказал Гийом Аполлинер и добавил: «Этот Биро последний дурак. Нагреб денег, продавая свои военные открытки, ну и почему бы мне не забрать их у него».
Для Аполлинера это был еще один чудесный период. В то же время он был еще и ужасным. Его самая новая девушка Руби сообщила ему, что беременна. Но ребенка рожать не собирается. Так она решила. Поэтому несчастный отец обращается к театру. На сцене театра «Рене Мобель» на Монмартре он собирается поставить пьесу «Груди Тирезия». Идею пьесы ему подсказал Пьер Альбер-Биро, этот низкорослый фабрикант волшебных военных открыток, самостоятельно отправлявших самих себя и после смерти солдат. Аполлинер и Биро встретились еще в конце 1916 года. Поэт и любовник тогда изложил ему сюжет о Терезе, которая меняет пол, становится Тирезием и в роли фиванского пророка обретает власть над людьми. Глупый сюжет. И артиллерист тоже так считает. Между тем дядюшка Биро воодушевлен. Чем глупее, тем лучше, думает Аполлинер. Что же, поработаем.
Театр арендован. Актерам заплачено вперед. Писатель завершает пьесу. Дядюшка Биро в восторге. Все женщины на сцене должны быть обнаженными. Биро аплодирует. Половой акт в конце пьесы должен привлечь безусых юнцов. Дядюшка развратно одобряет. Кривляние и фокусы с музыкой и стрельбой привлекут парижское художественное отребье и заставят вынуть из кармана последние деньги. Фабрикант, играющий роль продюсера, многозначительно кивает головой. Чем хуже, тем лучше. Авангарднее. Приступаем к репетициям.
Режиссер и поэт на репетициях постоянно говорит о пацифизме, а в душе думает о поражении. Он знает, знает, что его время прошло. Он больше не верит в войну. Где те времена, когда он дважды заявлял о своем желании сражаться за Францию? Сейчас у него страшно болит голова и он проживает свой последний год. Чем хуже, тем лучше. Репетиции сводятся к ругани. Тот, кто не хочет раздеваться, вылетает из состава исполнителей. Тот, кто раздевается, тут же должен запеть с авансцены для того, чтобы у красивой пианистки, которую Аполлинер представляет в роли своей следующей возлюбленной, было побольше работы.
Когда репетиции наконец заканчиваются, на сцену выходит дядюшка Биро.
– Что напишем на афише?
– Только название: «Груди Тирезия», – отвечает поэт и многообещающий режиссер.
– Слишком коротко. Публика подумает, что это какая-то кубистская драма, но это не патриотично.
– Убирайся к черту.
– Гийом, Гийом, я отношусь к тебе, как к сыну. Не разговаривай так с отчимом. Что мы напишем?
– Напишем: дерьмовая драма… Или нет: сюрнатуралистическая или сюрреалистическая драма.
Так родилось новое художественное направление. Драма с обнаженным телом, стрельбой, пением и половым актом в конце потерпела неудачу 24 июня 1917 года. По поводу пьесы поднялся страшный шум. Все оставшиеся в живых деятели искусств были на премьере. Бретон пришел в обществе возвратившегося Кокто. Андре остался недоволен тонким лиризмом пьесы, но до какой же степени был возмущен Кокто! В конце второго акта он встал и с револьвером в руке направился к дирижеру. Он взвел курок и потребовал прекратить исполнение «Грудей Тирезия». Музыка на мгновение стихла, но именно тогда публика подумала, что, пожалуй, в этой пьесе что-то есть, если какой-то щуплый незнакомец в отглаженной форме французской армии с револьвером в руке хочет остановить спектакль, поэтому Кокто оттеснили в сторону, а смертельно бледному дирижеру приказали продолжать спектакль. Бретон вывел щеголеватого скандалиста из зала, но Кокто при этом усмехался.
– Чего же ты не стрелял, дурак? – рявкнул Бретон.
– Я вовсе не собирался убивать этого евнуха с белой палочкой. Посмотри, револьвер не заряжен.
– А если бы ты его убил, это стало бы лучшей критикой и все бы тебя заметили…
– Ага, в тюрьме. Так я стану более знаменитым, чем «Груди Тирезия».
– Ты дурак, Жан, – воскликнул Бретон.
– Нет, я есть ложь, говорящая правду, – возразил Кокто и кратчайшим путем направился к Сене.
Остальные же после этого неоднозначного провала поспешили, разумеется, к дядюшке Комбесу в «Клозери де Лила» и к дядюшке Либиону в «Ротонду». Это был один из редких вечеров, похожих на те, прежние, что то и дело выдавались в золотые времена 1914 и 1915 годов. В те пустые ночи, когда не было какой-нибудь скандальной премьеры, дядюшки сидели за стойками своих кафе и скучали. Как раз вчера дядюшка Либион гладил себя по седым усам и размышлял: когда в последний раз кто-то вскочил на стол и произнес речь, сколько времени прошло с тех пор, как кто-нибудь описал носки (эх, вот это были времена!) или вытащил револьвер с криком «Я вас всех перебью!», а посетители мгновенно прятались под столами, сколько лет назад он слышал крик «Boches!» («Швабы!»). Нет, думал он, его время прошло. Подобным образом размышлял и дядюшка Комбес. Как раз вчера он наблюдал в своем баре одну туалетную муху с не совсем чистыми лапками. Она медленно ползла по чистым бокалам для шампанского, а дядюшка Комбес даже не подумал ее прихлопнуть. Неважно, что пачкает бокалы. Кто сейчас станет заказывать «Дом Периньон» 1909 года, а ведь это был хороший год. Да, и дядюшка Комбес думает, что его время прошло.
Однако так не считает девочка-девушка Кики с Монпарнаса. Она давно уволилась с консервной фабрики, и в сапожном цехе работать тоже больше не будет, потому что устала от множества мертвых, обнимающих ее своими паучьими лапками. Она слышала, что Америка вступила в войну. Видела, как ликует весь Париж, размахивая французскими и американскими флажками. Войне, думает она, пришел конец. Но не считает, будто ее время прошло, совсем наоборот, оно только наступает. Кики словно разыгрывает пьесу «Груди Тирезия» в жизни; понимает, что с нее хватит мужских шляп и широких плащей. Ей необходимо обнажиться, сбросить с себя все и зашагать по жизни нагишом. Она хочет зарабатывать своим телом, но ей и в голову не приходит стать проституткой. Она внебрачный ребенок, но мать научила ее морали! Она будет ходить голой, она будет моделью, но она будет соблюдать себя – зарабатывать в одном месте, а получать деньги в другом. Поэтому она не будет казаться проституткой ни себе, ни другим.
Эта новая кокетка входит в «Ротонду». Выглядит она величественно: некая смесь греческой кариатиды и детской игрушки. Занимает столик в одиночестве (Непристойно!), закуривает сигарету (Неслыханно! Дама!), скрещивает ноги, приподнимает платье так, чтобы все могли увидеть, как ее бедра переходят в задницу, и под дразнящие выкрики заказывает абсент (Немецкий напиток!). Дядюшка Либион говорит: «Абсента нет, мы подаем только французские напитки», а за стойкой спрашивает художника Моиса Кислинга, кто эта новая вертихвостка. Тот прикладывает палец к губам и, повернувшись к дядюшке, говорит ему «по секрету», но очень громко: «А это еще одна мелкая потаскушка», так что его слышат даже прохожие на улице. Все смеются, но Кики знает, что художник на нее запал. Она остается допоздна, а Кислинг постепенно приближается к ней. Вначале он за стойкой. Потом уже за соседним столиком. И наконец, он просит у нее огонька и присаживается рядом. Они отправляются к нему домой. По дороге художник поет, а из окон в него швыряют пустыми консервными банками… Всю эту ночь он стонет над Кики, а для нее это нечто новое. Два года она не занималась любовью с живым мужчиной. Нет больше Жана, Жака и Жюля, ее призраков-любовников из ботинок. Сейчас рядом с ней живой художник. Нельзя сказать, что он великий любовник, но все-таки она испытывает с ним оргазм. Или симулирует его.
Со следующего дня они неразлучны. Кики становится натурщицей Кислинга. Занимается с ним любовью, но он ей не платит. Свой план она осуществляет, когда знакомится с очередным поклонником. Им становится самый известный в Париже японец, художник Фуджита. Судьба свела их во время облавы у дядюшки Либиона. Полицейские высадили десант на велосипедах в поисках большевиков, которые выпивают в кафе. Дядюшка Либион открещивается. Он не знает никаких большевиков или меньшевиков, для него они все негодяи. Последними из кафе выходят Кики и Фуджита. На нем белое шелковое кимоно, и это настолько смущает полицейских, что его не сажают в полицейский фургон. Тип в «платьице» утверждает, что Кики его дама, так что и ее тоже не арестовывают. Она стоит на парижском тротуаре: ее волосы и бедра немного промокли под дождем. Платье прилипло к груди. Она выглядит очаровательно. Фуджита, как истинный житель Востока, не отводит от нее глаз. Напрасно Кислинг в фургоне воет, как пес, которого увозят на живодерню: «Кики, ты моя! Кики!» Теперь она принадлежит Фуджите.
Спустя два дня Кислинга освобождают из-под стражи, и Кики встречается с ним. Она не сразу дает понять, что уходит от него. Якобы она может быть натурщицей и для двух художников одновременно, но… Но теперь ей нужны деньги… она похудела… времена сейчас тяжелые… день за днем она берет деньги за все, что делает для него, но не возвращается. Время Кислинга истекло. Теперь она с Фуджитой и ничего от него не требует. Она позирует ему обнаженной. Японец объясняет ей позу 26 и позу 37 для традиционного японского секса. Показывает ей какую-то книгу с развратными японскими акварелями, на них у мужчин огромные члены, а у женщин невероятно волосатые промежности. Эти двое, не отводя глаз от книги, занимаются любовью по несколько раз в день. Кики больше не знает, где у нее ноги: она раздвигает их и то поднимает вверх, то опускает вниз, то вытягивает в сторону. Японец великий любовник, таящийся в маленьком теле, но за это ему придется платить, когда любовница решит покинуть его… Они занимаются любовью утром, в полдень, после полудня, а когда нет других развлечений, то и поздно вечером. Когда восходящее солнце освещает ателье художника, Кики кажется, что любовью занимаются их безумные тела и их бешенные тени на стенах. Ее не пугают ни тени, ни опасность подхватить сифилис, эту трагическую печать всех развратников…
А вот один беглец боится даже собственной тени. Он не развратник. У него нет любовницы. Он очень скромный. На родине у него остались жена, сын и дочка. В Париже Владислав Петкович Дис в этом 1917 году был только тенью себя самого. Он прогуливался по улице Монж, где находилась его маленькая квартирка, а его тень, поднимавшаяся до балконов второго этажа, была гораздо длиннее теней других прохожих. Почему этого никто не замечал? Он посмотрел на эту темную уродину, волочащуюся за ним, как на огромное паукообразное насекомое, и поспешил уйти с узкой улицы Монж на бульвар Монпарнас, где света было больше, а тротуар шире. Там ему было немного спокойнее, но он старался избегать нервозных автомобилей, сигналящих, казалось, только ему, и поэтому он поспешил уйти в Люксембургский сад, к стоящей там металлической скульптуре: мать обнимает двух детей, похожих на его Мутимира и Гордану.
И в этот день поэт со спутанными курчавыми волосами спешил увидеть металлическую мать и детей, потому что какой-то незнакомец, сейчас он не мог вспомнить, кто это был, сказал, что скоро металлическую семью переплавят, так как Французской республике весь металл необходим для изготовления снарядов. «Тяжелые времена наступили, господин, – сказал ему этот незнакомец, – мне тоже жалко эту мать с детьми. А у вас там, в Сербии, тоже есть сын и дочь? Мне очень жаль…» Поэт не отвечал ему, он даже не помышлял спасти эту медную семью, если уж не смог спасти свою собственную. Каждый день он спешил в парк и был счастлив, что может увидеть их еще раз. «Еще один день, – повторял он, – еще сегодня, а когда вас уберут, я отправлюсь домой, к своим».
Всю весну семейство в Люксембургском саду оставалось на своем месте, а потом оно исчезло, как и предсказывал парковый сторож. На том месте, где стояла скульптура, осталось только пятно на траве. Не осталось ничего: ни матери с детьми, ни постамента. Все было отправлено на военные заводы в переплавку, и это означало, что надо отправляться домой. Владислав Петкович Дис возвратился в квартиру на улице Монж и принялся укладывать вещи в плетеный чемодан. У этого беженца был небольшой багаж. Он решил, что упакует все целое и как следует заштопанное: несколько рубашек, подштанников, носков и соломенную шляпу, но вскоре случилось нечто, вначале не показавшееся ему необычным. Вещи он упаковал вечером, собираясь уже завтра покинуть улицу Монж. Перед тем как лечь спать, он отдал хозяйке последние деньги в уплату за квартиру и все-таки остался ей немного должен. Утром он заглянул в чемодан и увидел, что все вещи мокрые, как будто ночью кто-то вылил на них целый кувшин воды. Это его не удивило. Ванная комната была настолько маленькой и так часто протекала, что и на этот раз, вероятно, случилось нечто подобное. Он вышел на улицу, поднял ладони вверх и посмотрел в низкое серое парижское небо. Солнца не было, но и дождя тоже. Он расспросил хозяйку, но та ему сказала, что ночью она очень крепко спала и ничего не слышала. Он попросил у нее разрешения остаться еще ненадолго, чтобы высушить вещи, на что она любезно согласилась.
Все утро поэт развешивал рубашки, брюки и длинные подштанники на маленьком французском балконе, закрепляя их деревянными прищепками и сворачивая шею в поисках вероломного солнца. День он провел в редакции журнала «La patrie Serbe»[39]39
«Сербская родина» (фр.).
[Закрыть], где принял участие в научных беседах. Редакцию посетил д-р Ал. Пуркович и громогласно защищал свою точку зрения. Дис слышал, как он говорил: «Все они, мой Драгомир, негодяи, жертвы своих амбиций и необузданных внутренних желаний. Это люди, которые стремятся к власти и мало задумываются о бедах народа». А редактор Драгомир Иконич отвечал ему в том же духе. Поэт тоже понемногу участвовал в беседе, но думал только о том, высохли ли его рубашки из грубого полотна и толстые зимние кальсоны.
Ближе к вечеру он снова заглянул на улицу Монж и был удивлен, что белье высохло. Он еще раз сложил его в чемоданчик и недовольно шлепнул себя по лбу. Решил вернуться домой, но никому об этом не сообщил. Нельзя просто так тайком выскользнуть из одной жизни и уехать, даже если это жизнь беженца. Может быть, поэтому и намокло его белье. Ему надо стать более общительным. Он написал два письма своим приятелям-беженцам из Пти Дала. Парижских друзей он известит о своем решении завтра. Он лег спать, а на следующее утро его ожидал неприятный сюрприз. Белье снова было мокрым.
Еще раз развесив его на балконе, он подумал, что об этом стоит написать стихотворение. И нужно сообщить о своем отъезде. Два письма в Пти Дала он отослал, в редакцию журнала сообщил, что собирается вернуться домой. Иконич пытался его отговорить и удивился, когда поэт попросил разрешения переночевать в редакции и рассказал о том, что его белье каждое утро оказывается мокрым, хотя вечером он укладывает его в чемодан совершенно сухим. «Это, вероятно, из-за влажности, мой Дис. В такую погоду все эти парижские квартирки становятся очень сырыми, вот только мы привыкли к этому и не замечаем. Если срок аренды истек и ты не продлил его, то, разумеется, можешь перебраться сюда и высушить свои вещи».
Дис так и сделал, однако и после просушки в редакции «La patrie Serbe» белье наутро снова оказалось мокрым. Теперь Иконич назвал это «мистерией», но, несмотря ни на что, поэт решил отправиться в дорогу. «Дорогой, – сказал он, – я уезжаю. Деньги, посланные родным, не доходят до них, а я больше не могу жить на чужбине». Он пустился в путь. Через Марсель, Рим и Неаполь, навстречу своей смерти. Сел на судно «Италия» и в девять часов вечера 15 мая 1917 года по юлианскому календарю отплыл на Корфу. На корабле он больше не доставал вещи из чемоданчика. Надеялся, что на Корфу молочное солнце юга высушит и его самого, и его рубашки с кальсонами, но ошибся. Утром 17 мая по старому календарю «Италия» была торпедирована в открытом море. Пассажиры вопили, когда судно погружалось в воду, священники и их многочисленная паства молились. Судовой колокол непрерывно звонил, и пассажиры, умеющие плавать, первыми поспешили схватить спасательные круги. Поэт упал в холодную воду и даже не попытался плыть – плавать он не умел. Рядом с ним качался его чемодан, который, наконец, объяснил ему, почему находившиеся в нем вещи все время были мокрыми. Поэт еще немного побарахтался в воде, как рыбья молодь, а потом утонул. Погружался он медленно, как мешок с солью, непрерывно шевеля правой рукой, словно писал на невидимой бумаге импровизированный белый стих. Его последняя мысль была о том, что ничто не может сравниться с тишиной морских глубин.
На следующий день его тело прибило к берегу поблизости от городка Корфу. Для Владислава Петковича Диса война закончилась тогда, когда его тело нашли какие-то мальчишки. В кармане у него были полторы драхмы и запасные сломанные очки. Чемодан с мокрыми вещами никто не нашел, ведь война уничтожает и людей, и все им принадлежащее, всех нелюдей и все бесчеловечное, и никто не знает, что она в какой-то момент отбрасывает, чтобы никогда не вспоминать об этом.
В России «пускали в расход» как людей, так и нелюдей. Республика кипела в крови, поте, надеждах, словах и разочарованиях. Правительство и министерства издавали чудовищные указы. Страна была грубой, сварливой и неорганизованной. Распоряжения властей не выполнялись уже в десяти километрах от столицы. Дикие казаки, разгневанные тем, что не смогли сохранить власть царя, угрожали своими шашками и молчаливым, и болтливым. На Дону была основана казачья республика, кровью написавшая свои законы, отличные от петроградских. Казаки разгромили Советы в Ростове-на-Дону, а в Харькове расправились с восставшими шахтерами, как турки, рассекая их шашками от плеча до паха. На дорогах царил террор, в переулках – грабеж, а на площадях произносили речи. С фронта приезжали солдатские уполномоченные, чтобы сказать свое веское слово; Таврический дворец, резиденция нового правительства, был до крыши переполнен словами, как вежливыми вроде «житие» и «явление», так и грубыми, например «серость». Слова проходили колоннами по Невскому проспекту, по набережным у Спаса на Крови, по берегам Малой Невки, и каждый – вопреки полному обесцениванию слов – думал, что одно, только одно настоящее слово может спасти всю ситуацию.
Обо всем этом заключенный Николай Романов вряд ли что-нибудь знал. Иногда ему что-то рассказывали охранники, иногда какие-то новости сообщали посетители, но Николаю казалось, что его корабль вышел в открытое море и до него все реже доносятся звуки с земли. Поэтому он без устали работал в саду и старался как можно больше спать. Во снах с ним происходили странные вещи: он видел себя, но будто со стороны, так, будто бы он снится другим. Он не мог объяснить, как это происходит. Это были какие-то люди, видевшие во сне – без сомнения – его в будущем. Иногда сны повторялись: так, ему не раз виделось, что он снится некоей монахине Марии Ивановне. В этом сне он видел себя, дом в провинции и каких-то грубых охранников, всю ночь лакающих, как звери, водку из стаканов. Слышал, что они собираются убить заточенную царскую семью, и в том же сне Марии Ивановны увидел, как он сидит за столом и молча ест рыбу, надеясь задохнуться от какой-нибудь косточки, как всякий трус. Однажды их – во сне Марины Ивановны – разбудили и повели вниз, в подвал. Им сказали, что переводят в подвальное помещение из соображений безопасности. Царь видел, как он спускается вниз и несет царевича Алексея, слишком слабого, чтобы идти самостоятельно. Потом он увидел этих диких людей с первого этажа с лицами, красными от водки, входящих в подвал и целящихся в арестантов из своих винтовок и револьверов. Он не мог поверить: Мария Ивановна в своем сне явно не могла поверить в смерть царской семьи. Револьверы щелкали, как будто были не заряжены, винтовки заклинило, а их, как бывает во сне, спасли солдаты, преданные генералу Деникину. Что это было за место? Какой дом? Этого узнать из сна монахини Марии Ивановны он не мог, потому что именно в этот момент она всегда просыпалась и тогда царь мог видеть что-то из ее реальной жизни. Это был какой-то странный год из будущего: может быть, 1928-й или 1933-й. Мария была монахиней в русском монастыре в Белграде и каждую ночь настойчиво видела во сне царя.
Но Николай Романов увидел не только ее сон. Царь приснился и одному русскому носильщику на железнодорожном вокзале в Вене, его бывшему солдату с Восточного фронта. Этот сон увидел и некий развратный помещичий сынок, совсем не оплакивающий необозримые родительские поля под Старой Руссой и проводивший время в Венеции с какой-то смертельно больной итальянкой. И был еще один помещик, в будущем эмигрант, танцевавший «Казачок» в дымных кафе Парижа. И еще разные искалеченные и недалекие люди, издававшие эмигрантские газеты, общавшиеся с подозрительными личностями и любившие опасных женщин. Все они жили в будущем и видели во сне царя. Странным было и то, что все они видели один и тот же – с небольшими изменениями – сон. Один и тот же дом. Вскоре Николай хорошо знал, как он выглядит и как расположены помещения. В нем царская семья. Замкнувшийся в себе царь возделывает небольшой участок. Молча стучит вилкой и из непарной тарелки ест рыбу, отдающую плесенью. Какие-то дикие люди, охраняющие их, зверски напиваются и сообщают во сне людям из будущего, что хотят убить царя, но не станут убивать великих княжон… Наступает безлунная ночь. С горы, возвышающейся над домом, доносится волчий вой. Солдаты уводят царскую семью молча или врываются в их комнаты, вспарывают штыками перины (перья летают повсюду как снежные хлопья), разбивают деревянные иконы и читают «Антихриста» Нила, любимую книгу императрицы, и скалятся как гиены. Потом подвал. Вечно этот подвал! Их уводят под предлогом того, что это требуется для их же безопасности. Час спустя во снах редактора, развратника, исполняющего «Казачок» танцора и монахини револьверы и винтовки не могут выстрелить. Ломаются. Отказывают. Дают осечку. Командиры орут на подчиненных. Убийцы плачут. Или не плачут. Приговоренных спасают преданные белогвардейцы. Люди, увидевшие в будущем этот сон, просыпаются и кричат… Нет, думал царь-узник, если эти юродивые люди видят нас из будущего именно так – значит, в нашем времени нас не убьют и наше время не истекло… Это до некоторой степени придавало ему храбрости в заточении, но последний русский монарх ошибался…
Его убийцы в опломбированных вагонах немецкой железной дороги выехали из Цюриха. Более десяти лет прошло с того момента, как они, большевики, днем хмурые, а ночью веселые, бежали из России. Теперь, в марте 1917 года, они почувствовали, что пришло время вернуться на нервную и растерзанную родину. Но как добраться до России через вражескую Германию? Англия и Франция даже не подумали помочь перебежчиками и отправить их в Россию через оранжевую Испанию так, как в 1916 году отправили террориста Освальда Райнера, убийцу во имя британской короны. Поэтому помощь пришлось просить у Германии. То, что небольшой большевистский комитет обратился за ней к врагу России, не поколебало веселых революционеров, мечтавших о новой паре обуви на каждый день. Впрочем, они были против войны, они были «над схваткой». Они хотели ее остановить и являли собой хороший человеческий груз для немецких железных дорог. Поэтому их просьба, переданная через швейцарского социалиста Фрица Платтена, была удовлетворена. Сорок человек с семьями и багажом отправятся в двух опломбированных вагонах, которые, в соответствии с точным немецким расписанием движения поездов, будут прицеплены к государственным поездам железных дорог Баден-Бадена, Вюртемберга и Гессена. Пассажиры будут путешествовать инкогнито. Они не имеют права выходить из вагона, по пути им не разрешено принимать каких-либо посетителей. Большевики принимают эти условия и начинают укладывать вещи в свои дорожные чемоданы. Ни у кого утром в чемодане не оказалось мокрой одежды, и никто, кроме одного пассажира, не усомнился в том, что необходимо вернуться в Россию.
Начало самого важного путешествия на поезде было назначено на пять часов десять минут утра 24 марта 1917 года. Все ленинские спутники, так же как и спутники Одиссея, явились на назначенное свидание с судьбой в Цюрихе. В дорогу отправились и швейцарские и австрийские большевики, среди последних был и австриец Карл Радек, единственный, кого десятидневное путешествие сильно изменило. Все это произошло из-за одного мальчика, которого Радек захотел видеть своим сыном. Как только поезд со своими поющими пассажирами, разместившимися в двадцати семи купе первого, второго и третьего класса, пересек швейцарско-немецкую границу, персоны нон-грата увидели, что такое война. Пять лет они провели как вежливые, бедно, но аккуратно одетые эмигранты, попивая кофе со сливками в дешевых пыльных кофейнях Швейцарии. Сейчас пришел час сквозь окна купе посмотреть в лицо Великой войны. С обеих сторон дороги они увидели дохлых лошадей и ослов с разинутыми ртами, покрытыми пеной мордами; на перронах маленьких станций, где останавливался поезд, не было ни одного мужчины; на одной из станций толпа собралась под окном купе, где сидели подруги Зина Зиновьева и Надя Крупская, только потому, что через оконное стекло люди увидели половинку порезанного белого хлеба; немецкие ночи, сквозь которые они мчались, светились тысячами звезд и постоянными тусклыми отблесками в сопровождении непонятного грохота вдали.








