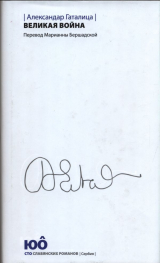
Текст книги "Великая война"
Автор книги: Александар Гаталица
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Однако никто как будто бы не хотел придавать этому значения. В опломбированных вагонах царило натянутое веселье. Надя кипятила воду для чая на старой швейцарской спиртовой плитке, а Ленин читал и беседовал с товарищами на немецком, русском и французском языках. Казалось, что в путешествие отправилась группа биологов или искусствоведов, пассажиры восхищались красотами черных лесов немецкого севера и зеленым кристаллом реки Неккар. Они были в восторге от средневековых немецких городов, приветствовавших их поклоном своих мрачных и обгорелых фасадов.
Все ощущали радость, все, как античные моряки, были уверены в безопасности путешествия, хотя никто не знал, как выглядит противоположный берег. Только товарищ Радек был подавлен. Вначале он тоже был настроен повеселиться вместе с другими, не отказывался от того, чтобы взять в руки гитару и спеть, но постоянно заглядывал в окно. Причиной тому был один мальчишка. Впервые он заметил его на вокзале в Ротвайле, где тот, как взрослый, толкал большую тележку, переполненную багажом припозднившихся пассажиров. Как австрийский большевик разглядел его в темноте, глубоко за полночь, глядя сквозь голубоватое стекло опломбированного вагона? Мальчик был хрупким, очень худым, с веснушками у носа, с одновременно плачущим и задиристым взглядом, характерным для рано повзрослевших детей. Захотелось ли Радеку, чтобы так выглядел его сын, или его тронуло то, что груз, который мальчик волок по перрону, во много раз превосходил его маленькую фигурку? Он не смог бы на это ответить.
Поезд стоял целых полчаса, и Радек смотрел на этого мальчика, с трудом толкающего тележку с неповоротливыми колесами то вперед, то назад и забрасывающего на нее вставшие на пути чемоданы. Кем был этот мальчишка и чем затронул его в этой ночи? Он не мог ответить. Когда поезд тронулся, Радек был уверен, что эта сцена смешается с другими неприятными картинами воюющей Германии. Но уже на следующем вокзале в Вормсе – он мог в этом поклясться – снова появился тот же самый мальчик. Теперь он стоял в одиночестве, казалось, ожидая кого-то. Как он смог добраться сюда со скоростью поезда государственной железной дороги Баден-Бадена? Или это был его близнец? Радек хотел открыть окно и окликнуть его, но поезд уже тронулся, и теперь он нетерпеливо ждал следующей остановки в старинном городе Штутгарте… где снова увидел того же самого мальчика. Он застонал и прикрыл рукой рот, чтобы его не услышали другие. Мальчик был ранен и опирался на костыль. То же самое лицо, те же веснушки возле носа, тот же взгляд маленького брошенного щенка. Мальчик стоял в одиночестве, готовый отречься от своей слишком рано приобретенной серьезности и ухватиться за материнскую юбку, но рядом не было никого, кто кинулся бы ему на помощь из поезда, которым ехали большевики, запертые в двух вагонах немецких и швейцарских железных дорог. Разве в других вагонах нет пассажиров? Где мать этого мальчика, недоумевал товарищ Радек, когда состав продолжил свой путь.
Франкфурт, Карлсруэ, Манхейм, вокзал Берлин-Фридрихштрассе – и везде тот же самый мальчик, только каждый раз в новой роли. То скучающе поглядывает, как карманник, то плачет, как будто заблудился, то снова тащит багажную тележку или стоит весь в синяках. Радек был счастлив, когда революционеры достигли северного побережья и выбрались из Германии. В Швеции он не видел мальчика, так же как и в заснеженной Финляндии, но зато он появился на железнодорожном вокзале в Петрограде. Это был тот самый немецкий мальчик! С веснушками на лице, с тем же самым взглядом голубых глаз и слишком рано приобретенной серьезностью. Этот старый-новый мальчик заговорил по-русски.
– Здравствуйте, товарищ Радек, я вас знаю, – сказал он и серьезно протянул ладонь для рукопожатия.
– А откуда ты меня знаешь? – спросил австрийский большевик на ломаном русском и по-мужски пожал маленькую ладонь.
– Меня попросили встретить и позаботиться о вас, пока вы не освоитесь.
– У тебя есть что-нибудь общее с немецкими мальчишками из Ротвайля, Карлсруэ, Штутгарта и других германских городов?
– Я не понимаю, товарищ Радек. Я ненавижу немцев. Что это вы видели там, в Германии?
– Ничего, ничего, – ответил Карл Радек и подумал, что его время прошло. Он обнял этого русского мальчишку, как будто обнимал тех других, встреченных в Германии, и понял, что теперь все будет иначе, чем до сих пор. Через три года после окончания Великой войны Карл Радек снова станет эмигрантом. Будет метать громы и молнии в Ленина и большевиков, называя их в американских газетах «бациллами мира», и никому не скажет о том, что первая трещина в его революционных взглядах появилась тогда, когда ему показалось, что в каждом русском и немецком городе есть один и тот же светловолосый мальчик, ожидающий только его.
Впрочем, Радека хоть кто-то ждал. Однако, когда состав с двумя опломбированными вагонами проходил через Карлсруэ, в своем доме химик Фриц Габер, отец всех готических докторов, сидел в одиночестве. Он был вдовцом, а сына отправил на учебу в военное училище. Он получил несколько дней отпуска для продажи старого семейного дома, еще сохранившего запах его жены Клары Иммервар. Химик-смерть думал теперь о том, что время его успехов прошло. Он был еще прежним, все еще считал, что в мирное время ученый принадлежит всему миру, а во время войны – только своей нации, но на себя он уже давно смотрел как на мертвеца. Он рассуждал как ученый: на сколько процентов он мертв?
Когда умерла жена, с ней умерло, скажем, тридцать два процента его существа. Когда он увидел, какие разрушительные последствия вызывает действие хлорина, он был не слишком потрясен, но все-таки умерло еще шесть процентов. Когда его не произвели из капитанов в майоры медицинской службы, это нанесенное ему тяжкое оскорбление убило два процента его личности, а все вместе к 1917 году составляет уже сорок процентов мертвого Габера!
А как насчет прогнозов? На русском фронте понемногу исчезает дикий и недостойный чести Германии безоружный противник. От этой новости шестьдесят процентов живого Фрица Габера оживились, но зато капитан Габер хорошо знал: дела на Западе обстоят не лучшим образом. Отступление к линии Зигфрида, потеря городов Бапома, Ипра и Перона ведет к неминуемому и неприемлемому для ума поражению Германии в Великой войне. Это в нем – скажем так – убило еще по меньшей мере семь процентов жизни. Несчастья и безволие людей в тылу тоже сделали свое дело. Раненые в госпиталях, радостно лежащие там по полгода, возмущали его. Эти недостойные, лишенные патриотизма немцы все вместе убили еще целых пять процентов его существа, так что Фриц Габер, химик своего тела, мог сказать, что в 1917 году он остается живым только на сорок восемь процентов. Да, меньше половины его существа осталось живым. Его время истекло, думает он, но ошибается. Еще несколько значимых частей живого Фрица Габера умрут в 1918 году.
СМЕРТЬ НЕ НОСИТ ЧАСЫ
Повсюду голая земля. Медная, пыльная греческая земля, по которой прежде ступали сандалии эллинских античных героев, а теперь – ботинки греческих солдат, чуть было не начавших воевать друг против друга. Какое-то корявое дерево на заднем плане и ветер, поднимающий воронки пыли. Нигде не видно людей, прежде веселых и поющих. Королю Петру казалось, что в 1917 году он в конце концов остался в одиночестве. Покинутый всеми, отданный своим болезням, он ясно видел, что жизнь, как поезд, проходит мимо, а он – как это чудилось и последнему русскому царю – в одиночестве стоит на перроне и пытается рассмотреть силуэты людей в движущихся вагонах. Старый король не занимался военными делами даже в 1914-м, доверил их преданным трону людям в 1915-м, в 1916-м полностью передал руководство военными действиями сыну, но даже не предполагал, что все они отвернутся от него в 1917 году. Да, сейчас король тоже считает, что его время истекло. Кому об этом можно сказать, кому довериться? Он бежал, менял место жительства: был в Эвбее, в Салониках, в Ведене, и теперь снова вернулся в Афины. Сейчас ему говорят, что Греция всем сердцем на стороне союзников, что король Константин уже далеко, в какой-то приятной, но чужой стороне.
А как же 1916-й, год королей? Его итог более чем печален. И Константин – яркий тому пример. И Николай II. А кто следующий? Он. «Я вступаю в свой последний год», – написал в своем дневнике король Петр. Старый монарх больше ничего не ждал от людей, ему оставались только болезни и смерть. На болезни он смотрел как на злобных врагов, а смерть видел в облике большого колокола под куполом его церкви[40]40
Имеется в виду храм Святого Георгия на холме Опленац близ Тополы, являющийся мавзолеем-усыпальницей княжеской и королевской династии Карагеоргиевичей.
[Закрыть] на Опленаце. Дождаться бы того, чтобы еще раз увидеть Сербию, и даже если это не удастся, он все завершил. Странно это происходит в конце жизни: хочешь или не хочешь – человек все завершил. И то, что только начал, и то, что даже не успел начать, – уже завершил. Остановленный на половине дела… но и это человек перед смертью уже закончил. Без сомнения, смерть не носит часы… Так говорил старый монарх своему новому врачу, тот выслушивал его и, подобно другим, старался не вступать в лишние разговоры, что вызывало только гнев в королевской душе, где в глубине еще горел огненный молодой уголек, но у него не было сил для проявления этого гнева.
Ну вот, его больше ни о чем не спрашивают. Посмотрим, как его слушают редкие гости, поглядывая тайком на свои часы. Короля посетили председатель Совета министров Никола Пашич и председатель Югославянского комитета Драгослав Янкович. Пашич проинформировал короля Петра об отношении союзников к Сербии, а Янкович говорил об идее объединения южных славян, он даже краснел, когда повторял: «Югославия, Югославия…». Все это выглядело визитом со смыслом и содержанием, но, проводив гостей, король неожиданно отправился на прогулку. Он думал, что посетители уже отбыли, что они уже занимаются своими делами, когда увидел их обоих в афинской гавани. Посланники ожидали корабль, нервно вышагивая по причалу, и каждый был занят своими мыслями. Король прошел буквально в шаге от одного, едва не задел плечом другого, но ни тот ни другой его не заметили. Он был так близко от них, что они могли дотронуться до него рукой, но, очевидно, как только закончилась аудиенция, король перестал для них существовать. Янкович уже смотрел вдаль, словно старался первым увидеть корабль, а Пашич что-то бормотал себе в бороду. Вскоре корабль прибыл, и они уплыли, а впечатление, что король существует для посетителей только до тех пор, пока их головы повернуты к нему, только усилилось.
Неделю спустя к нему прибыл военный министр генерал Терзич. Он смотрел на короля своими теплыми, но изменчивыми глазами и явно в чем-то лгал ему. После встречи с королем он спустился к выходу из афинской резиденции. Здесь генерал ожидал экипаж, подкручивал свои тонкие черные усы и тихо ругался про себя. Король спустился вслед за ним по тем же ступеням и подошел к нему сзади, но министр этого не услышал, не почувствовал и продолжал что-то бормотать себе под нос. Поэтому король вернулся назад, вышел через черный ход на цокольном этаже, прошел мимо кустов бугенвиллеи, окружающих дом, и вышел на гравийную дорожку перед фасадом, чтобы невнимательный посетитель смог его легко увидеть. Карета прибыла, Терзич сел в нее, а король в стороне безуспешно махал рукой своему военному министру, который больше его не замечал.
Да, подумал после этого старый монарх, меня видят только тогда, когда их головы повернуты в мою сторону. А потом спешат, смотрят на карманные часы, разговаривают с невидимыми собеседниками и отправляются дальше. Он проверил это еще несколько раз с новыми посетителями, и результат был точно таким же.
«Им следовало бы писать мне открытки, раз я так мало для них значу», – записал король в своем дневнике, не понимая, что наступили тяжелые времена в чужой стране – время первых побед на Каймакчалане и одновременно время первых сомнений и заговоров. Призраки, прошедшие пешком Албанию, теперь набрались сил, а в их венах стали циркулировать и самолюбие, и реваншизм, и мстительность. Это происходило и с младшими офицерами, и с высшим офицерским составом, и с членами правительства, и с самим регентом. Много старых ран открылось в Салониках 1917 года, множество ссор прошлого века нашли сейчас свое продолжение; многие планы остались незавершенными, и многие люди решили осуществить их на сухой греческой земле.
Тот, кто уже давно мешал, тот, у кого было очень большое влияние на армию, тот, кто основал союз «Черная рука», носил имя Драгутин Дмитриевич «Апис»[41]41
Апис (серб. бык) – прозвище Д. Дмитриевича.
[Закрыть]. Александр уже давно собирался его убрать. В разговоре с Пашичем он упомянул Аписа, во время переговоров с Верховным командованием о будущих планах он почти с руганью отзывался о нем, а затем после покушения, совершенного на него в окрестностях Салоников, вернулся в город разъяренным и в характерном для себя стиле, словно ломая ветку, сказал: «С этим нужно кончать».
В стрельбе по регенту предъявили обвинение Апису и еще ста двадцати четырем офицерам. Суд был назначен в неспокойных Салониках, что вызвало неудовольствие всех командующих иностранными армиями и новый подъем температуры и без того нездорового города. Судебный процесс, начавшийся в расположении Третьей армии 28 мая 1917 года, возглавил генерал Мирко Милославлевич, однако наше повествование посвящено не этому жестокому и преданному слуге престола. На процессе появилось много младших и старших офицеров, и все они подтвердили обвинение, но это рассказ не о запуганных или стремящихся сделать карьеру свидетелях. К смертной казни сначала было приговорено девять человек, а в конце только три офицера и один штатский, но наш дальнейший рассказ касается лишь одного из осужденных на смерть – майора-артиллериста Любо Вуловича. Этот рассказ похож на одну венгерскую историю XIX века, странными путями дошедшую до нас; историю матери, желавшей придать храбрости своему сыну, приговоренному к смертной казни. Она сказала ему, что в день казни наденет роскошное платье с белыми оборками, если помилование будет прочитано в последний момент перед тем, как за них возьмется палач. Помилование не пришло, мать была одета в невинно-белый атласный наряд, а сын умер с надеждой на спасение как подлинный венгерский аристократ.
В этой новой истории, случившейся в Салониках 1917 года – в век безверия и революций, и передававшейся потом из уст в уста, роль матери в белом сыграл другой майор-артиллерист, герой Текериша, Беглука, Белого Камня и Каймакчалана – Радойица Татич. Он не носил белую одежду. Его военная форма ничем не отличалась от одежды осужденных. Ему было важно («Дружище, ему было очень важно…» – рассказывали сослуживцы), чтобы его побратим и однокашник не опозорился перед расстрельным взводом. Поэтому он приходит в камеру к Вуловичу и обращается к нему на французском языке, чтобы охранник-простолюдин их не понял.
– Я готов к смерти, – отвечает ему Вулович на французском, который они оба хорошо выучили в военном училище в Париже.
– Mon ami, reprenez courage![42]42
Мой друг, приободритесь! (фр.).
[Закрыть] – строго говорит ему Татич.
Затем отводит его в дальний угол камеры, переходит на «ты» и на сербский. Тихо говорит ему:
– Завтра утром я поеду скорым поездом в Афины. Брошусь в ноги старому королю Петру и буду просить о помиловании, но, даже если мне это не удастся, у меня есть кое-что, что защитит тебя даже перед расстрельным взводом. Не смейся, Вулович, не смейся, я клянусь тебе офицерской честью и рискую дальнейшей карьерой. Ты знаешь, что я был величайшим героем на Цере и позже повсюду, не буду украшать себя ложной скромностью. Ты слышал, что говорили обо мне в армии: «Несется, как будто у него нет головы на плечах», «За ним не угонишься». Но, видишь ли, я был безумно храбрым из-за одного зеркальца. Странное такое зеркальце. Что оно особенное, я заметил еще во время Балканских войн, а потом продолжал пользоваться его помощью вплоть до Каймакчалана и сегодняшнего дня. Это зеркальце сейчас со мной. Ты спрашиваешь, как оно устроено? Это, дорогой мой, зеркальце, в котором находится мое постаревшее и подурневшее «Я». Когда-то мы были одинаковыми: мое лицо и отражение в этом зеркале, а потом я понял, что мое отражение там, за стеклом, начало быстро меняться, изнашиваться и стареть. Если я смотрел на себя со страхом в душе, мне казалось, что мое оцепеневшее лицо стареет на год или два. А я часто смотрел в него испуганным: в Новой и Старой Сербии, в Болгарии, во время Великой войны. Не смейся мне в лицо, Вулович, ты же знаешь, что Татич не лжет, он не склонен к поэтическим фантазиям, как некоторые офицеры! Это зеркальце, как уже сказал, я носил с собой повсюду. Глядя на свое постаревшее лицо, я понял, что не только передаю зеркалу свой страх, но и освобождаюсь от бесчестья и становлюсь неуязвимым для пули, штыка или снаряда. Я жив, ты видишь меня – на мне ни единой царапины. Разве что-то подобное могло случиться с кем-то кроме меня, Вулович? Это произошло только потому, что со мной всегда было это зеркальце, а теперь я хочу передать его тебе. Посмотри в него («Это, дружище, было самой трудной частью лжи»). Разве ты не видишь в нем постаревшего и испуганного себя? Не оборачивайся, чтобы часовой не увидел, что я отдаю тебе это волшебное зеркало. Спрячь его поскорее, поскорее, чтобы его у тебя не отняли. Сейчас я уйду. Запомни, побратим, с этим зеркальцем в кармане ты не можешь умереть. Винтовка даст осечку, у командира расстрельного взвода застрянет ком в горле, когда надо будет скомандовать «Пли!», или в последний момент прибудет помилование из Афин. Ты только помни: посмотрев в зеркало, ты передаешь страх своему отражению. Иначе быть не может. А теперь прощай, давай обнимемся по-братски, мой дорогой Вулович!
Майор Татич уходит. Наступает вечер, но Татича нет на перроне железнодорожного вокзала Салоников. Уходит один, потом второй поезд на Афины. («Родимый, он даже и не думал никуда ехать!») Все было ложью, но зеркальце начало играть предназначенную ему роль. Каждое утро майор Любо Вулович смотрит в зеркальце и там, как и говорил ему побратим, видит свое испуганное и постаревшее «Я». Это отражение поседело за несколько дней, а его губы искривились в печальную гримасу. Он думает, что так выглядит его отражение, которому он передает весь свой страх; Вулович не видит, что все это происходит с его собственным лицом, он обманывает себя, потому что ничего волшебного в зеркальце Татича нет. И он начинает надеяться. Верит, как сумасшедший, что в него не попадет выпущенная с близкого расстояния пуля. («Этот Татич, недавний владелец волшебного зеркальца, не получил ни единой царапины, это я тебе могу подтвердить».)
Проходили день за днем и неделя за неделей, но исполнение приговора трем офицерам откладывалось. Это только укрепляло убеждение Вуловича в том, что ему нечего бояться. Но потом наступило 26 июня 1917 года по новому календарю и осужденных повезли на салоникское военное кладбище, где для них уже были выкопаны три могилы. Никто, даже Апис, так спокойно не разговаривал с конвоировавшими их офицерами, которые просили прощения за то, что обязаны выполнить свой служебный долг. Никто так жизнерадостно не смотрел в последний раз на окрестности Салоников и камни береговых скал, сталкивающихся с аквамариновой водой. Никто с такой надеждой не вдыхал прибрежный воздух, напоенный успокаивающими запахами миндаля, лавра и сосен. Даже суровый солдат Апис вздрогнул, когда их, как мешки, выгружали из грузовика, но не Вулович. («Он улыбался, да, могу тебе это сказать, ведь я был в расстрельной команде. Улыбался, словно девушка…»)
Барабанная дробь все-таки насторожила самого храброго из приговоренных к смерти. Эти звуки приблизили к нему картину происходящего, ставшую необычайно четкой. Вулович видел винтовки с примкнутыми штыками, видел солдат, которым не хотелось их убивать, и низкорослого, очень нервничавшего командира, переминающегося с ноги на ногу. Но это не может произойти, все они не имеют к нему никакого отношения, ведь у него есть зеркальце Татича. Вот по тропинке к кладбищу уже спешит какой-то офицер высокого ранга. Он несет помилование или нет… Офицер стоит пред тремя осужденными и, словно желая продлить их мучения, почти два часа зачитывает им обвинительный акт, на основе которого они осуждены. Помилования нет, но Вулович все еще надеется. («Земляк, и зверь в ловушке надеется, что ему удастся из нее вырваться».) Двое осужденных хотят выкурить по последней сигарете, а Вулович хочет посмотреть в зеркальце. Видит в нем смертельно бледного, одряхлевшего человека. Он видит самого себя, но считает, что еще раз передал свой страх отражению в волшебном зеркальце Татича. Он стоит перед взводом, барабаны гремят, винтовки поднимаются. Помилование не пришло, хотя Татич еще месяц назад преклонил колени перед старым королем Петром… Залп отзывается эхом от камней, как отвратительное ругательство на каком-то чужом металлическом языке. Расстрелянные падают прямо в свои могилы. Все трое, в том числе и самый храбрый из них, артиллерийский майор Любо Вулович.
Для заговорщика Любомира Вуловича Великая война закончилась, когда он в последний раз увидел свое растерянное лицо в волшебном зеркальце своего друга и однокашника. За такую храбрость не дают орденов, разве что в мыслях друзей. Майор Радойица Татич разузнал у своих знакомых, как держался Любо Вулович. Когда он услышал, что его хвалят даже палачи («Клянемся честью офицеров, что он принял смерть как герой-исполин. Повязку на глаза он принял так, как будто мы ему на шею шелковый платок повязывали»), то остался доволен. Не говоря ни слова, зажег сигарету и выпускал густой дым, не ожидая больше ничего ни от возвращения на родину, ни от своей военной карьеры. Нагнулся, взял щепотку бронзовой греческой пыли и почувствовал себя человеком на ничейной земле.
На ничейной земле оказался и Манфред фон Рихтгофен. В июне 1917 года он получил от кайзера самый высший немецкий орден «Pour le Mérite»[43]43
«Pour le Mérite» (с фр. – «За заслуги») – орден, бывший высшей военной наградой Пруссии до конца Первой мировой войны. Неофициально назывался «Голубой Макс» (нем. Blauer Мах).
[Закрыть]. Для этого нужно было сбить шестнадцать самолетов, и наконец ему пришла телеграмма с радостной вестью. Вскоре прибыл и сам тонкий крест с небесно-голубыми лучами, который Красный Барон постоянно носил на своем мундире. Но, казалось, эта награда не принесла ему счастья. Он сбил еще семь французских самолетов, но после этого был впервые сбит сам. Очередь английского летчика попала в мотор красного истребителя Рихтгофена, и бензин потек в кабину, забрызгав пилоту щиколотки. В любую минуту красный триплан мог загореться, но Красный Барон сумел посадить самолет. Его кожаный плащ обгорел и был весь измазан маслом, так что летчик не производил впечатления известного аса. При этом он оказался далеко от немецких позиций, почти в тридцати километрах от линии Зигфрида. Первое, с чем он столкнулся, были винтовки испуганного шотландского патруля. Один солдат знал немецкий язык и по пути в штаб группы британских ВВС завел с ним джентльменский разговор.
– Ваше имя, Herr…
– Манфред фон Рихтгофен.
– Я не расслышал, но мне это неинтересно. Сколько наших вы сбили? Два? Три?
– Двадцать три.
– Не может быть, – сказал шотландский патрульный, растягивая немецкие слова, – неужели это правда?
– Правда.
– Не верю, никто не сбил столько наших – кроме Красного Барона. Вы с ним знакомы?
– Довольно хорошо. Можно сказать, мы с ним на «ты».
– И что собой представляет этот жестокий гад? – задал новый вопрос любопытный шотландец.
– На самом деле у него нежное сердце и он любит целовать свою подругу. По тому, как она его целует, он узнает, как будете вести бой вы, британцы.
– Значит, знаменитый ас настолько суеверен. Знаете, могу вам сказать, что если бы я встретился с ним, то разбил бы ему голову.
– Можете это сделать прямо сейчас, – сказал Рихтгофен и сбросил грязный пилотский плащ. Под ним оказался отлично выглаженный голубой мундир и орден «Голубой Макс», блестевший при каждом движении. – Я Манфред фон Рихтгофен, надеюсь, сейчас вы хорошо расслышали мое имя?
Островитянин был ошеломлен. Однако он все же сжал кулаки. Рихтгофен тоже встал в боксерскую стойку. Они успели обменяться несколькими ударами, пока остальные их не разняли. Позднее в летной столовой Рихтгофену подали кофе и сигары. Он даже спел несколько песен с шотландцем, который извинился перед ним за драку. Два дня спустя Рихтгофена доставили на линию Зигфрида и обменяли на одного британского пилота. Это был знак того, что в воздухе и на земле еще есть место рыцарству. «Может быть, – подумал Красный Барон, – „Голубой Макс“ все-таки принес мне счастье».
Трудно сказать, был ли этот орден, о котором мечтал каждый немецкий офицер, счастливым и для подводника Вальтера Швигера. К нему на базу в Л. была доставлена телеграмма, где сообщалось, что кайзер наградил его «Голубым Максом». Это произошло 30 июля 1917 года, но моряка, рожденного в сухопутной семье, не было на берегу. Две недели спустя по почте пришел и орден капитан-лейтенанта Швигера, но и в августе его не было на базе. Драгоценную награду поместили в стеклянную витрину, и все надеялись, что подлодка U-88 со своей командой скоро вернется в порт приписки, но этого не произошло. Прошел весь август и начался сентябрь, а Швигера все не было. Наступило и 5 сентября, последний день его жизни. Как обычно, его подлодка шла вдоль берега Северной Шотландии, недалеко от мыса Кинсейл, где в 1915 году она утопила RMS «Лузитанию», когда раздался взрыв. Подводная лодка зашла на минное поле, и никто не заметил шаров, стоявших на двадцатиметровой глубине наподобие фонарей. Взрыв практически разломил подводную лодку U-88 пополам. Вода стала быстро заливать ее, так что оставшиеся в живых очень быстро утонули в своих отсеках, откуда не могли выбраться. Тело капитана Швигера в странной одежде выбросило из лодки со страшной силой, и оно стало тонуть. Сначала казалось, что в нем еще теплится жизнь. Но потом он перестал двигаться, даже не пытаясь всплыть. Его темно-русые волосы колыхались от подводного течения… Когда он, опускаясь все ниже, оказался на границе света и глубокой морской тьмы, какие-то большие тени стали мелькать возле него, словно обнюхивали. Наверное, это были морские звери, принявшие его и взявшие под свою защиту, словно младенца. Для Вальтера Швигера Великая война закончилась, когда мегалодоны, сопровождаемые морскими драконами, унесли его, как в похоронной процессии, в свое царство на дне моря…
Таков был конец жизни орденоносного офицера Швигера. Для Живки Д. Спасич, той самой портнихи, которая перевела свою мастерскую со странной Дунайской улицы на безопасную и спокойную улицу Принца Евгения, началась неожиданная жизнь. В тот день, когда погиб подводник Швигер, портниха, никогда не слышавшая о нем, родила прямо в своем салоне. Он вынашивала ребенка, никому не говоря об этом. Крупная и пышнотелая, она до последнего дня отрицала, что беременна. В Белграде 5 сентября было тепло, тени офицеров спешили по тротуару, а вдали кто-то вопил, как брошенная кошка, когда Живка легла на пол и при помощи двух своих портних родила на свет здорового сына. Отцом мог быть только один – австрийский офицер с вечно порванным карманом. Она запеленала сына и назвала его Евгением. Она не испытывала стыда. Но и гордости тоже. Мальчик понял, что в этом мире ему нужно быть очень тихим, и Живка уже через несколько дней снова уселась за швейную машинку. В ее салон по-прежнему заходили тихие господа и оставляли ей свою форму для починки. Она познакомилась со многими новыми офицерами: высокими, усатыми, коренастыми, краснолицыми, опухшими и рахитичными, но она больше никогда не видела офицера с рваным карманом…
О том, что у него в кармане дыра, впервые подумал и один профессиональный шпион. Он тянул и тянул за одну ниточку, и как только она обрывалась, тут же появлялась новая, за которую можно тянуть бесконечно. Хозяином этого непослушного кармана был Фриц Жубер Дюкейн. Он был писателем, солдатом и авантюристом. У него было узкое лицо, выдающийся нос и спокойный взгляд человека, не знающего, что такое страх. У Дюкейна было прозвище «Кошка», да и сам он считал, что у него есть как минимум семь жизней. В первой он молодым боролся против англичан в Южной Африке во время Первой англо-бурской войны. Не единожды его могли взять в плен, но каждый раз в последний момент ему удавалось бежать.
Вернувшись в алмазную Африку перед Второй англо-бурской войной, он решил начать вторую жизнь. Дерзко заявил о желании служить в английской армии. Он, Дюкейн, бурский наемник и коммандос. Как они не вспомнили о том, кем он был в начале XX века, когда в ковбойской шляпе и с двумя патронташами через плечо сеял страх, подобно вождю повстанцев? Может быть, он изменился? Ни в коем случае. Дюкейн, теперь в роли британского офицера, продолжал сражаться против Англии. С двадцатью шестью предателями-британцами он планировал диверсии в пахнувшем козьим жиром Кейптауне. Ему чуть не удалось взорвать несколько стратегических британских объектов, но в решающий момент группа провалилась. Не хватило нескольких минут, чтобы схватить Дюкейна, но именно тогда, когда колокола в далекой католической миссии звонили протяжно и необычно долго, он исчез и из своей второй жизни.
Перед Великой войной он перебирается в Нью-Йорк и в качестве журналиста освещает события русско-японской войны. Вслед за тем он присылает прекрасные репортажи из голубого Марокко, и это приводит его в окружение Теодора Рузвельта. Американское гражданство он получает в 1913 году. Дипломатический пропуск приводит его на южноамериканский континент, но, прежде чем отправиться туда, он должен заглянуть в отель «Астор». Там старый враг британской короны, в третьей своей жизни, становится немецким шпионом. Сейчас для него открыты все двери Востока и Запада. Под защитой самого президента Дюкейн занимается шпионажем, представляясь инженером из бразильских лесов, богатых каучуком. Потом под именем Фредерик Фредериксон участвует в боливийской «золотой афере» и в результате становится богатым человеком. На второй год Великой войны он возвращает себе имя Дюкейн, под которым президент Вильсон назначает его на должность второго атташе посольства в никарагуанской столице Манагуа.
Его шпионская карьера в это время достигает своего апогея. Ему кажется, что он живет в четвертой из семи жизней, но в этот момент у него начинает распарываться карман. Сначала один, потом другой. Он тянет нитку за ниткой и не понимает, почему его дорогие костюмы сшиты так плохо. Обвиняет в этом влажность горячей центральноамериканской полосы, на которой клубком свернулась Никарагуа, когда внезапно, в ноябре 1917 года, приходит приказ о его аресте. Теперь даже президент не может спасти того, кто когда-то, во времена Первой англо-бурской войны, ходил с двумя патронташами через плечо наподобие командира повстанцев. Это был закат одного шпиона времен Великой войны, а все случилось, похоже, из-за нитки, которую он тянул, тянул и вытянул, а вместе с ней – и свою судьбу.








