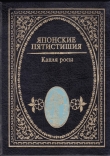Текст книги "Манъёсю"
Автор книги: Поэтическая антология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 57 страниц)
п. 3404 Рассматривается как песня новобрачного.
п. 3405 Возможно, песня распевалась в ответ женской половиной хора. По своему содержанию она как бы перекликается с предыдущей песней. Стк. 3 песни переведена исходя из толкования СН.
п. 3406 Рассматривается как песня жены, ожидающей возвращения мужа. В песне говорится об особом способе приготовления пищи, когда срезают молодые овощи, затем мелко нарезают их и засаливают (ТЯ).
п. 3407 При каких обстоятельствах сложена песня, не указано. Перевод сделан по ТЯ.
п. 3408 Толкуется как песня, обращенная к возлюбленной. Песня объясняется по-разному. У ТТ отношение девушки сравнивается с облаком, которое касается пиков гор, но не задерживается среди них; К. Мае. считает, что об облаке в песне ничего не сказано, поэтому ошибочно вводить этот образ, руководствуясь только домыслом. К. Мае. утверждает, что здесь имеется в виду гора, возвышающаяся одиноко, не соприкасаясь с другими горами, и в этом плане толкуется и отношение возлюбленной, которая держится на расстоянии, не сближаясь с юношей. Перевод сделан согласно толкованию К. Мае.
п. 3409 При каких обстоятельствах сложена песня, не указывается. Перевод сделан по СН, с той лишь разницей, что опущено сравнение, исходя из внутренней структуры текста, где представлены типичные для народной песни два плана образов, т. е. обычный образный параллелизм. Строки 1–3 – картина природы и две последние – выражение чувств автора. В первой части речь идет о дождевых облаках, которые, следуя друг за другом, опускаются над болотом, как бы соединяясь с ним: во второй – речь идет об обращении юноши к девушке с просьбой допустить его к себе.
п. 3410 При каких обстоятельствах сложена песня, не указывается. ТЯ указывает, что в этой местности повсюду ольховый лес, некоторые считают, что “хари” – это “хаги”, но так как в многочисленных песнях, где воспевается “хари”, не говорится о цветах хари, то он считает это достаточным основанием утверждать, что это не “хаги”, а другое дерево, т. е. ольха. Такое толкование подтверждается и ботаническими словарями (М а к и н о, Син нихон сёкубуцу дзукан, Токио, 1961; “Сёкубуцугаку-даидзитэн”, 1944), где указывается, что современное название хари – это “хан-но ки” – ольха японская (Ainus japonica). Однако использование “хари” как красителя красновато-лилового цвета подтверждает его тождество с “хаги”. Возможно, в разных местностях “хари” имело разное значение.
п. 3411 Поскольку песня помещена под рубрикой песен-перекличек, по-видимому, она исполнялась мужской половиной хоровода, так как в ней выражены чувства юноши к девушке, твердый характер которой сравнивается с горой.
п. 3412 В Камицукэну или в Кодзукэ-стране – один из “общих” зачинов песен провинции Кодзукэ.
п. 3413 ТЯ приводит ссылки на сходные песни из Кокинсю. Все это говорит о тесных связях народной песни и классической поэзии в ее истоках.
п. 3414 ТЯ указывает, что в уезде Гумма провинции Кодзукэ в дер. Камисато и теперь имеется слобода Идэ. В этой местности бывают часто ливни и поэтому наблюдаются радуги. Однако большинство комментаторов толкуют “идэ” как плотину.
п. 3415 Рассматривается как песня, в которой воспевается любовь к своей нареченной.
Конаги – водяная трава (Monocharia vaginalis). В старину разводили для еды. В данной песне конаги – метафора красивой молодой девушки. Вся песня дается в аллегорическом плане, как часто это бывает с народными песнями, когда действует привычная, лежащая вне текста, традиция.
п. 3416 При каких обстоятельствах сложена песня, не указано.
В Кодзукэ-стране – см. п. 3412.
Болото Каояга находится в уезде Ора провинции Кодзукэ.
Иваидзура – возможно, что эта трава использовалась в определенных обрядах или гаданиях (“дзура” – в песне отмечается как общее название для трав; “иваи”, вероятно, от глагола “ивау” – “праздновать”, “священнодействовать”, см. п. 3378).
ТЯ в примечании приводит сходную песню провинции Мусаси (см. п. 3378). Это – типичные для народной песенной традиции варианты одной и той же песни в разных провинциях. Отсюда разные зачины с разными географическими названиями и почти полное совпадение последних трех строк.
п. 3417 Петитом после песни помечено: “Песня из сборника Какиномото Хитомаро”.
п. 3418 Комментируется как песня девушки, обращенная к возлюбленному.
Загадав – судьбу решила, т. е. гадание предрекло ей брак с другим.
Здесь говорится о гадании на рисовых ростках. Из питомника берут охапку рисовых ростков и в зависимости от числа ростков, оказавшихся в охапке, определяют судьбу, счастье или несчастье.
п. 3419 “Ветер с горных склонов Икахо…” – провинция Кодзукэ славилась сильными ветрами. Они имеют различные названия: ветер Икахо – или ветер, дующий с горных склонов Икахо. “Харуна-кадзэ”—ветер харуна или ветер, дующий с горных склонов Харуна; “Асамакадзэ” или ветер Асама, т. е. ветер, дующий с горных склонов “Асама”; “карацу-кадзэ”, т. е. порывистый, буйный ветер, и т. п. Эти различные названия указывают на то, что ветер был предметом большого внимания у древних земледельцев, находившихся в сильной зависимости от стихийных сил природы. Ветер был большим бедствием, недаром в песнях М. он часто выступает как образ злой силы, препятствующей счастью. Этот образ перешел и в классическую японскую поэзию. Поэтому он, вероятно, приобрел и в данной провинции значение ходового образа в песнях и вошел в “общий зачин” песен провинции.
п. 3420 “Лодочный разводят мост…” – на реках сдвигали в ряд лодки, на них клали доски, и это служило мостом для переправы на другой берег (СН).
п. 3421 Местность у гор Икахо славится внезапными переменами погоды, сопровождающимися страшными ударами грома. Эхо в горах еще больше усиливало эти раскаты. Эта песня, помещенная в разделе песен-перекличек, пелась, по-видимому, мужской половиной хора (ср. русские весенние переклички хоров во время заклинаний весны, так называемые веснянки, когда “зиму замыкают”, “землю отмыкают”, “травы выпущают” и девичьи хоры перекликаются друг с другом, или типа (теперь уже детской) “солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко” – здесь это обращение с соответствующим магическим призывом к грому, поскольку в этой местности он, по-видимому, привлекал особое внимание).
п. 3422 “Ветер в Икахо…” – один из общих зачинов песен данной местности. Похожие мотивы встречаются в М. и в классической поэзии. Комментаторы даже приводят одну такую песню из “Кокинсю”:
“В бухте Таго, в стране Суруга бывают дни, когда не вздымаются волны, но нет дня, чтобы не любил тебя”.
п. 3423 “Трудно перестать ему…” – в горной местности Икахо даже в начале весны лежит снег (ТЯ).
п. 3424 В песне один из общих зачинов народной песни, куда входит название местности.
Узкоглазая (магуваси) – переведено буквально, толкуется как красивая. Любопытно сравнение любимой с молодым дубом и метафорическое содержание последней строки: “Чью корзинку [с едой] понесешь?” – иначе: “Чьей ты будешь женой?”
п. 3425 Песня комментируется как обращение к любимой девушке. Однако нам представляется, что это позднейшее толкование песни. Образы ее, несомненно, имеют древний подтекст: возможно, это любовный заговор, для которого характерна последняя строка песни, или особое гадание на любимого человека с целью узнать его чувства.
п. 3426 В песне говорится о старинном народном обете верности, когда возлюбленные завязывали друг другу на прощание шнур одежды (см. п. 3361).
п. 3427 Обычно комментаторы считают, что песня сложена юношей, однако нам представляется, что это песня девушки – ответ на предыдущую песню юноши. Юноша обращается с просьбой завязать шнур, а девушка полна недоверия и отвечает, что все равно он развяжет его, т. е. изменит ей в разлуке “ради блестящих дев”. Блестящие девы (ниоуко) и простая девушка (отомэ) сопоставлены здесь именно в том плане, как мы перевели.
Обе песни (3426 и 3427) – песни провинции Митиноку и вполне могут быть парными в хороводе, исполняемыми мужской и женской стороной.
п. 3428 Отмечается как песня юноши, обращенная к возлюбленной. ”
Образ лежащего оленя (фусусиси) впоследствии встречается и в более поздней классической поэзии (X–XIII вв.), где он используется обычно для выражения любовной тоски.
п. 3429 Толкуется как песня девушки, покинутой милым.
п. 3430 Толкуется как песня девушки, покинутой возлюбленным, написана аллегорически. Интересен образ челна, отплывающего поутру, под ним подразумевается возлюбленный, покинувший милую. В литературной поэзии, по-видимому, под влиянием буддийских учений о непрочности всего земного уже в этой антологии отплывающий челн фигурирует в п. 351 как образ земной человеческой жизни, уходящей в вечность и не оставляющей за собой следа.
п. 3431 Комментируется как песня, написанная девушкой, возлюбленный которой с трудом посещает ее, и она сравнивает его с лодкой, которую приходится с трудом спускать на воду. Речь идет о хикофунэ (измененное хикуфунэ) – особый тип лодок из суги – криптомерии; их изготовляли в горах, а затем спускали вниз на воду при помощи сетей.
п. 3432 Толкуется как песня юноши, обращенная к девушке, с которой его разлучают ее родители. Кадзуноки (совр. “нурудэ”) – дерево с листьями яйцевидной формы, заостренными на конце (Rhus semi-alata), японский сумах. В окрестностях пиков Ягура и теперь много этих деревьев, и в конце осени, когда вся гора в пурпурных листьях, местность представляет собой очень красивое зрелище. Песня считается трудной для толкования. Перевод сделан по ТЯ.
п. 3433 Предполагается, что это песня юноши, отправляющегося в путь в качестве пограничного стража (сакамори) и жалеющего о разлуке с милой. Перевод концовки сделан по ТЯ. В тексте комментария приводится близкая по содержанию песня из “Кокинсю”. О пограничных стражах см. комм. к п. 4321.
п. 3434 ОС рассматривает эту песню как песню-обет (кэйяку-но ута). Характерно, что поля, покрытые травой цудзура, сравниваются с любовью. Трава цудзура с трудом выдергивается, и здесь она служит сравнением с любовью, которую трудно вырвать из сердца. Цудзура, цудзурафудзи, то же, что кудзу – травянистая лиана.
п. 3435 Песня сложена в аллегорическом плане: женщина сравнивается с орешником, а сам автор – с тканью платья. Чувства мои чисты, говорит он. Поэтому ты легко можешь довериться мне. Характер аллегории типичен для народной песни, где нет еще деления тем на “поэтические” и “непоэтические”, поэтому все строится на примере из бытового обихода, отражая определенные стороны быта того древнего периода. В песне общий зачин песен данной местности.
Орешник (хари) – в песнях М. имеет разное толкование (орешник, ольха), по-видимому, в разных местностях хари было обозначением для разных растений. В то время плоды этого дерева использовались как красящее вещество.
п. 3436 “Там увядших нет ветвей…” – т. е. там растет только сосна. Сосна была священным деревом в древних японских обрядах, особенно во время новогодних обрядов, когда гадали о новом урожае.
Поэтому слово “сосна” (мацу) и стало ассоциироваться с понятием ждать урожая, счастья, солнца – если обряд заканчивался на рассвете, как бы встречая солнечное светило, а затем значение “ждать” обрело и самостоятельное существование.
Поскольку сосна была священным деревом, гора Ниита чтилась и охранялась, и, говоря о неувядающих ветвях сосны, автор выражает желание, чтобы любовь возлюбленной была бы вечна.
п. 3437 Рассматривается как песня юноши, который давно не встречался с возлюбленной. В песне один из общих зачинов песен провинции Митиноку. Лук из маюми – один из лучших видов лука. Дерево маюми – Enonymus Sieboldiana.
Песня сочинена в аллегорическом плане. Если расстанешься, не добившись любви возлюбленной, то, вернувшись после разлуки, трудно будет заставить полюбить себя.
п. 3438 ТЯ толкует эту песню как песню деревенской девушки, радующейся втайне звукам колокольчиков, возвещающих охоту. Бубенчики, колокольчики во время охоты обычно прикрепляли к хвосту сокола (об этом говорится в записях об императоре Нинтоку). В тексте есть примечание о том, что в некоторых книгах эта песня имеет другой зачин: “На полях в Мицугану” – и что в уезде Сида имеется такая местность – свидетельство того, что это обычные варианты народной песни, в разных местах распевавшиеся по-разному.
п. 3439 Мабути считает, что это песня юноши, сложенная при виде женщины, которая черпала воду из колодца. ОС полагает, что речь идет о легендарной красавице, жившей возле колодца, и, возможно, эта песня была сочинена на пиру, происходившем около него.
“Где стоянка скакунов лихих с бубенцами…” – по объяснению ОС, речь идет о почтовых лошадях (хаюма). В старину по казенному маршруту были установлены дворы, при которых были конюшни с казенными лошадьми, к сбруе которых подвешивали бубенцы. По-видимому, бубенцы были непременным атрибутом этих лошадей, так как стали постоянным эпитетом (мк) к слову хаюма (измененное хаюума) “быстрая лошадь”. Так как лошади использовались для срочных казенных поручений, то выбирались резвые в беге лошади, почему мы и переводим хаюма – скакуны. ОС указывает, что в старину много было легенд о красавицах, в том числе и легенда о красавице, жившей у этой стоянки и черпавшей воду из колодца. Возможно, в этой песне таким образом отражен широко известный в свое время фольклорный мотив, но память о нем не сохранила подробностей.
п. 3440 ОС относит ее к свадебному циклу, предполагая, что ее поют при сватовстве или помолвке, обращаясь к матери невесты. В тексте сказано: “…в этой реке” – возможно, такое обращение имеет в виду какую-нибудь единую принадлежность либо территориального характера, либо хозяйственного, либо родственного. “В одной реке и овощи моем, и по возрасту дети одинаковы, давай сосватаем”. Этот несколько метафорический зачин типичен для песен, относящихся к сватовству, помолвке и т. п. Поскольку песни свадебного цикла в М. никак не выделены, эта песня представляет особый интерес. Овощи (в данном случае “асана”) представляют собой огородные плоды, травы, иногда водоросли, которые употребляют утром на завтрак.
п. 3441 Песня сходна с песней Хитомаро в кн. VII (1281) – свидетельство глубокой связи народной песни и поэзии лучших поэтов М.
п. 3442 Путь в Адзума (Адзумадзи) – дорога на Восток, в восточные провинции. Застава Тэконоёби находится в провинции Суруга, в уезде Ихара. Тэконоёби—“зов девушки”, “зов красавицы” (СН), называется она так потому, что легенда рассказывает, что именно здесь красавица, встречавшаяся с любимым юношей, была схвачена дьяволом и звала на помощь. Однако в “Суруга куни фудоки” (“Записи об обычаях провинции Суруга”) есть легенда о том, как юноша-бог оставил свою жену и ушел в путь. Он всегда возвращался через гору Иваки, но здесь злое божество устроило ему помехи на пути, и он не смог вернуться обычным путем. Тем временем его жена, ожидая его, пошла встретить его к горе Иваки. Долго ждала она его там и, не в силах дождаться, стала звать его. Поэтому застава и получила такое название (НКБТ). К. Мор. указывает также, что в “Записях об обычаях провинции Суруга” эта и п. 3477 считаются песнями этого мужского божества, а п. 3195 – песней его жены. Это – парные песни, но они не помещены вместе, возможно потому что составитель не знал об этом. Если считать, что это песня юноши-бога, а не путешественника, следует ее переводить иначе:
Там, где в Адзума далекий путь лежит,
Не могу пройти заставу я,
Где красавица зовет меня,
И в горах останусь на ночлег,
Не добравшись нынче до жилья.
ТЯ указывает на близкую по мотиву песню из кн. VII (1140). Варианты говорят о том, что это различные редакции народной песни, на это указывают и общий зачин песни (см. п. 3477) и географические названия, вплетенные в ткань песни, что характерно для устного народного творчества. Две первые строки полностью совпадают в обеих песнях.
п. 3443 Здесь характерен образ зеленой ивы, связанной с весенними обрядами, когда украшают головы венками из ивы. По мнению одних комментаторов, песня выражает тоску юноши по дому, / где растет такая же ива (ТЯ); по мнению других, он затосковал, вспомнив о любимой девушке, о которой ему напомнила молодая, прекрасная ива. Однако, учитывая другие песни М., можно скорее (предположить, что он, глядя на иву, вспомнил о весенних хороводах, когда украшают себя венками из ивы, во время которых встречаются с любимой девушкой.
п. 3444 Рассматривается как песня, распеваемая женской стороной хора. Здесь типичный для народных песен зачин, состоящий из географического названия, и характерное для трудовых песен указание на совершаемый трудовой процесс.
Кукумира – совр. нира – лук-порей из семейства лилейных (odorum).
п. 3445 Считается песней, исполнявшейся во время пиршества по случаю новоселья. Употреблять камыш в старину имело очистительный смысл.
п. 3446 Перевод сделан на основе толкования ОС, исходя из того, что род мелкого камыша (оги) применялся в гаданиях (“цукау” он толкует как “клясться”, а “аси” – “плохо”).
“Ах, одно лишь слово: „плохо" – шепчут мне…”—т. е. встреча не состоится.
п. 3447 Переведено на основе толкования ОС, который считает, что песня имела смысл магического заклинания, связанного с дорогой. Структура песни и ее содержание, выраженное очень типичной лексикой, а также то, что и последующие песни, ближайшие к данной песне, носят характер магических заклинаний, заговоров, делают суждение ОС вполне убедительным. Поэтому мы относим ее к песням-заговорам, как и следующие за ней песни, которые не случайно оказались помещены вместе. Возможно, она связана с любовным заговором: “Если я пойду к милой – пусть открытый путь, если я не пойду (другой захочет пойти) пусть подымется сорняк”.
Открытый путь – “харисимити” – имеет в виду дорогу, которая прокладывается через непроходимые места. “Сорняк” (арагуса) связан с представлением о заросшей травой непроходимой дороге.
п. 3448 Песня комментируется как пожелание долголетия – песня, распеваемая на пиршествах. Даже “ты” “кими” – здесь по ассоциации со знаменитой песней – гимном императору (кими) толкуется некоторыми комментаторами как “государь” или “император”, однако помещенная здесь вместе с песнями-заклинаниями, эта песня по своей структуре, по наличию повторов, постоянного эпитета в качестве окаменевшего зачина говорит скорее о более глубоких народных корнях. “Осыпаются цветы” (ханатирау), по указаниям ОС, связано с прославлением урожая. Возможно, здесь имеется в виду акт, сохранившийся и до наших дней в японских земледельческих обрядах, когда бумажные цветы – символ урожая – в виде венков, особых головных уборов – “ханагаса”, украшающих “саотомэ” – майских девушек, рвут и рассыпают в толпу, и люди уносят домой и берегут бумажные клочки как талисманы, приносящие хороший урожай, счастье, процветание и т. п. Возможно, в старину при такого рода заговорах совершали какой-либо подобный акт и как словесная формула, имеющая магическое значение акта, притягивающего счастье, процветание и т. п., она вошла постоянным зачином в заклинание. И только впоследствии в классических антологиях X–XII вв., в придворной поэзии эта песня-заклинание приняла форму песни-пожелания, воспеваемой на пирах при дворе. Данная песня интересна как прототип известного гимна в классической поэзии, указывающий на глубокую связь литературной поэзии с народной песней.
п. 3449 Песня-заклинание женщины, ожидающей любимого домой. Стк. 1–3 описывают примету или, вернее, магический акт, чтоб вызвать свидание с возлюбленным, так как в антологии часто можно встретить песни, где возлюбленная кладет в изголовье возлюбленному свой рукав. Кладя свой рукав в ожидании возлюбленного, она здесь как бы загадывает о его приходе, заговаривая волны не вставать на пути и не мешать его благополучному возвращению из плавания.
Белотканый (сиротаэ-но) – постоянный эпитет к платью, рукавам, отражает особенности женской одежды тех времен; впоследствии стал употребляться просто для обозначения белого цвета. В те времена, судя по песням антологии, для женской одежды ” были характерны два цвета – белый и красный. Эти цвета и в современной Японии являются основными для женской одежды в старинных обрядовых земледельческих церемониях и играх. Верхняя часть одежды, в том числе рукава, белая, низ одежды в виде широкой складчатой юбки, надеваемой поверх платья, красного цвета. Такой вид часто имеют и жрицы японских синтоистских храмов, и “саотомэ” – “майские девушки” – главные действующие лица в обрядовой посадке риса в японских деревнях и по сие время.
п. 3450 Толкуется как песня женщины, живущей возле гавани. ОС считает, что песня построена на широко известном народном мотиве о любви двух юношей к одной девушке. Такой мотив представлен в ряде песен М., в частности, в кн. XVI.
п. 3451 Пелась, по-видимому, во время работы на поле. Провинция Ава обычно отмечается как родина проса.
п. 3452 ТЯ считает, что в песне поется о весеннем поле; особого скрытого смысла нет. ОС, наоборот, считает, что она имеет иносказательный смысл и сложена женщиной, которую разлюбили: пусть все будет так, как есть, можешь любить новую жену, но не покидай меня—таков смысл песни. В старой траве ОС видит намек на старую возлюбленную, а разговор о молодой траве – намек на новую. Песня отражает хозяйственный быт того времени, когда весной выжигали в поле траву. ОС приводит в своих комментариях еще две песни, связанные с выжиганием трав весной.
п. 3453 ТЯ полагает, что это песня пограничного стража, выражающая тоску о доме. О пограничных стражах см. кн. XX, комм. к п. 4321.
п. 3454 Мы относим эту песню к песням-заговорам. Характер заклинания особо подчеркивается двумя последними строками – непосредственным обращением к подстилке; по народным поверьям, во время отсутствия мужа в ней остается частица его души (ОС).
Конопля (аса) очень часто встречается в песнях антологии – по-видимому, она играла большую роль в хозяйственной жизни того времени и широко использовалась в быту. Здесь подстилка из конопли означает ткань из конопли.
п. 3455 Песня девушки, ожидающей своего возлюбленного. Распевалась, по-видимому, женской стороной хора. Поведение девушки толкуется по-разному. Некоторые комментаторы (ОС) считают, что девушка рвет верхушки деревьев, чтобы ветки не мешали ей видеть, когда придет милый. Другие считают, что это привычное движение руки, когда мнут что-либо в руках в ожидании кого-либо, так называемая “забава для рук” (тэсусаби). Есть также мнение (ТЯ), что девушка просто хочет сказать милому, пусть сорванные ею ветви завянут, но она все равно будет его ждать. Это толкование нам представляется более правильным, потому что сходная по мотиву песня из кн. XI (раздел анонимной поэзии) толкуется именно таким образом. Упоминание об иве заставляет думать о связи с весенними хороводами, так как из веток ивы плели венки, которые надевали на голову во время хороводов. И, возможно, девушка срывает ветки ивы для венка и обещает долго ждать.
п. 3457 Распевалась, по-видимому, женской половиной хора. Считается, что это песня жены, провожающей мужа в столищу служить в храме. По-видимому, здесь имеется в виду определенная трудовая повинность, которую несли в те времена японские земледельцы. Видимо, проводы возлюбленного на службу в столицу были обычными для быта восточных провинций. Этот же мотив имеет место в п. 3427. В своем толковании постоянного эпитета “утихисасу” – “указывающий день работ” – мы исходим из древнейших понятий, которые сохранились в обрядах современных японских деревень. “Ути” мы толкуем как производное от “уцу” “бить”, “обрабатывать (землю, поле)”; до сих пор “таути” значит “обработка поля” (та); “хи” “день”, отсюда “утихи” – сокр. от “таутихи” – значит “день обработки поля”, т. е. начала сельскохозяйственных работ. Устанавливать начало таких работ было правом родового старейшины, являвшегося одновременно и главным жрецом рода, а затем это право перешло к императору, совмещавшему роль верховного правителя и верховного жреца. Поэтому “утихисасу” и стало, как нам кажется, постоянным эпитетом сначала к слову “мия” “храм”, приобретшему также значение “дворец”, а затем к слову “мияко” “столица”, откуда впоследствии, с развитием государственности, стали исходить все указания, касающиеся начала сельскохозяйственных работ (см. А. Е. Г л у с к и н а, К изучению древнего стиля японской поэзии, – “Народы Азии и Африки”, М., 1967, № 3, стр. 100, 102).
п. 3458 Распевалась, по-видимому, женской половиной хора. ТЯ толкует как песню, выражающую горе покинутой возлюбленной. Этот мотив получил особое обозначение: “отоко-но ёгарэ” “одинокие ночи без милого”. Однако мы полагаем, что песня больше похожа на песню жены, проводившей мужа в пограничные стражи.
Песня построена на приеме образного параллелизма, в своеобразной манере, носящей название “дзё” (введение). Здесь картина природы вкраплена между стк. 1 и 4 и находится в обрамлении, выражающем чувства автора; характер образа типичен для ряда песен.
п. 3459 По-видимому, одна из песен, которыми обменивались во время толчения риса для приготовления священных хлебцев из риса – “моти”, употребляемых при различных земледельческих обрядах. В современном японском фольклоре встречаются специальные “песни толчения риса” (тамацуки-но ута), сохранившиеся в деревнях во многих провинциях. На существование обмена песнями между мужчинами и женщинами во время толчения риса указывает и ОС.
п. 3460 Исполнялась, по-видимому, женской половиной хора.
В песне упоминается “ниинамэ” – популярнейшее в Японии празднество – подношение первого риса богам, во время которого в старину крестьяне собирались в доме старосты и славили богов, принося им первый рис (ТЯ). Время это обычно связано с любовными запретами, поэтому женщина в песне и упрекает дерзкого влюбленного, посмевшего стучаться в дверь, когда муж ушел на совершение обряда, а она должна предаваться молитве и уединению (см. п. 3386).
п. 3461 Распевалась, по-видимому, женской половиной хора.
“Не встречаемся на майском ложе мы…”, т. е. во время обрядовых майских брачных игр. “Майское ложе” – это наш перевод слова “санэ”. ОС понимает “санэ” как производное от “сану” “спать вместе”; “санэ-ни аванаку ни” толкуется им как “не встречаемся, чтобы вместе спать”. В словаре “Котоба-но идзуми” (1899, стр. 610) “сану” разъясняется как “спать вместе” (о супругах), “спать мужчине с женщиной”. Поэтому мы полагаем, что “санэ” имеет смысл “совместного ложа” во время майских обрядовых брачных игр на полях, так как префикс “са” является здесь, по-видимому, как и в слове “саотомэ” “майские девушки”, сокращением от “сацуки” – месяц посевов, посадки или май (см. п. 3348). И тогда на японской почве возникает аналогичная картина “майских весенних хороводов” и “браков на полях”, характерная для обрядового быта и других земледельческих народов. Характерно, что слово “маку” значит “сеять” и “спать вдвоем”, “спать вместе” и в обоих этих значениях встречается неоднократно в песнях М., наводя на мысль, что двойное значение подсказано весенними брачными обрядами на полях, совершавшимися с целью получения хорошего урожая.
п. 3462 По-видимому, распевалась мужской половиной хора.
п. 3463 Распевалась, по-видимому, женской половиной хора. В этой же книге помещена песня (3405), где те же чувства высказываются юношей. Возможно, это были парные песни мужской и женской половин хора, которые случайно разъединены собирателями песен.
п. 3464 Песня затрагивает очень популярную тему о “людской молве”; страх перед ней, боязнь разлуки из-за людских толков – очень распространенный мотив в народных песнях.
“На рогожном изголовий…” – имеется в виду рогожа, которую подкладывали под голову в качестве подушки. В комментариях (ТЯ) отмечается как песня юноши. Распевалась, по-видимому, мужской половиной хора.
п. 3465 Распускать шнур – символ любовных отношений. В песнях о разлуке возлюбленные завязывают шнур в знак верности друг другу. Развязать шнур обычно значит нарушить обет верности, но в данном случае это просто символ любовных отношений.
“Из корейской дорогой парчи…” – из этой парчи делали обычно завязки, тесьму, шнуры, поэтому корейская парча стала постоянным эпитетом к слову “химо” “шнур”, “тесьма”, “завязка”.
п. 3466 Отмечается как песня юноши о любви, которую преследуют людские толки.
“Нити сердца моего ты взяла…” – т. е. ты управляешь моим сердцем, завладела моим сердцем.
п. 3467 При каких обстоятельствах сложена песня, неизвестно.
Из дерева святого хиноки – в тексте “маки” – общее название для священных хвойных деревьев (хиноки, сосны, криптомерии). В песнях М. “маки” чаще всего служит обозначением хиноки (“солнечное дерево”, японский кипарис), которое обычно употребляют при совершении земледельческих обрядов, почему мы для перевода и взяли это толкование, тем более что некоторые комментаторы (СН, ТЯ) толкуют “маки” в данной песне как “хиноки”.
п. 3468 ТЯ комментирует как песню юноши, прочитанную в насмешку при виде того, как деревенская девушка заговаривает с другим парнем.
Образ хвоста, раскрытого как зеркало, объясняется тем, что японские зеркала имеют круглую форму, напоминающую раскрытый хвост фазана. Кроме того, считается, что, раскрывая хвост, самка фазана стремится привлечь самца. Отсюда и сравнение с девушкой, которая стремится привлечь юношу.
п. 3469 Имеется в виду популярное гадание в те времена – “юкэ” (“вечернее гадание”), когда на перекрестке дорог или просто у дороги, прислушиваясь к разговорам прохожих, гадают о счастье или несчастье, о встрече, свидании и т. п.
п. 3470 Эта песня взята из сборника Хитомаро, она же помещена в кн. XI антологии под номером 2539, среди анонимных песен, подтверждая предположение, что большинство песен сборника Хитомаро является записью или обработкой народных песен. Вариант песни см. п. 686. Комментаторы толкуют песню по-разному.
п. 3471 Песня, характерная для жены, проводившей мужа в пограничные стражи (см. п. 3390; о стражах см. п. 4321).
п. 3472 ТЯ приводит в примечании аналогичную песню из кн. IV. Возможно, появление образа чужой жены в народных песнях М. связано с брачными игрищами (см. п. 1759), когда разрешалась близость с чужой женой; в быту же это было запретным.
п. 3474 Эту песню относят к циклу песен пограничных стражей, помещенных в М. в кн. XIV и XX, похожа на песню мужа, уходящего в пограничные стражи.
п. 3475 Поясняется как песня женщины, тоскующей о муже, отправившемся в дальний путь. Похожа на песню жены, проводившей мужа в пограничные стражи. Возможно, что п. 3474 и эта песня – так же парные песни, как п. 3389 и 3390.