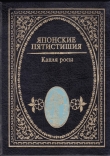Текст книги "Манъёсю"
Автор книги: Поэтическая антология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 57 страниц)
п. 761 Птица средь течения быстрых рек не может добыть себе пищи, поэтому служит здесь образом беспомощного человека.
п. 766 Девица из рода Фудзивара – предполагают, что дочь Фудзивара Маро. В М. – одна ее песня.
в. 771 В песне использована народная поговорка: “И во лжи есть доля правды” (усо-о иу ни мо ницукавасии усо-о иу моно дэс).
п. 773 Смысл песни не совсем ясен. Считается, что в основе ее лежит какая-то легенда.
Адзисаи (Hydrangea macrophylla) – цветы, быстро меняющие окраску, японская гортензия, цветет пурпурными и лиловыми цветами в шестом-седьмом месяце.
Моротора (Моротира) – лицо неизвестное.
п. 783 В тексте под заголовком петитом указано, что имя девицы из рода Ки – Осика.
В песне отражен обычай, широко распространенный в те времена в Японии, судя по песням М.: когда подносили подарок (водоросли и т. п.), то вместе с ним посылали песню, в которой говорилось, как трудно достать этот подарок, чтобы подчеркнуть свою любовь к данному лицу. Кому был послан подарок, неизвестно.
п. 783 Под таким заголовком в М. помещен ряд песен (691, 692, 700, 714, 720). Возможно, что адресат их один и тот же.
п. 785 Сравнение недолговечности жизни с росой – влияние буддийских учений о бренности земной жизни. Это сравнение получило широкое распространение в классической японской поэзии Х– XIII вв.
п. 786 По поводу этой песни есть много толкований. Чаще придерживаются толкования К., считающего, что здесь речь идет о молодой девушке из семьи Фудзивара Кусумаро. Слива – метафора девушки, “цветы… никак не расцветут” – т. е. она не отвечает на любовь.
п. 787 Песня выражает радость Якамоти по поводу частого прихода слуги Фудзивара Кусумаро, приносившего вести от своего господина.
п. 788 Молодая слива – метафора молодой девушки.
п. 790 Речь идет об обещании, данном Фудзивара Кусумаро.
п. 791 Ответ на песни Якамоти, присланные во второй раз.
Фудзивара Кусумаро – сын Фудзивара Накамаро, имел звание асоми. В 761 г. был губернатором провинции Ямато, в 763 г. совмещал должность государственного советника (санги) и губернатора провинции Хитати. В 764 г. принимал участие в мятеже, поднятом отцом против правящего дома, во время которого был убит. В М. – две его песни (789, 790).
КНИГА ПЯТАЯ
п. 793 Кому адресована песня Табито, неизвестно. Некоторые считают ее ответом на соболезнование по поводу смерти жены, выраженное ему императорским послом (см. п. 1472). Скорбь Табито о смерти любимой жены представлена в М. циклом стихов в кн. III.
Песне предпослано предисловие, написанное в высокопарном стиле, как принято было писать в те времена.
“Несчастье за несчастьем обрушились на меня. Непрерывно поступают ко мне соболезнования по поводу тяжелой утраты. Скорбью полно мое навеки разбитое сердце, в одиночестве лью я терзающие душу слезы. Только благодаря поддержке двух моих друзей я продолжаю в горе и печали влачить жизнь на склоне лет. Кисть моя не в силах выразить всего, что я хочу сказать. Такова скорбь, которая существовала и существует во все времена, прошлые и настоящие”.
“Кисть моя не в силах выразить всего, что я хочу сказать” – выражение из “Ицзина” – китайской классической “Книги перемен” гадательно-философского содержания VII–VIII вв. до н. э. (см. Ю. К. Щуцкий, Китайская классическая “Книга перемен”, М., 1960).
После песни следует дата написания: “23 день 6-го месяца 5-го г. Дзинки [728]”.
п. 794 Некоторые комментаторы считают, что плач Окура посвящен жене Табито, но большинство исследователей рассматривают песню как плач о его собственной жене. Полагаем, что плач сложен Окура от лица Табито и в нем говорится о жене Табито, ибо в те времена было принято сочинять плачи от лица, потерпевшего утрату, и преподносить ему свое сочинение. Окура, преподнося песню Табито, выражает ему сочувствие и понимание его горя.
После песни следует примечание: “21 дня 7-го месяца 5-го г. Дзинки [728] преподнесено [Отомо Табито] губернатором провинции Тикудзэн Яманоэ Окура”.
“Утка с селезнем своим”…– символ неразлучной пары, постоянный образ в песнях любви.
п. 795 Спальня (цумая) – так в старину называлось специальное помещение для супругов, был ли это особый домик или комната, неизвестно (МС).
п. 798 Ооти (совр. сэндан) – мелия японская, кустарник, цветет мелкими цветами бледно-лилового цвета.
п. 799 Появление тумана, когда возлюбленные находятся в разлуке, служит приметой того, что любимый человек вздыхает и тоскует. В песне гипербола: глубокие вздохи вызывают ветер.
п. 800 Авторство песни приписывается Яманоэ Окура.
Песне предпослано предисловие: “Жил один человек. Хотя он и знал, что отца и мать нужно почитать, но забывал о своем сыновнем долге. На жену и детей он не обращал внимания и пренебрегал ими больше, чем брошенным башмаком. Себя же именовал учителем, не похожим на всех. И хотя духом и помыслами он возносился на голубые небеса, плотью своей он погрязал в суетных заботах. Он еще не имел опыта мудрецов в таких делах, как путь добродетели и нравственные учения. Возможно, он был из тех людей, что бегут от жизни, удаляясь в долины и горы.
Поэтому, посылая ему эту песню, указывая на три основы и открывая перед ним пять учений, пытаюсь обратить на истинный путь его заблудшее сердце.
А в песне этой говорится…”
Речь идет о человеке, увлекшемся завезенными из Китая идеями Лао-цзы (древний мыслитель, основатель философского даосизма, жил около V в. до н. э.) и Чжуан-цзы (последователь Лао-цзы, жил в IV–III вв. до н. э.) и забывшем основы конфуцианства, которые были господствующей моральной доктриной в древней Японии.
“Три основы” – конфуцианское понятие о трех основных взаимоотношениях, на которых зиждятся устои общественного порядка: взаимоотношения государя и подданных, взаимоотношения родителей и детей и взаимоотношения мужа и жены. “Пять учений”, или “пять принципов”, являются также конфуцианским понятием, это: долг – для отца, забота – для матери, дружба – для старшего брата, послушание – для младшего брата и сыновняя почтительность – для детей.
“…Как приманка—птиц…” (мк) – для поимки птиц в старину ветви деревьев смазывали птичьим клеем.
п. 802–803 Эти песни Яманоэ Окура сложил, живя в провинции Тикудзэн, на о-ве Кюсю.
Песне 802 предпослано предисловие: “Будда, говоря золотыми устами, наставлял нас. Он вещал: „Я люблю человечество так же. как [своего сына] Рагора". И еще учил нас: „Нет любви больше, чем любовь к детям. Даже у самых великих святых сердца проникнуты любовью к ним. Что же говорить о людях этого мира, разве может кто-нибудь из них не любить детей?"”
Рагора (санскр. Bahula) – сын Будды.
п. 804–805 Песне 804 предпослано предисловие:
“То, что легко овладевает нами и что трудно преодолеть нам—это „восемь великих страданий". А то, что трудно достигаемо для нас и легко истощается, – это „радости многих лет". Об этом печалились люди в древности, и ныне мы также печалимся об этом. Оттого я и сложил эту песню, чтобы разогнать „печаль о седеющих волосах".
А в песне этой говорится…”
“Сложено в уезде Кама 21 дня 7-го месяца 5-го г. Дзинки [728 г. ] губернатором провинции Тикудзэн Яманоэ Окура” (прим. к тексту). “Восемь великих страданий”, согласно буддийским учениям, слагаются из четырех страданий бытия: жизнь, смерть, старость, болезни, и из четырех страданий, заключающихся в чувствах и действиях: разлучаться с тем, кого любишь, встречаться с тем, кого ненавидишь, искать и не находить и испытывать муки совести.
“Радости многих лет”—букв. “сотен лет”; здесь “сто”—показатель множественности.
“Печаль о седеющих волосах” – букв. “печаль о двух волосах”. В то время Окура было 69 лет. Образ старости, как отмечал еще К., заимствован из китайских источников: “Цзо-чжуань” – летописи древнего Чжоуского царства (XII–III вв. до н. э.) и поэмы поэта Пань Юэ, посвященной осени (СН).
Вводная часть сложена под влиянием стихов китайских поэтов Ли Во (701–762) и Мэн Цзяо (751–814) – СН.
“Жемчуг дорогой из чужих краев надеть…” – т. е. жемчуг (или яшму), привезенный из Китая или Кореи.
“Белотканым рукавом другу помахать в ответ…” – см. п. 20.
“…алый шлейф – платья красного подол…” – красный подол обычен для женской одежды тех времен. Заслуживает внимания тавтология эпитетов, характерная для народных песен.
“…черных раковин черней…” – речь идет о раковинах мина, внутри совершенно черных.
п. 806 Песне предпослано письмо:
“Падая ниц, исполненный благодарности за присланное письмо, всем сердцем внял благоуханной сути его. И сразу почувствовал я любовь такую же, что была „разлучена Небесной Рекою", и преисполнился страдания такого, когда „обнимают столбы у моста". И лишь об одном я молю: чтобы все было благополучно и у того, кто ушел, и у того, кто остался, и, наконец, дождался бы я, чтобы „раскрылись облака"”.
Письмо и две песни (806, 807) написаны Табито во время его пребывания в провинции Цукуси, на о-ве Кюсю. Они адресованы другу, о котором известно лишь, что он жил в столице. Судя по его ответу, он хлопотал о возвращении Табито в столицу. Можно предположить, что это был Фудзивара Фусасаки, занимавший высокие посты в столице, переписка с которым помещена ниже (см. п. 812). Письмо отражает влияние буддийских идей и китайского просвещения, насаждавшихся в те времена и занимавших значительное место в системе образования.
“Любовь, разлученная Небесной Рекой” – выражение, заимствованное из китайской легенды о любви двух звезд – Волопаса и Ткачихи (Альтаир и Вега), находящихся на разных концах Млечного Пути. Табито здесь имеет в виду себя, находившегося в далекой провинции Цукуси, и своего друга, жившего в столице Нара, разлученных горами и реками.
“Обнимают столбы у моста” – выражение, заимствованное из легенды, приведенной в “Чжуан-цзы” (гл. “Разбойник Чжи”), где рассказывается, как в старину юноша условился встретиться с любимой женщиной под мостом и ждал ее там. В это время хлынула вода, но он не сошел со своего места и, обняв столб, так и умер, оставаясь верным своему обещанию (МС). Упоминание об этой легенде стало служить впоследствии символом глубокой любви а верности.
“Тот, кто ушел” – имеется в виду, по-видимому, Табито, покинувший столицу, “тот, кто остался” – друг, оставшийся в столице.
“Дождаться, чтобы раскрылись облака” – выражение из книги “Чжун-лунь”, составленной Сюй Ганом (III в.), где оно упомянуто при описании встречи Вэнь-вана (древнего правителя Китая, XII в. до н. э.) с удильщиком Тай-гун Ваном. Оно встречается и в “Кайфусо”. Имеется в виду свидание с другом, находящимся в столице. Выражение о встрече с жителем столицы проникнуто пиететом, так как в столице был сосредоточен весь блеск и вся культура того времени, и до сих пор выражение “ехать в столицу” передается в японском языке глаголом “подыматься”, а “уезжать из столицы” – “спускаться вниз”. По-видимому, пребывание Табито на о-ве Кюсю было связано с принудительным изгнанием. Это подтверждается его перепиской с другом и тем, что возвращение представлялось ему самому невозможным, поэтому в его песнях о родине звучит тоска, граничащая с отчаянием.
“Эх, коня бы сейчас, что подобен дракону…” – образ из китайской книги церемоний династии Чжоу (1122—247 гг. до н. э.) “Чжоу-ли” (древнейшая часть четвертой книги пятикнижия), где конь выше 8 чи (чи—0,32 м) считался драконом (МС), т. е. это было обозначение для лучших скакунов.
п. 807 Из песни явствует, что у Табито было мало надежд вернуться в столицу. Это подтверждает и его друг в своем ответе (см. п. 809).
п. 808 В песне иносказательно говорится, что друг хлопочет о разрешении вернуться в столицу Табито, сосланному на о-в Кюсю.
п. 809 В песне иносказательно говорится, что хлопоты друга не имели результата и Табито еще долго придется пробыть в ссылке.
п. 810 Послание Табито адресовано Фудзивара Фусасаки, придворному чиновнику, находившемуся в столице (см. п. 812). Оно было отправлено вместе с песнями и подарком.
Кото – японский музыкальный щипковый инструмент типа цитры, с узким и длинным деревянным корпусом; в VIII в. кото-яматогото имело шесть струн разной толщины, сплетенных из шелковых нитей. Играли на кото при помощи костяных плектров. Кото – один из распространенных музыкальных инструментов и в современной Японии.
Послание Табито полно намеков на известные китайские сочинения. Говоря о том, что кото сделано из боковой ветки (хикобаэ, что на самом деле не так), он использует это только как фигуральное выражение. Хикобаэ, или хикоэ, называют боковую ветвь, идущую не от ствола, а являющуюся ветвью второго порядка. В поэме китайского поэта Цзи Кана, помещенной в “Вэнь сюане” (антологии китайской литературы за период IV в. до н. э. – VI в. н. э., датированной VI в. н. э.), говорится об изящной лютне, сделанной из такой ветки; здесь – шутливый намек на это.
…“на высокой горе пустила я корни…” – имеется в виду гора Юисияма на севере о-ва Цусима. Отмечается также сходство с выражениями, встречающимися в поэзии Цзи Кана (МС).
…“Мой ствол озарял прекрасный свет восходящего солнца…” – выражение из поэмы Цзи Кана.
“Буду я служить какой цели или не буду…” – это перевод выражения, заимствованного из сочинений Чжуан-цзы, где приводятся рассуждения о годном и непригодном материале. Так, среди деревьев различаются деревья, пригодные как материал, которые срубают, и деревья, непригодные в качестве материала, которые не срубают, и они доживают до естественного конца. Среди гусей есть гуси, которые кричат, которых не убивают (“годные”), и гуси, которые не могут кричать, которых убивают (“негодные”) и используют для трапезы. Получается, что в одном случае используется “годное” (а “негодное” оказывается в лучшем положении), во втором же случае используется “негодное”. Когда, задумавшись над этим, ученики спросили Чжуан-цзы, какой истине он будет следовать, Чжуан-цзы ответил: “Я буду следовать истине, что находится посередине двух этих истин, которые говорят о материале годном и негодном” (СН). Здесь приведенное выше выражение употреблено в смысле: “Буду я использована или не буду использована [для чего-либо], неизвестно мне” (МС).
Быть постоянным спутником просвещенного человека (букв. “Быть кото, находящимся всегда с левой стороны у просвещенного человека”) – заимствовано из китайской книги “Гу ле нюй чжуань”, где говорится, что “у просвещенного человека справа всегда книга, слева лютня, и в этом он находит наслаждение” (СН). Говоря о просвещенном человеке, Табито намекает на Фудзивара Фусасаки.
Послание Табито, манера письма, в которой он передает свой разговор с кото и намекает на достоинства адресата, служит образцом стиля, принятого в придворной среде, где насаждалось китайское просвещение.
п. 812 Фудзивара Фусасаки (682–737) – друг поэта Отомо Табито, второй сын Фудзивара Фубито, имел звание асоми, был широко образованным человеком для того времени. Он был придворным сановником, занимал высокие посты. При императоре Сёму стал левым министром, а в 760 г. посмертно ему было пожаловано звание главы государственного совета (дадзёдайдзин). В М. – одна его песня и послание, адресованное Табито.
Ворота дракона – пиететическое обозначение тома Табито. Выражение заимствовано из китайских источников. В “Истории Поздней ханьской династии” в жизнеописании Ли Ина его дом почтительно называют “ворота дракона” (МС). Имеется еще одно объяснение: в верхнем течении Хуанхэ есть труднодоступное место, называемое Ворота дракона” (НКБТ), о котором сложена поговорка: “Если рыба сможет доплыть до него, то станет драконом”. Отсюда, по-видимому, выражение и стало обозначением для важного, высокого, доступного немногим места.
п. 813 Песне предпослано предисловие:
“В провинции Тикудзэн, в уезде Ито, в деревне Фукаэ, в местности Кофунохара, на холме вблизи моря лежат два камня. Больший из них—длиной одно сяку два суна шесть бу; окружность его—один сяку восемь сун шесть бу; вес—восемнадцать кин пять рё; меньший камень – длиной один сяку один сун, окружность его – один сяку восемь сун; вес – шестнадцать кин десять рё формой они похожи на яйца. Говорят, красота их не поддается описанию. Это и есть „драгоценности поперечником в сяку". В некоторых книгах сказано, что эти драгоценные камни происходят из местности Хирасики уезда Соноки провинции Хидзэн, ими пользовались во время гаданий. Они лежат в двадцати ри от почтового двора вблизи проезжей дороги. Простые путешественники и официальные лица сходят здесь с коней и отдают им дань уважения.
А еще рассказывали старые люди, что в древние времена императрица Дзингу брала их с собой во время похода в Сираги и держала их при себе, спрятав в рукавах одежды. И будто бы это помогло ей отсрочить рождение сына и благополучно закончить поход. И поэтому прохожие чтят эти камни и передают о них следующие песни”.
В примечании к песням 813, 814 указывается, что они были переданы устно неким Такэбэ Усимаро, человеком из местности Миносима села Ити уезда Нака. Запись песен приписывают Окура (СН и др.), некоторые—Табито (ОХ и др.). Тем не менее, в комментированных изданиях эти песни обозначаются обычно как песни Окура (МС, НКБТ и др.). Здесь, по-видимому, записано народное предание, подвергшееся некоторой литературной обработке одного из указанных поэтов, скорее всего Окура, так как он, в отличие от Табито, слагал обычно нагаута и проявлял большой интерес к народным песням и сюжетам (см. песни об Арао в кн. XVI, тоже, по-видимому, запись народных песен).
О народном предании, воспетом здесь, имеются записи в “Кодзики”, “Нихонги”, “Цукуси-фудоки”, “Тикудзэн-фудоки” (СН).
В предании отражен древний культ камней, их обожествление, древние обычаи и народные поверья. В то же время песни могут быть отнесены и к историческим песням, поскольку поход в Корею и обстоятельства, сопутствующие этому, являются историческим фактом.
Императрица Дзингу (Дзингу-кого, 170–269) – супруга императора Тюай (149–200); в песнях воспевается также под именем принцессы Тарасихимэ; прожила около ста лет; известна походом в Сираги (Корею). Предание гласит, что по дороге в Корею поднялась буря, но морской бог Сумиёси сам стал кормчим корабля, огромные рыбы, поддерживали корабль и не дали ему утонуть. Король Сираги признал себя побежденным и обязался ежегодно отправлять в Японию в качестве дани 80 кораблей с золотом, деньгами, тканями и т. п. Два соседних корейских княжества также признали себя вассалами Японии. Вернувшись на родину, Дзингу благополучно родила сына, будущего императора Одзина. Она отказалась от трона, но в качестве регентши правила в течение 69 лет до своей смерти.
Сяку – 30,3 см; сун – 3,03 см; бу – 3,79 мм; кин – 600 г; рё – 1/16 часть кина.
“Камни с дивным даром” (кусимитама) – по древней японской мифологии (см. “Кодзики”) существовали духи двух родов: злые (арамитама) и добрые (нигимитама). Среди добрых в свою очередь различались духи счастья (сакимитама) и духи чудес (кусимитама). Здесь кусимитама считаем возможным перевести “камни с дивным даром”, исходя из реального содержания этого понятия в контексте, так как тама не только “душа”, “дух”, но и “драгоценный камень”, обладающий в данном случае чудесной силой.
п. 815 Песне предпослано предисловие:
“13 дня 1-го месяца 2-го г. Тэмпё все собрались в доме благородного старца – генерал-губернатора Дадзайфу, пировали и сочиняли песни. Был прекрасный месяц ранней весны. Приятно было мягкое дуновение ветерка. Сливы раскрылись, словно покрытые белой пудрой красавицы, сидящие перед зеркалом. Орхидеи благоухали, словно пропитанные ароматом драгоценные женские пояса, украшенные жемчугом. А в час зари возле горных вершин проплывали белые облака, и сосны, покрытые легкой дымкой, слегка наклоняли зеленые верхушки, словно шелковые балдахины. В часы сумерек горные долины наполнялись туманом, и птицы, окутанные его тонким шелком, не могли найти дорогу в лесах.
В саду танцевали молодые бабочки, а в небе возвращались на родину старые гуси. И вот, расположившись на земле под шелковым балдахином небес, мы придвинулись друг к другу и обменивались чарками с вином, забыв „о речах в глубине одной комнаты" и, „распахнув ворот навстречу туману и дыму", мы всем сердцем почувствовали свободу и с радостью ощутили умиротворение.
И если не обратиться к „садам литературы", то чем еще выразить нам свои чувства?
В китайской поэзии уже есть собрание стихов об опадающих сливах. Чем же будет отличаться нынешнее от древнего? Тем, что мы должны воспеть прекрасные сливы этого сада, сложив японские короткие песни – танка”.
Этот цикл сложен в подражание песням о цветах сливы, помещенным в старинной китайской “Книге песен”, а поэтический турнир на эту тему воспроизводит обычаи Китая. Цветы сливы, ввезенные из Китая, очень полюбились в стране, стали неотъемлемой частью японского пейзажа и постоянным образом в песнях зимы и ранней весны.
Авторы цикла – чиновники округа Дадзайфу, ближайшие сослуживцы, а также друзья Табито. Кем написано предисловие, точно неизвестно. Некоторые комментаторы считают его автором Окура (К., КТ, К. Мае., СН); другие приписывают его Табито (ОХ, ТЮ, ХЯ, MX). Последняя точка зрения наиболее обоснована, в этом убеждает письмо Ёсида (см. ниже), из которого известно, что песни и предисловие прислал ему в столицу Табито.
“Словно покрытые белой пудрой красавицы, сидящие перед зеркалом” – выражение связано с древним китайским преданием о том, как однажды на лоб принцессы Шоуян, красавицы дочери сунского императора У-ди, упали лепестки сливы, и хотя она пыталась смахнуть их, они остались на лбу. Отсюда и пошло выражение “пудра сливовых лепестков” (“Сун-шу”; К.).
“Словно пропитанные ароматом драгоценные женские пояса” – за женские пояса закладывали мешочек с ароматическими веществами, и поэтому от поясов исходило благоухание. Образ орхидеи, благоухающей, как драгоценный пояс, навеян образом поэмы Цюй Юаня “Лисао” (“Элегия отверженного” – сложена около 300 г. до н. э.).
“Сосны, покрытые легкой дымкой” – здесь дымка – образ собравшихся белых облаков.
Шелковый балдахин (кинугаса) – балдахин в форме зонта, который несли над важным лицом во время торжественных шествий и прогулок, здесь с ним сравниваются верхушки сосен.
“Забыв о „речах в глубине одной комнаты" и „распахнув ворот навстречу туману и дыму"” – т. е. говорить откровенно, от души (МС). Оба выражения заимствованы из китайских источников (“Чжуан пзы” и Ван Си-чжи “Лань тин цзи”).
Об авторе песни 815 ничего не известно; в М. – одна его песня. Некоторые комментаторы высказывают предположение, что это Ки Кахито.
п. 816 Оно Ою – имел звание асоми. В 4-м г. Еро (720) был секретарем управления делами при государственном совете императора (сасёбэн), умер в 732 г. В М. – три его песни.
п. 817 Имя автора не указано. В “Сёку-Нихонги” упоминается Авата Хитоками в звании асоми, губернатор провинции Мусаси, возможно, это одно и то же лицо (МС).
п. 818 Яманоэ [Окура] – в тексте указана только фамилия (расшифровка общепризнанна).
п. 819 Отомо [Миёри] – в тексте лишь фамилия (расшифровка по К.).
п. 820 Фудзии [Онари] – в тексте дана лишь фамилия (расшифровка
общепризнанна). Онари был губернатором в Тикуго, когда Окура губернаторствовал в Тикудзэн.
п. 821 Каса-Сами (Каса Маро) – светское имя Сами Мандзэя до пострижения в буддийские монахи. На Кюсю он прибыл из столицы для постройки в Дадзайфу храма богини Каннон. Был настоятелем этого храма (см. п. 336).
п. 824 А[бэ] Окисима—в тексте фамилия дана сокращенно; большинство предполагает, что это фамилия Абэ.
п. 825 Хани[си] Момомура – в тексте фамилия дана сокращенно. Известно лишь, что он старый приятель Окура. В “Сёку-Нихонги” написано, что в 5-м г. Ёро (721) Ханиси Момомура в звании сукунэ служил вместе с Окура. В М. – одна его песня.
п. 826 Фухито[бэ] Охара – в тексте фамилия дана сокращенно, полагают, что это Фухитобэ (МС, СН), который занимал должность главного (или старшего) секретаря Дадзайфу (дайтэн, или оки фумихито). В М. – одна его песня.
п. 827 Яма[гути] Вакамаро – в тексте фамилия дана сокращенно, считают, что это Ямагути (МС, СН), умер в 723 г., имел звание имики, был младшим секретарем или помощником главного секретаря Дадзайфу (сётэн). В М. – две его песни.
п. 828 Фунэ Маро – фамилия дана по МС. Фунэ Маро занимал должность главного судьи Дадзайфу (дайхандзи или окикотовару цукаса). В М. – одна его песня.
п. 829 Те Сакико – полагают, что фамилия дана полностью (МС, СН), так как в “Сёку-Нихонги” встречается такая фамилия (СН). Сакико – здесь мужское имя, в старину мужские имена имели иногда окончание на “ко”. Те Сакико занимал должность лекаря Дадзайфу (якуси или кусиси). В М. – одна его песня.
п. 830 Сахэки Кобито – в тексте фамилия дана сокращенно, полагают, что это Сахэки (МС, СН и др.), который был помощником губернатора провинции Тикудзэн. В М. – одна его песня.
п. 831 Ита[моти] Ясумаро – в тексте фамилия дана сокращенно; в “Сёку-Нихонги” встречается Итамоти Ясумаро в звании мурадзи, полагают, что это он (СН). В М. – одна его песня.
п. 832 Ара… Инафу – фамилия дана сокращенно, точной расшифровки нет; занимал должность священнослужителя в синтоистском храме в Дадзайфу (камудзукаса). В М. – одна его песня.
п. 833 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Ну), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя; занимал должность старшего секретаря Дадзайфу (дайрэйси или оки-фумихито—старший секретарь судьи). В М. – одна его песня.
п. 834 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Та), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя; занимал должность младшего секретаря в Дадзайфу (сёрэйси или сукунаки фумихито – младший секретарь судьи). В М. – одна его песня.
п. 835 [Така] Ёсимити – фамилия дана сокращенно, точной расшифровки нет; занимал должность лекаря (кусуси) в Дадзайфу. В М. – одна его песня.
п. 836 Исо Норимаро – фамилия дана по МС. Полагают, что полная фамилия Исобэ (СН). Занимал должность прорицателя (или гадателя) в Дадзайфу (онъёси или омуёдзи, а также ураноси); являлся служащим управления, ведающего гаданиями (онъёре), предсказывал судьбу по звездам, определял при помощи гадания подходящие участки для построек, посевов и т. п. В М. – одна его песня.
п. 837 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Си), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя. Занимал должность казначея Дадзайфу (кадзоэноси или санси). В М. – одна его песня.
п. 838 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Э), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя. Занимал должность писца (моку), что по обязанностям было равно должности секретаря в Дадзайфу (см. п. 826), но так как это был дальний край, то должность считалась низшего класса. В М. – одна его песня.
п. 839 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Та, см. п. 834), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя; занимал должность писца. В М. – одна его песня.
п. 840 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Мура), расшифровки нет, поэтому в переводе приведено только имя; занимал должность писца. В М. – одна его песня.
п. 841 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Така, расшифровки нет (то же, что в п. 835). В М. – одна его песня.
п. 842 Фамилия автора в тексте заголовка дана сокращенно (Така, см. п. 835). В М. – одна его песня.
п. 843 Ханиси Мимити – тот же автор, что в п. 557, хотя имя его транскрибируется здесь другими иероглифами. Он не был чиновником Дадзайфу, поэтому фамилия его как постороннего лица дана полностью; имел звание сукунэ (СН). В М. – четыре его песни, среди них и шуточные.
п. 844 Ону Куниката – об авторе ничего не известно; в материалах Сёсоина (хранилище при храме Тодайдзи в Нара, построенное в 756 г., в котором собраны вещи и документы времен императора Сёму (724–748 гг.), периода наивысшего культурного расцвета эпохи Нара), встречается его имя (СН). Он, как и автор предыдущей песни, не являлся чиновником Дадзайфу, поэтому фамилия приведена полностью (см. п. 843). В М. – одна его песня.
п. 845 Кадо[бэ] Исотари – судя по заголовку п. 568, он имел звание мурадзи, был на должности инспектора (дзё) провинции Тикудзэн. Фамилия приведена сокращенно, но расшифровка общепринята, в заголовке п. 568 она приведена полностью. В М. – две его песни.
п. 846 Ону Танри, о нем ничего не известно. В М. – одна его песня.
п. 847–848 Автор не указан, но обычно п. 847, 848 считают песнями Табито.
Зелье, о котором говорится в песне, – эликсир бессмертия. Представление о таком эликсире вместе с другими идеями Лао-цзы и Чжуан-цзы проникли из Китая и были предметом увлечения многих в те времена. В китайской книге о святых отшельниках (“Ле сянь чжуань”) рассказывается, как внук императора Гао-ди династии Ци (479–482) – правитель области Хуайнань по имени Лю Ань, увлекавшийся магией, был посвящен неким человеком по имени Ба Гун в секрет изготовления волшебной настойки, благодаря которой можно было взлететь на небо. И вот однажды, поощряемый Ба Гуном, он вместе с ним взлетел на небо. Петух и собака, лизнув треножник, на котором оно изготовлялось, и вкусив остатки напитка, также взлетели на небо. В “Рэники”, написанной на китайском языке, где собраны буддийские предания и притчи, говорится о женщине, которая, отведав волшебной настойки (не то волшебной травы), вознеслась на небо. Об этом говорится и в “Кайфусо”.
п. 849 См. п. 847. га. 851 Сходная по содержанию песня есть у Табито, см. п. 1542.
п. 852 О лепестках, плавающих в вине, упоминается в ряде песен. Это объясняется влиянием китайских обычаев (МС).
п. 853 Песне предпослано предисловие.
Предисловие к “Прогулкам у реки Мацура”
“Однажды я ненадолго уехал в уезд Мацура. Гуляя там, я подошел к бухте у Яшмового острова и, любуясь ею, вдруг увидел юных дев, ловивших рыбу. Подобные цветам лики их не могли ни с чем сравниться, сверкающий облик их не имел себе подобного. Брови их напоминали молодые листки ивы, щеки их были похожи на розовые цветы персика. Высокий дух их был выше облаков, такое изящество, как у них, еще не встречалось в мире.
Я спросил их, где их родина, дочери чьих домов они. Сомнения охватили меня. – „Вы не из тех ли мест, где живут боги и феи?" – спросил я.
И юные девы засмеялись в ответ: „Мы из рыбацкого дома, мы простые девушки, живущие в лачугах, крытых травой. Нет родного села у нас, нет и дома. Как же мы можем назвать себя? Мы общаемся лишь с водою, и сердце наше радуется горам. Иногда, подойдя к бухте реки Ло, завидуем плывущим красивым рыбам; иногда мы просто лежим в горах Ушань, любуемся дымом и туманами. А сейчас, неожиданно встретившись с благородным гостем, мы не могли преодолеть волнение и поведали ему все, что было у нас на сердце. Не дашь ли ты нам обет на всю жизнь проводить вместе с нами свою старость?" – „Да, да, хорошо, – ответил я, жалкий чиновник. – Я буду внимать вашим приказам". Но тут как раз солнце зашло за горы и черный конь уже собирался покинуть эти места.