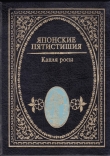Текст книги "Манъёсю"
Автор книги: Поэтическая антология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 57 страниц)
КНИГА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
п. 3348 Песня рыбака похожа на парную песню, связанную с песней из кн. VII (1176), где поет жена рыбака, ожидающая мужа. “Летом тянут коноплю здесь…” – в старину в этих окрестностях выращивали коноплю, и, так как коноплю убирают летом, это и стало постоянной и главной характеристикой местности.
Ночь посевов (саё) – обычно суффикс “са” считают в песнях М. лишенным значения. Однако мы полагаем, что здесь “са” – сокр. от “сацуки”, т. е. месяца посевов, месяца “посадки риса”; другими словами, речь идет о мае, так же как в старинных народных песнях, в слове “саотомэ” – “майские девушки” (са – сокр. сацуки; отомэ – девушки).
ОС отмечает “литературность” этой песни. Однако одинаковый зачин песни, а именно совпадение полностью первых трех стихов с песней кн. VII указывает на традиции народной песни. По-видимому, это народная песня, подвергшаяся литературной обработке.
п. 3349 Вариант народной песни (СН).
Толкуется как песня жены лодочника, ожидающей мужа и в тревоге прислушивающейся к шуму голосов возвращающихся в бухту рыбаков. Похожа на песню 1228.
Судя по тому, что три последние строки полностью совпадают с п. 1228, следует рассматривать как варианты народной песни, распеваемой обычно в разных местах с незначительными изменениями.
п. 3350 Считается песней, сложенной деревенской девушкой при виде, красивой одежды чиновника, приехавшего из столицы. В комментариях указывается еще на два варианта данной песни. Некоторые склонны видеть в ней любовную песню. ОС, например, указывает на старинные обычаи, когда с платьем связывалось представление о душе, считалось, что в платье остается частица души его хозяина. Желание надеть чье-либо платье означает желание как бы получить душу этого человека, его любовь. Поэтому в знак любви подносили друг другу платье или обменивались рубашками и т. п. Это было любовным обетом. ОС полагает, что и в данном случае речь идет не о желании надеть платье, а о любви. Полагаем, что первое толкование основано на позднейшем восприятии песни, толкование, исходящее из старинных обычаев, более правильное.
п. 3351 Тоёда приводит в качестве варианта песню 4140:
То не цветы ли белых слив,
Взращенных мною,
В саду на землю опадают ныне
Иль это хлопья снега, что весною
Остались, не успев еще растаять?
Сравнение снега с цветами постоянно встречается в песнях весны и зимы и в классической поэзии Х—XIII вв. Поэтому данная песня представляет особый интерес, ибо показывает, как мотив, в основе которого лежали реальные картины быта (ожидание снега, связанного с определенными хозяйственными интересами древнего японского земледельца, образ полотна, которое вывешивали сушить и которое славилось в этой местности своей белизной), в дальнейшем, в иной общественной среде, принимает иной эстетический характер и выпавший снег сравнивается не с белизной полотна, а с лепестками цветов или белые лепестки цветов со снегом.
п. 3352 Толкуется как песня жены, ожидающей возвращения мужа (или девушки, ожидающей возвращения любимого). Кукушка, являясь синонимом лета, указывает, что лето наступило и обещанный срок возвращения миновал (токи сугиникэри). Кукушка (хототогису) – постоянный образ песни лета, символ разлуки, печали. ОС правильно указывает на глубокую связь между полевыми, земледельческими работами и птицами, которой древние земледельцы уделяли особое внимание. Пение определенной птицы ассоциировалось у них с определенным сроком полевых работ.
И в этой песне первоначальный смысл был связан, возможно, не с мотивом ожидания возлюбленного и сроками свидания, а указывал на окончание срока определенных полевых работ. Кстати, кукушка, хотя и является синонимом лета, в песнях фигурирует как птица, поющая в пятом месяце (по лунному календарю), в начале которого обычно происходит посадка риса. Возможно, что поэтому первоначальный смысл песни был в том, что раз запела; кукушка, то время посадки уже прошло, т. е. срок этой работы миновал. А так как земледельческие работы сопровождались особыми обрядами, хороводами, брачными играми и весенние работы были временем любовных встреч, то впоследствии, естественно, произошло переосмысление последней строки: кончен срок работ, т. е. кончен и срок хороводов и встреч, значит, нечего ждать встречи с тобой.
п. 3353 Песня комментируется по-разному; это говорит о том, что песни М. подвергались неоднократному переосмыслению. ТЯ считает, что песню эту сочинил мужчина и говорит в ней о разлуке с женой, которая пошла проводить его до леса; ОС считает, что здесь речь идет о путешественнике, который попал в местность, славящуюся шумными хороводами и брачными играми. Переводим исходя из толкования ОС, в правильности которого убеждают многие песни кн. XIV, отражающие старинные обычаи, и в частности п. 3354. В обрядовых земледельческих процессиях других восточных провинций встречаются персонажи, называемые “кэйго” – “стражами”, “охраной”. Их функция заключалась в охране урожая, в охране ростков риса, или девочек, символизирующих эти ростки риса, и т. п. Возможно, далекий смысл песни имел в виду земледельческий обряд, связанный с весенним полем и брачными играми, но впоследствии песня утратила первоначальный смысл. И только местность, где это происходило, в своем названии (тому есть много примеров в древней Японии) сохранила намек на этот обряд.
п. 3354 Фусума – в данном случае яркие пестрые одеяла, которыми славится местность и которые отличаются особой мягкостью, так как в них кладут много ваты.
У людей в Кибэ (Кибэбито; Кибэ – название местности; битохито – человек, житель Кибэ) – так же называлась стража у заставы, у замка. В старину вокруг замков устраивали поселения, и крестьяне отбывали повинность, неся обязанности стражей. В стражи обычно брали из разных мест. Поскольку приведенные выше две песни одной провинции отмечены как песни-переклички, то возможно, их исполняли женская (предыдущую песню) и мужская (данную песню) половины хора и между ними была какая-то связь. Разговор о постели любимой во второй песне лишний раз утверждает во мнении, что и предыдущую песню можно, принимать в толковании ОС; возможно, когда-то “кибэбито” имели значение обрядовой стражи (см. п. 3353) и здесь имеется намек на особый обряд, однако память о нем давно утрачена. Перевод сделан по СН и ОС.
п. 3355 Рассматривается как песня, сложенная юношей, ожидающим под деревьями возлюбленную, обещавшую прийти.
п. 3356 В комментариях указывается, что этот мотив встречается и в позднейших народных песнях (ТЯ):
Если к милой ты идешь, любя,
Тысча верст тогда – одна верста,
А без встречи возвращаешься домой,—
Снова тысча верст перед тобой.
п. 3357 Песня мужа, уходящего в пограничные стражи.
п. 3358 Толкуется как песня, выражающая сомнение в чувствах юноши, переставшего приходить на ночные свидания.
Яшмовая нить служит иногда образом недолговечного, короткого; иногда, наоборот, служит образом долгого, продолжительного (см. п. 3082). Здесь используется первое толкование.
Фудзи – см. п. 317 (кн. III).
Нарусава – долина на северо-западе горы Фудзи, где беспрестанно слышен гул падающих камней, отчего в сочетании этого названия имеется глагол “нару” “грохотать”, “издавать гул” и т. п.
В последнем варианте дан образ беспрестанно идущего снега, падающего на вершину Фудзи, как образ неугасающей любви; этот образ встречается и в классической поэзии “Кокинсю” (X в.).
п. 3359 Толкуется как песня, выражающая чувство девушки, обманувшейся в возлюбленном и раскаивающейся в том, что нарушила заветы матери.
Хамацудзура – вид плюща, растущего на берегу и обладающего исключительно длинными корнями (ТЯ), поэтому служит сравнением и образом прочного, крепкого, бесконечного (в данном случае для чувства любви): доверяла тебе, думала, твоя любовь, как хамацудзура, прочная, а оказалось не так – вот смысл песни. Этот образ, подсказанный непосредственным хозяйственным опытом, отмечается и японскими комментаторами как типичный для народной песни. Однако сравнение не имеет текстуального выражения и только подразумевается. Такого рода параллелизмы, как и сам этот мотив, неоднократно встречаются в анонимных песнях М.
п. 3360 Песня девушки.
Образ белых волн, беспрестанно катящихся друг за другом к берегу, как образ повторяющихся встреч, беспрестанных чувств и т. п. встречается и в позднейшей классической поэзии Х—XIII вв. Следующая песня, сложенная от лица юноши, позволяет предполагать, что обе эти песни – парные и исполнялись женской и мужской половинами хора во время хороводов.
п. 3361 Толкуется как песня, передающая картину глубокой ночи в горах Асигара, в провинции Сагами (ТЯ)^ Среди гор Асигара, в стороне Асигара и т. п. – типичный зачин для многих песен, в состав которого входит название местности.
“Милая и я развязываем шнур…” – возлюбленные перед разлукой завязывали шнур одежды, как бы связывая этим души и т. п. с тем, чтобы развязать его только при встрече, по возвращении. Этот образ унаследовала и поэзия “Кокинсю”, где он служил уже только символом любовных отношений, любовной близости. Возможно, песня связана с брачными играми, которые обычно происходили в горах.
п. 3362 Полагают, что это песня пограничного стража, покидающего родные края (крестьян брали на службу на три года – см. кн. XX, комм. к п. 4321). ОС считает, что эти песни связаны со старинными верованиями, когда поклонялись богам дороги и поверяли им свои заветные мысли, желания, имена близких людей, прося их защиты и покровительства.
п. 3363 Толкуется как песня жены, ожидающей мужа, отправленного в столицу. ОС склонен считать ее песней возлюбленной местного чиновника, которую она посылает ему в столицу, куда он возвратился, отбыв срок службы. Мы переводим исходя из обычного толкования этой песни, но полагаем, что это позднейшая редакция.
ОС рассказывает о старинном обычае, когда, провожая кого-либо, сажали сосну или другое дерево и по тому, росло ли оно или увядало, гадали о судьбе уехавшего. Он дает иную редакцию трех последних строк, но без большой уверенности, так как считает особенно трудной для толкования стк. 3.
п. 3364 Толкуется как песня, выражающая упрек девушки, ждущей возлюбленного, который должен был вернуться к осени, когда созреет просо. В песне типичный “общий зачин” народной песни, куда входит название местности, где поют эту песню. В окрестностях гор Хаконэ и теперь известно много мест, где культивируют просо. В примечании к песне приводится еще один вариант трех последних строк.
п. 3365 Песня-клятва, где сравнение приводится в порядке противопоставления: скалы разбиваются, а твое сердце, твое чувство никогда не будет разбито – вот смысл песни. Рассматривается как клятва юноши своей возлюбленной, сомневающейся в его чувствах.
Мыс Микоси в Камакура славится тем, что волны там бьются с такой силой, что разбивают даже камни (ТЯ). О том, что у мыса Микоси в Камакура обычно стремительные волны и течение разбивает камни, говорится и в “Сагами-фудоки” (ТЯ).
п. 3366 Толкуется как песня юноши, сложенная по дороге к возлюбленной.
п. 3367 Комментируется ТЯ как песня девушки, утешающей себя и волнующейся по поводу отсутствия возлюбленного; ОС же считает, что песню эту сочинила девушка в утешение подруги, упрекающей своего милого за долгое отсутствие. Второе толкование более убедительно.
Быстроходная ладья (асигара обунэ) – маленькая лодка-ладья из дерева, растущего на горе Асигара. В “Сагами-фудоки” указывается на то, что деревья, растущие на этой горе, употреблялись в качестве материала для изготовления лодок, отсюда и само название горы Асигара от “асикари”, “аси-но каруки” – “легконогий”, и лодки, изготовлявшиеся из этого материала, назывались быстроходными.
“Кружит, кружит быстроходная ладья…” – комментаторы толкуют это как представление о занятом человеке, снующем по разным делам. Нам представляется это уже позднейшим толкованием. Первоначально, по-видимому, речь шла о рыбаке, уехавшем на быстроходной лодке и задержавшемся в пути; возлюбленную его утешают, что путь не может быть легким среди сотен островов и длится долго.
п. 3368 Толкуется как песня юноши, сомневающегося в возлюбленной и утешающего самого себя, или, по другой версии, песня друга, утешающего юношу. По-видимому, песни 3367 и 3368 являются парными, которыми обменивались юноши и девушки. Они одного содержания, в них выражены одни и те же чувства. В последней песне строки 1–3, вероятно, связаны с представлениями о любовной клятве верности; недаром ОС оценивает ее как песню, связанную с песнями-обетами [см. также песню-клятву (обет) 3392].
п. 3369 Песня, по-видимому, исполнялась мужской частью хоровода, так как сочинена от лица юноши. Здесь характерен образ “изголовья из рук” (тамакура), обычный для песен-перекличек. Мы полагаем, что это уже позднейшее толкование образа. Первоначально он был связан, вероятно, с брачными играми на полях, которыми заканчивались хороводы. Само слово “тамакура” означало первоначально, вероятно, “поле-подушка” (“та” может значить и “поле” и “рука”). И так как на поле во время брачных игрищ изголовьем служили руки любимой, то, возможно, впоследствии и произошла такая смена значений слова и другое толкование, особенно когда, оторвавшись от первоначальной народной почвы, это выражение вошло в обиход литературной поэзии.
п. 3370 ТЯ рассматривает эту песню как песню юноши, обращенную к возлюбленной, ссылаясь на комментарий известного филолога К. Мае. Он считает, что эту песню юноша поет девушке, которая мешкает развязывать свои одежды. Возможно, песня относится к циклу так называемых брачных песен утагаки.
Трава нико – в старинных словарях (Котоба-но идзуми – Отиаи Наобуми) говорится, что эту же траву называют еще “эмигуса” и “вакагуса”, т. е. “трава-улыбка” или “трава молодости”, она несколько напоминает папоротник, имеет твердый стебель, узкие листки с лиловатым, а весной с красным отливом; никогда не вянет, слывет очень красивой травой. И по этим причинам, по мнению ТЯ, является “дзё” (“введением”) к слову “хана” “цветок”, в данном случае “ханацума” “невеста”, “новобрачная”. По мнению ОС, речь идет о “кукле из травы”.
“Шнур, не распустив, легла…” – распустить шнур, развязывать шнур – см. п. 3361. Сравнение стыдливой возлюбленной “с куклой из травы нико” или “невестой из травы нико” имеет, по-видимому, древние корни, связанные с какими-то народными обрядами, обычаями, память о которых уже изгладилась: возможно, с символическими брачными сочетаниями духов растительности в виде кукол, сделанных из травы, что встречается у ряда народов в истории земледельческой обрядности. Название травы – “вакагуса” – “трава молодости” и приписываемые ей свойства вечной молодости, бессмертия особенно убеждают в этом. Не случайно она и служит непосредственной шапкой слова “хана”, что в обиходе земледельческих обрядов значит “плодородие” и, таким образом, позволяет предполагать, что образ куклы из травы или “невесты из травы нико” связан с обрядом, способствующим обеспечению урожая, процветания и т. п.
п. 3371 Толкуется как песня мужчины, сложенная в пути. ОС поясняет, что речь идет о богах дороги, в частности о божестве, обитающем в этом священном месте. Об этом божестве говорят, что оно не пропускает дальше, если не откроешь ему, что скрываешь на сердце, поэтому от страха мужчина сказал имя любимой женщины, что таил в душе. В старину произнесение имени кого-либо было табу, имена близких иногда называли только божествам, когда у них испрашивали покровительства и защиты (см. также п. 3284).
В стороне Асигара (Асигари) – типичный зачин песен, в который входит название данной местности. Эта песня имеет вариант среди авторских песен в кн. XV.
п. 3373 Река Тамагава в провинции Мусаси славилась кристально-чистой водой и форелями. В старину на всем ее побережье занимались выделкой полотна, белили его на солнце у реки; его подносили правителю в качестве подворного налога.
п. 3374 В песне говорится о гадании на оленьей лопатке, которую держали над огнем и по трещинам читали имена и судьбу.
В комментариях ИЦ приводится целый рассказ, связанный с этой песней. Там говорится о том, как родители добивались узнать имя возлюбленного своей дочери, которое она скрывала. Ее повели к гадателю в долину Мусаси и во время гадания на лопатке оленя выяснили имя обманувшего ее возлюбленного. Однако песня по структуре и содержанию напоминает обычные песни при гадании, когда описывается совершаемое действие и затем предугадывается как уже свершившийся факт результат гадания. Гадание на лопатках оленя, судя по песням М., было широко распространено в те времена. Некоторые комментаторы (К. Мор.) указывают, что такого рода гадание характерно для монгольских народов и в Японию оно пришло с материка. Он особенно подчеркивает это как факт, представляющий особый интерес с точки зрения истории японской культуры. Зачин типичный для народных песен того времени.
п. 3375 Исполнялась, по-видимому, женской частью хоровода, так как сложена от лица девушки. В песне “общий зачин” песен провинции Мусаси. Образ фазана и других птиц, особенно кукушки, очень характерен для народных песен М.
п. 3376 Песня распевалась, по-видимому, женской половиной хоровода. В тексте приводится также песня из неизвестной книги, представляющая вариант на ту же тему, с той только разницей, что она является как бы песней-вопросом, распеваемой мужской половиной хора, а данная песня является ответом на нее.
“Помашу тебе я рукавом…” – распространенный образ в любовных лирических песнях М. Он перешел в классическую японскую поэзию и литературу как образ интимных любовных отношений, любовный знак, сигнал к встречам, выражение любовных чувств.
Цветы укэра (Atractylis lancea) – разновидность хризантем, растут в горах, цветут осенью желтоватыми, либо лиловатыми, либо красноватыми цветами, которые полностью никогда не раскрываются, почему и являются образом затаенной любви. Цветы укэра воспеваются неоднократно в любовных лирических народных песнях М.
п. 3377 Толкуется как песня девушки, обращающейся к возлюбленному с упреком. Здесь использован часто встречающийся в песнях М. образ травы, сгибающейся от ветра, как образ девушки, подчиняющейся воле любимого.
В песне “общий зачин” песен этой провинции, куда входит название самой провинции.
п. 3378 Комментируется как песня, обращенная к молодой девушке. ТЯ указывает, что на эту тему имеются разные варианты среди народных песен, приводит два из них. Иваидзура – растение, в комментариях К. приводятся источники, где слово этимологизируется следующим образом: “ива” “скала”; “дзура” или “кадзура” – растение, растущее среди скал (стр. 729). Однако мы полагаем, что, возможно, здесь идет речь о траве, имеющей отношение к народной обрядности; во-первых, потому, что в древних обычаях Японии имеют место священные травыи, с другой стороны, потому, что слово “иваи”, возможно, происходит от “ивау” “праздновать”, “молиться”, “священнодействовать”, “иваиби” “праздник”, “иваиби” “обрядовый костер”, имеющий целью мольбу о солнце; “иваигото” “празднование”, “иваисакэ” “праздничное сакэ”.
п. 3379 Цветы укэра неоднократно встречаются в песнях М., они служат символом затаенной любви, так как не раскрывают полностью своих лепестков и не имеют четкой интенсивной окраски (см. п. 3376), и символом вечного и неизменного, так как никогда не вянут (вроде бессмертника). В этих двух планах они и фигурируют обычно в песнях М.
п. 3380 ТЯ высказывает предположение, что эта песня сложена во время разлуки любящих братьев и вряд ли сложена женщиной, провожающей до стоянки кораблей своего возлюбленного, отправляющегося в дальнее плавание. Однако ОС толкует ее как песню мужчины, обращенную к милой. В песне “общий зачин” народных песен данной провинции.
п. 3381 Толкуется как песня юноши, разлученного со своей возлюбленной. “Летом тянут коноплю…” – постоянная характеристика местности Унаби, как и в п. 3348.
п. 3382 Песня юноши. К. приводит источники, где встречаются упоминания о местности Умагута. В “Тэмму-ки” (Записях об императоре Тэмму”) имеется указание, что Умагута принадлежала фамилии Отомо и т. д.
Содержание этого стиха воспринимается комментаторами по-разному. Перевод сделан по ОС и НКБТ, так как их толкование наиболее характерно для песен М.
п. 3383 Комментируется как песня, связанная с отъездом и сложенная в дороге.
п. 3384 Толкуется как песня девушки, которую любимый сравнивает с легендарной красавицей Тэкона. Перевод сделан на основе толкования К. Маб., К., К. Мае. В настоящее время в префектуре Тиба, в г. Сигава к югу от часовни Тэкона на памятнике высечена танка Акахито и недалеко от него имеется Пруд Тэкона (см. песни кн. III и IX о Тэкона).
п. 3385 К. считает, что это песня той же девушки, которая сложила песню 3384.
Тэкона – легендарная красавица, см. песни о Тэкона в кн. III и IX. В переводе мы придерживаемся трактовки К. и ТЯ.
“Грохотала бы прибрежная волна…” – т. е. все время прибывали бы к берегу лодки с юношами, добивающимися любви Тэкона (К., ТЯ). Полагаем, что другая трактовка, по которой “даже волны с грохотом приливают к берегу, дивясь на красоту Тэкона”,– позднейшее переосмысление, здесь следует придерживаться, как нам кажется, менее отвлеченных образов.
п. 3386 Комментируется как песня женщины, сложенная в ночь, когда налагаются любовные запреты. Ранний рис “васэ” – скороспелый мелкозернистый рис. Уезд Кацусика считается родиной этого вида риса. Здесь говорится о земледельческом обряде, содержащем в себе прежде всего акт совместного вкушения первого риса земледельцами. В старину в японских деревнях, когда кончалась жатва, первые колосья, а впоследствии и денежные приношения взамен риса (слово “первые колосья” – “хацухо” является также обозначением и для благодарственных денежных приношений как в синтоистских, так и в буддийских храмах) подносили богам, охранявшим селение, в благодарность за милость, т. е. хороший урожай. После этого в каждом доме либо в каком-то одном в центре деревни праздновали урожайный год, т. е. вкушали в совместной трапезе первый рис. Этот праздник жатвы, так называемый народный ниинамэ-сай, очень чтился. В ночь накануне жатвы и праздника налагались очистительные запреты: не полагалось впускать никого чужого в дом, возбранялась всякая любовная связь и встречи; следовало избегать встреч с чужими людьми. О запретах общения в этот день ОХ приводит соответствующие цитаты из “Хитати-фудоки” (глава “Уезд Цукуба”). Он цитирует то место, когда бог Миояноками-но-микото добрался до горы Фудзи и попросил приюта, но божество Фудзи отказалось его приютить, так как был праздник “ниинамэ” и на дом был наложен очистительный запрет. Тогда Миояноками-но-микото взобрался на гору Цукуба и стал там просить о приюте. Божество Цукуба приютило его, указав, что делает это для него, нарушая обычаи, связанные с обрядом “ниинамэ”, совершаемым этой ночью.
“Ранний рис от сбора первого…” (ниодори-но) – в современных комментариях ТЯ, ОХ, ТЮ, ЦД “ниодори-но” отмечается как “ма-кура-котоба” к Кацусика. Само слово “ни(х)отори” комментируется как название особой породы дикой утки (называется также “каи-цубури”). Его употребление в качестве “мк” к Кацусика объясняется тем, что эти утки погружаются надолго в воду, ныряют, что передается глаголом “кадзуку”, и отсюда, через фонетическое сходство с этим глаголом, название Кацусика и принимает на себя в качестве “мк” (постоянного эпитета) это слово. Это чисто внешняя формальная связь между “мк” и словом, к которому оно относится.
Между тем другие источники дают гораздо более правдоподобный материал для объяснения этой связи. Так, в старинном японском труде поэта и исследователя – монаха Кэнсё “Сютюсё”, представляющем собой ценнейший лексический комментарий к словам старинных песен, мы находим указание, что “ни(х)отори” – видоизмененное “ниитори” (“нии” – “новый”, “свежий”, “первый”; “тори”—“сбор”), т. е. речь идет о новом, первом сборе риса. При таком понимании “мк” “ни(х)отори” его связь с Кацусика, славящейся скороспелым рисом, и с последующим словом “васэ” – “скороспелый рис” – вполне закономерна, тем более что по содержанию песни речь идет об обряде подношения богам (первых колосьев риса). Такое толкование “ни(х)отори” приводится еще в одном капитальном труде, посвященном комментариям М., “Кокинсю” и вообще проблемам поэтики и поэтического стиля – “Огисё” – известного поэта и ученого Фудзивара Киёскэ. Такое же толкование этого слова дает и известный в истории литературы автор знаменитых “Записок в келье” – Камо Тёмэй в своем труде “Мумёсё”, где попутно с разными записями приводятся исследования “мк” из М. На этом мы и основываем свой перевод.
Интересно также отметить, что К. приводит еще две песни из М. с аналогичным содержанием, причем вторая – из фамильного сборника Якамоти. Последнее свидетельствует о том, что так называемые фамильные сборники содержали также и записи народных песен.
п. 3387 ТЯ считает, что это песня молодого деревенского парня.
“По дощатым временным мосткам…” – На месте совр. Мама раньше был залив. “Цугихаси” в Симоса и Мама называют небольшие мостики через речку, но, по мнению Цугита, это сооружения позднейшего времени.
Надо отметить, что Тэкона в песнях восточных провинций нарицательное имя для красавицы вообще.
п. 3388 Комментируется как песня свахи, обращенная к девушке. Типичны здесь повторы, характерные для народной песни. Следует указать, что на Цукуба две вершины. Западная – именуется Мужской горой, Восточная – Женской горой, где чтятся соответственно мужское и женское божества. Между пиками расположена равнина Миюкибара – Равнина Высочайшего Пути, на которой и происходили хороводы и брачные игрища. Образ тумана как образ грусти, любовной тоски встречается позднее и в литературной поэзии.
п. 3389 Отмечается как песня мужчины, отправляющегося в дальний путь. Однако при сравнении с другими ее следует отнести к песням пограничных стражей. Характерна в этом смысле п. 3390, являющаяся как бы ответной песней жены.
“Буду я махать ей рукавом…” – см. п. 3376. Обе песни – эта и предыдущая – помещены под рубрикой песен-перекличек; возможно, они представляют собой парные песни, которыми обмениваются, распевая, мужская и женская стороны хоровода.
п. 3391 Комментируется как песня девушки, ропщущей на переставшего ходить к ней возлюбленного. В песне непередаваемая игра слов, так как в названии гор Асихо “аси” значит “дурной”, “плохой”. Перевод сделан в соответствии с толкованием ТЯ, основанным на комментариях К., К. Мае. и ТТ.
п. 3392 Одна из песен любовных клятв, песен-обетов, построенных на противопоставлении чувства образу природы.
“Хоть и силен шум от падающих вод” – “падающие воды” среди гор Цукуба подразумевают воды р. Миногава, название которой передается через иероглифы “мужчина” и “женщина”, символизируя таким образом как бы слияние женского и мужского начала. Два ее истока – верхний, берущий начало у горы женского божества, и нижний – у горы мужского божества, – соединяются вместе и впадают в р. Сакура. Эхо в этих горах создает исключительный грохот, умножая шум вод. Говоря о том, что воды эти исчезают, песня подразумевает, что чувство может тоже исчезнуть, однако девушка, поющая возлюбленному эту песню, обещает, что это никогда не случится.
Пики гор Цукуба прославлены обрядовыми хороводами утагаки и брачными игрищами. Гора воспевается во многих песнях антологии. Песня является, по-видимому, одной из песен, какими обмениваются во время хороводов, недаром она и помещена под рубрикой песен-перекличек. Зачин характерен для народных песен того времени: содержит в себе название места, где появилась песня.
п. 3393 “Всюду стражи на постах стоят…” – Некоторые комментаторы указывают, что во время охоты расставляли в старину стражей. ТЯ отмечает, что Цукуба славилась померанцами и эти места охранялись специальными стражами. Однако, по-видимому, это позднейшее переосмысление песни. То, что гора Цукуба славилась хороводами и брачными игрищами, заставляет думать, что здесь речь идет об обрядовой страже (см. п. 3353, 3354, 3394).
п. 3394 Песня юноши, отправляющегося в путь и огибающего гору Цукуба. Полагают, что упоминание имени в данном случае означает обращение к богам дороги с просьбой хранить возлюбленную (см. п. 3362).
“В одеждах майских…” (“сагоромо”, где “са” “майский”, “горомо” одежда”). Перевод сделан на основе народных песен, где “саотомэ” (девушки, совершающие посадку риса) означают “майские девушки” (“са” – сокр. от “сацуки” “месяц посевов”, “месяц посадки [риса]” или “май”; “отомэ” “девушки”). Все это связано, по-видимому, с обрядами посадки риса, которые сопровождались песнями и играми, – недаром в песне “майские одежды” являются постоянным эпитетом (мк) к горам Цукуба, известным как места: обрядовых хороводов, что дает нам основание раскрыть “мк”: “где в одеждах майских водят хоровод”.
п. 3395 Песня юноши. Похоже, что эта песня, как предыдущая и последующая, связана с брачными играми.
п. 3396 Отмечается как песня юноши, тоскующего в разлуке с любимой. Сравнение любимого и любимой с птицей неоднократно встречается в песнях М. “Улетающая птица”, “летящая птица” в песнях М. часто – любимый, ушедший прочь или недосягаемый в силу разных причин.
п. 3399 Комментируется как песня, обращенная к мужу, собирающемуся в далекий путь. В качестве параллели ТЯ приводит песню из “Кодзики”, где тоже передается просьба не ступать по ракушкам побережья.
На дорогах в Синану строят нынче новые пути – начиная с 12-го месяца 2-го г. Тайхо (702), во время правления императора Момму, по 7-й месяц 6-го г. Вадо (712), правления императрицы Гэммё, около 12 лет продолжалась и была завершена работа по мощению дороги. Эта дорога проходила через две провинции – Мину и Синану.
п. 3400 При каких обстоятельствах была сложена песня, не указано.
п. 3401 Комментируется как песня девушки, провожающей своего возлюбленного в путь.
п. 3402 Рассматривается как песня женщины, проводившей возлюбленного и радующейся его знакам внимания и любви.
Махать рукавом (содэ фуру) – обычный образ в песнях любви и разлуки, символ любовных интимных отношений; перешло из народной песни в классическую поэзию (см. п. 3376).
п. 3403 Песня-клятва провинции Кодзукэ. Сравнением для чувства здесь служит трава, которую усталый странник кладет под голову и которая всегда желанна во время ночлега в полях. В настоящее время некоторые современные комментаторы (ТЯ) модернизируют эту песню, утверждая, что она говорит о тяготах любви, сравнивая их с тяготами странствования. Это происходит потому, что “канаси” – в более позднем значении имеет смысл “печальный”, “горестный”; “оку” значит еще “внутри”, “на сердце”. Однако мы считаем правильным толкование, опирающееся на более древнее значение слов; так “канаси” – на языке песен антологии и вообще в древнем японском языке значит “дорогой сердцу”, “желанный”, ибо и “канасиму” значило в старину не “печалиться”, а “жалеть”, отсюда “любить” (как и в русском фольклоре), и лишь впоследствии получило значение “печалиться”. Древнее значение “оку” – “будущее”, “предстоящее впереди”. Отсюда и иное содержание песни, более характерное для народных песен того периода.