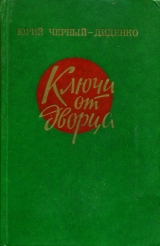
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц)
Пышет жаром локомотив, кропит на бегу брызгами горячего смолистого пота серую щебенку железнодорожного полотна, разгонисто увлекает за собой многосуставчатый, кренящийся на изгибах пути воинский номерной эшелон. Остались позади Яны-Курган, Кзыл-Орда, Аральск, Челкар, Актюбинск – сверкающие высокими окнами белостенные осанистые вокзалы с говорливым прибоем их перронов, остались позади и десятки маленьких сонных станций, сотни саманных полустанков, казалось чудом устоявших перед вихревым громыханием набегающих колес. Необозримые волнистые пески, где взору и зацепиться не за что, – разве что мелькнут на шафранном склоне бархана реденькие кустики саксаула. Эти пески сменились такими же пустынными, скупо, посеребренными полынью солончаками. Одиноко парит в дымчатой сухости неба беркут – долго, ох долго ему искать здесь какую-либо поживу, что неосторожно покинула свою упрятанную под запекшейся коркой такыра прохладную нору.
Но вот еще день-другой пути – и в эту извечную, омертвелую желтизну сочно стали вкрапляться заросшие густым щавелем луговины на берегах мелких речушек и озер, перелески в далеких ложбинах, череда ветел на пыльном тракте, овечьи толоки и кошары и обранные тенистыми садками усадьбы степных совхозов.
И полагалось бы повеселеть лицам тех, кто, облокотившись на закладки дверных проемов, смотрел на исподволь начинавшую оживать и буйствовать щедрым июльским разнотравьем землю. Но очень уж безрадостными, гнетущими были вести, с которыми дежурные и дневальные, выбегавшие на остановках, возвращались в вагоны.
– Только что при мне передавали… Сам слышал… Оставили Новочеркасск, Ростов… Бои под Воронежем, в Цимлянской…
– Эваколетучка прошла… Разговаривал с ребятами… Оттуда все, с юга… Рвется немчура к Волге…
– Танкистам отправление дали… Пропустили впереди нас.
– А ты думал, что тебя пропустят первым?..
– Да ведь и мы не к теще в гости едем.
– Ну, нас пока рассортируют, то да се, а ребятам, может, придется с ходу на передовую… Им приказ прямо в вагонах прочли…
– Двести двадцать седьмой?
– А какой сейчас другой может быть? Крепче, брат, все равно не скажешь… Куда уж дальше!..
И снова размахнулась, простелилась далеко к горизонту степь; теперь все чаще вклинивались в нее поля – и недавно убранные, с маячившими на стерне обмолоченными скирдами, и еще не скошенные – под ветром волнилось отяжелевшее золотистое руно, нетерпеливо ждало людских рук… А не сходили с глаз, неотступно стояли перед ними и другие поля – разметанные, исполосованные вражеским железом, вдавленные в землю колосья, вражеские танки, пылящие на проселках и дорогах к Волге…
Двухосные теплушки, в которых разместили выпускников военно-политического училища, были подцеплены и долго следовали вместе с цистернами горючего, но в Бузулуке теплушки поставили впереди длинного ряда запломбированных вагонов – на каждом из них белела надпись «Для Ленинграда», – и эшелон, получив другой номер, двинулся еще быстрей.
Безостановочный стук колес в иное время бы нагонял дремоту, а сейчас стоило Алексею смежить веки, как накатывались раздумья, снова и снова вспоминались во всем своем суровом, пасмурном облике последние училищные дни. Начало каждого из них неизменно предварялось тревожным и мрачным вступлением – сводкой Информбюро о тяжелых оборонительных боях в междуречье Дона и Волги, о станицах и городах, которые пришлось там оставить, сдать врагу…
Однажды во второй половине дня отменили занятия по расписанию, раздалась команда построиться. Строились раздельно, по ротам, в противоположных сторонах плаца. К первой роте подошел сам начальник училища. Он раскрыл темную кожаную папку, и ветер шевельнул страницы каких-то вложенных в нее документов.
– Оглашаю приказ Верховного Главнокомандующего… Номер двести двадцать семь…
Голос Кострова звучал глухо и хмуро. На четверть часа – полное и тягостное безмолвие. Приказом вводились жесткие меры борьбы с паникерами и нарушителями дисциплины, гневно и решительно осуждались упадочнические настроения, и каждое слово строгим укором обжигало сердце… Со всей неотступной прямотой и властностью Верховный требовал от каждого воина железной стойкости и решимости: «Победа или смерть! Ни шагу назад!»
А на них уже было новенькое обмундирование – не курсантское, а полевое, складки которого угловато топорщились под портупеей, даже не успели разгладиться после армейских цейхгаузов. Накануне они старательно прикололи звездочки к пилоткам и по три кубика на петлицы гимнастерок… И напрасно было мысленно утешать себя тем, что этот укор народа их, только-только одевших воинскую форму, не касается. Да, они, сто двадцать выпускников-политруков, лично не сделали ничего такого, что могло бы умалить, опозорить честь и великий смысл этих рдевших темно-рубиновым огнем знаков, но пока… пока, надо же признаться, и не прибавили к их прежней, давней славе ничего своего… Пока ничего! Это где-то впереди, в будущем, на неразличимых отсюда, неведомых рубежах, где по велению Родины надо встать и стоять насмерть!
На другой день снова построение. Читали приказ о выпуске, а в ушах по-прежнему звучал еще тот, вчерашний, двести двадцать седьмой…
Накануне отъезда заскочил в каптерку. Там стоял на полке продранный, обтертый чемодан, который пропутешествовал из Нагоровки сюда. Еще в первые дни пребывания в училище отдал Рустаму, а тот – приезжавшему к нему отцу брюки, пару верхних рубах, туфли с галошами. Все это было ненужным, лишним. Сейчас переложил в вещмешок из чемодана то немногое, что там осталось. Носки, перчатки, чиненный Валей свитер, ею же сшитые подворотнички.
– Ну вот и все, – встряхнул Алексей опустевший чемодан. Что-то, однако, внутри звякнуло. Раскрыл снова. Из-под газеты вывалилась и лежала на дне цепочка с ключами. Взял их, растерянно соображая, как поступить, привычно ощупал пальцами плоские разнокалиберные зубчики ключей. Один от главного входа Дворца, другой открывал комнату правления и дверь в театральную часть…
– От дома, что ли, товарищ политрук? – полюбопытствовал старшина, впервые именуя его по званию.
– Да нет, служебные, – коротко обронил Алексей и, смутившись оттого, что этот ответ мог удивить еще более, показаться вовсе нелепым и странным, торопливо сунул ключи в вещмешок и вышел.
И все это – казармы, училище, плац, мусульманское кладбище, арыки, каптерка с ее крутым хозяином – теперь так же далеко, нет, по существу, еще даже гораздо дальше, чем Нагоровка. И так же далеко Валя… Но были, остались, не забудутся те великодушно подаренные ему помкомвзводом полчаса, которые, вопреки отсчитывающим новые и новые километры железнодорожным указателям, сделали для него Валю отчетливо памятной, близкой… В тот вечер, увидев ее и пытаясь объяснить свое столь внезапное позднее появление, он вначале понес что-то несуразное, невнятное… Стал было рассказывать о приезде к ним Алексея Толстого, потом без всякой связи заговорил о понадобившихся подворотничках, о скором отъезде. Намеренно говорил негромко, и она, как и тогда, при их первых встречах, внимательно смотрела на его губы, и это как бы давало ему право смотреть, ласкать своим взглядом ее чуть растерянное и обрадованное лицо.
Она захлопотала, хотела готовить чай, но он взял ее за руку, отвел от печурки – слишком мало времени, вынужден считать минуты – и, чувствуя, как они катастрофически убавляются и убавляются, вдруг привлек ее к себе и поцеловал…
Она оторопела, да и он тоже оторопел от своей дерзости.
– Я… я так… просто… не могу, Алеша… – Закрыла лицо руками и неожиданно заплакала. Его это испугало, прямо-таки по-настоящему испугало, что Валя не поверила в искренность такого порыва, приняла его за самоуверенность прожженного сердцееда, за лихую солдатскую бесцеремонность. Он отнял от ее лица руки и стал бережно, нежно целовать их – пальцы, запястья, на которых еще темнели следы ожогов.
– А так можно?
– Все равно… Все равно… Ты же мне ничего не сказал…
– Недосказал. Всего лишь недосказал, – повторил Алексей. Он и в самом деле не произнес те три слова, которые, по его убеждению, должны читаться взглядом во взгляде другого. Но были еще полчаса на другой вечер, когда он эти слова все-таки произнес…
А через три дня – вокзал. Алексей стоял у вагона и ждал. Станционная округа полнилась свистками паровозов, доносившимися из котельной ударами молотов, песней радиорупора, разноязыкими голосами толпившихся на перроне людей. Часто слышалась польская речь. В эти дни отправлялась в Иран армия Андерса. К эшелону, которым уезжали выпускники, уже подцепили паровоз, когда Осташко увидел бегущую по подъездным путям Валю. Снова считанные минуты… Но он, Алексей, все же увез в собой ее прощальный поцелуй и ставший таким дорогим для него адрес: Луначарская, семь, – а ей остался от него неведомый адрес войны…
Эшелон остановился в Куйбышеве. Железнодорожный узел со всей неисчислимостью своих главных и маневровых линий на многие километры был забит воинскими поездами. Теплушки перемежались платформами, с которых ищуще и колко смотрели в небо расчехленные зенитные орудия, спаренные и счетверенные пулеметы. Подстерегающие жала зениток уставились в синеющие меж облаками просветы и с крыш многих станционных зданий. Выпускников предупредили: от эшелона не отходить. С минуты на минуту могут дать отправление. Но стояли уже второй час. Проходили к мостам через Волгу составы, на пульманах которых, словно сама спеленатая смерть, лежали авиабомбы; грузно прогибали рельсы платформы с танками; остро пахнув навозом, проехали один за другим эшелоны кавалерийской дивизии; потянулись старательно прикрытые от любопытствующего глаза брезентом силуэты каких-то загадочных махин. Плыло, нескончаемо плыло на колесах шанцевое имущество, обозное, фураж, понтоны, объемистые свежеструганные ящики с боеприпасами… Все сложное, многотрудное хозяйство войны, ее ударная взъяренная сила, тысячи и тысячи тонн стали, взрывчатки, горючего, которые должны были качнуть чаши заколебавшихся весов, спасительно потянуть вниз ту, единственно нужную, на которой была судьба народа. Вот только поспело бы все это вовремя и к месту…
Алексей с безотчетной пристальностью смотрел на сновавшего между двумя составами, от вагона к вагону, смазчика. В измаранной мазутом косоворотке старичок, прихрамывая, тащил едва ли не пудовую масленку. И этой своей обшарпанной рубахой, и ухватистыми движениями рук, и всклокоченными волосами над вспотевшим морщинистым лбом он напомнил Алексею отца, каким тот был, когда не начальствовал, а работал машинистом. А ведь и от имени этого безымянного смазчика говорил недавний суровый приказ…
Смазчик поравнялся с теплушкой политруков.
– Ждете, сынки? Подзаправлю и вас… Всех своих коней напою… Как это поется – «на позицию дедушка провожает бойцов…» Укатите, не беспокойтесь. Тут в Самаре все равно делать нечего. Буфет закрыт. Лично с моей стороны никаких заминок. А если дадите закурить офицерского, то и тем более.
Простосердечное балагурство и благожелательность старика развеселили всех, Мамраимов первым протянул кисет.
Смазчик наскоро слепил цигарку, пыхнул и, уже отходя, жестом радушного хозяина потянул проволочное кольцо стоявшего неподалеку водоразборного крана.
– А пока освежитесь.
Из широкой трубы с гулом хлынул каскад воды.
– Вот спасибо, папаша, надоумил… – отозвались в ближайших вагонах.
Наземь посыпались красноармейцы. Сбросив гимнастерку, подбежал к крану и Осташко. Он с наслаждением подставлял голову напористо бьющей струе, захватывал и пригоршнями кидал ее на плечи, грудь, а сквозь всплески, сквозь смех прорывалось разноголосое:
– Ух и хороша волжская водица! Силища!..
А уж сквозь водопадный шум доносилось врастяжку зовущее:
– По ва-агон-а-ам!..
И снова по сторонам – поля, степи, березовые рощи, темно-зеленые поймы рек, околицы и дымки селений, разъезды, полустанки… Настежь отодвинуты скользящие на роликах двери вагонов. На каждой, согласно наставлению, внушительный брус, чтобы кто-либо не зазевался, глядя на эту нескончаемую ширь земли, не полетел кубарем под откос. Полетит – не нагонит.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1Все в новинку, все незнакомо, и все будит острое любопытство на кружевных витках узенького лесного проселка, ведущего туда, к передовой. Да полно – к передовой ли? Очень уж мирны и дышат заповедной тишайшей благодатью укромно проглядывающие сквозь листву грибные поляны, орешники и рябинники окрест дороги – все целехонькие, ни одна ветка, ни одна окропленная червонным кисть не надломлена озорной ребячьей рукой. Под стать этой медвежьей глухомани и возница. Хоть на нем и побуревшая солдатская гимнастерка, и пилотка с новенькой военторговской звездочкой, а свою егерскую рыжую бороденку уберег, отстоял… Да и фамилия прямо-таки здешняя – Уремин…
– Вот и вторая рота теперь с комиссаром, – довольно проговорил он. За те несколько километров, которые они проехали, Уремин уже трижды перекладывал в повозке мешки с какими-то крупами, соскакивал к стожкам на обочине, чтобы прихватить сенца, натягивал поровней сползавший брезент. – Да вы устраивайтесь, товарищ комиссар, поудобней, дорога неблизкая.
– Политрук я, – поправил Алексей.
– Комиссар подходящей по-солдатски, – простодушно отверг эту поправку ездовой. – Я-то их помню еще с гражданской. Старик ведь. Потому и к лошадям приставили. Комбат говорит – теперь, мол, при нынешней военной технике тебе с лошадьми сподручней. А в этих гиблых местах, сами видите, вывозит не их техника, а моя… Но, Флейта!..
Уремин неторопливо прихлестнул низкорослую мохнатую лошаденку.
– А чего ж вы кличку такую странную лошади дали? – поинтересовался Алексей.
– Иначе нельзя, товарищ комиссар. Вот она разбежится, раструсится, вы и сами поймете… Это уж точно, Флейта! Есть у нас в хозвзводе еще буланая – Коммуникация. Но что-то заковыристо, не по-конюшенному.
За поворотом прибавился еще один проселок, и дорога раздалась, стала шире. Теперь ехали реденьким лесом. Лишь изредка светились в нем стволы березок, а то больше осина, ольха, высокие купы верболоза. После недавнего дождя все вокруг зеленело броско и резко, и все же чудилось что-то обманчивое, настораживающее в этом почти тропическом буйстве зелени. На густых, с избытком увлажненных травах лежал тот темноватый оттенок, какой свойствен заросшим мочажинам, отавам, топям. Все низинки. И на них мшистые кочки, погнившие пни, а если где-либо и приподнимался песчаный островок, то и его плотно окаймляли камыши, осока, остролист, и в их чащобе легко угадывались, чуялись подтачивающие подножие холма родники. Под стать этим мшарам стелилась и выложенная жердями, залитая грязью дорога. Вода в канавах стояла ядовито-коричневого цвета.
– Это у вас так до самой передовой? – спросил Алексей.
– Непривычно? – засмеялся Уремин. – Сами-то откуда, товарищ комиссар?
– Донбассовец.
– Э-эх, то сторона сухая, веселая. А я рязанский. В наших краях, правда, тоже болот до лешего, но такой прорвы, как тут, видеть не доводилось. Сказано – Северо-Западный фронт. Эта дорожка еще ничего, сносная, «гитарой» шоферы прозвали… Примечаете, как жерди уложены? Струной. Хоть и потряхивает, однако терпимо. А вот «ксилофон» – когда жерди поперек, тот пробирает аж до печенки. А есть еще и «балалайка». Ну, та и совсем не приведи бог. Бренчи, играй на своих кишках камаринскую. Только и утехи, когда подумаешь, что немцу то же самое достается. Осенью да весной мы по пояс в грязище вязнем, а они то же самое… А хочется ж и штыком до них дотянуться… Как, товарищ комиссар, насчет этого, что слышно? Может, чем порадуете?
– Что ж, кажется, соседи, на Калининском фронте, уже дотянулись, – после короткого раздумья, не утерпев, сказал Алексей. Он достал кисет, стал сворачивать цигарку. Повозку трясло, табак просыпался.
– Неужто правда?
– Да, наступают.
– Если так, то и на душе легче. Надо ж хоть чуточку Дону и Кубани помочь, – приоживился Уремин и, увидев, как Алексей завозился с цигаркой, остановил лошадь. – Тпру-у! Так на нашем асфальте не скрутите, товарищ комиссар.
Он тоже стал закуривать.
Новость, которой поделился Алексей с ездовым, была и для него самого единственной отрадой за все эти последние дни. Еще не подтвержденная сводкой Совинформбюро, она, однако, витала вполне правдоподобным слушком в верхах Северо-Западного – в армейских и дивизионных штабах, во фронтовом резерве. Без нее Осташко и вовсе бы помрачнел. Из всего взвода в Москве повезло только Цурикову, Герасименко и Оршакову – по разверстке Главупра направили на юг. На долю остальных достался Калининский, Северо-Западный, а двум даже Заполярье. Позавчера в Починках, где размещался фронтовой резерв, расстался с Мамраимовым. Того направили в какую-то саперную часть. Но оба к тому времени уже питались надеждами на начавшееся наступление калининцев.
– Вот видишь, Алеша, а ты унывал, – ободрял друга Рустам. – Да, может, как раз здесь баню немцам и устроят. Бездействующих фронтов в такую войну нет.
Эх, если б было так!
Лошадь снова тронула, повозка миновала покрытый зеленоватой плесенью огромный валун, втянулись в осинник. И тут внезапно произошло то, в чем поначалу Алексей и не разобрался. Сперва ему показалось, что это сильней, громче застучали на жердях колеса. Но, еще не подняв к небу лица, он увидел, вернее, почувствовал молниеподобно скользнувшую вверху, в воздухе, мышасто-серую тень. Лишь тогда закинул голову. Воровато вынырнув из-за осинника, над дорогой несся остроуглый, с черно-желтой свастикой на крыльях самолет. «Мессершмитт-107», – определил Алексей, мгновенно сопоставляя его очертания о тем по-осиному удлиненным силуэтом, который был изображен на учебных таблицах. Однако, и опознав самолет, он посчитал, что непосредственно им опасность не угрожает. Уремин по-прежнему спокойно сутулился, благодушно поигрывал батожком и совсем незло прикрикнул на лошадь, которая нервно запрядала ушами под этим пронесшимся смерчем:
– Эй, чего дрожишь, пугаешься; чай не волка увидела?!
Но когда «мессершмитт» развернулся где-то за лесом и пошел на второй заход, а затем снова над головой затрещал пулемет, Алексей понял, что летчик охотится именно за ними, за этой одиночной повозкой, которая в редколесье так хорошо видна и которой некуда деваться, негде укрыться среди этих мшистых топей. И не могла не вспомниться степь под Ташкентом, и как они, курсанты, по команде Мараховца «Воздух!» разбегались, рассредоточивались, камнем падали в кюветы.
А кнутик в руке Уремина лениво поигрывал, поплясывал, словно отгонял овода. Алексей принудил себя остаться в повозке. И как же он потом – и в тот день, и в последующие – был благодарен этому ездовому, невозмутимо помахивающему кнутиком. Вот стал бы он, Осташко, хорош, когда бы, памятуя преподанное в приташкентских степях, плюхнулся в грязь. Если бы человек волен был выбирать себе смерть на войне, то, конечно, никто не выбрал бы себе смерть такую глупую – погибнуть, не доезжая до передовой, в первый же день, в первые часы своего комиссарства. Но даже глупую, бессмысленную лучше встретить вот так, как Уремин, – с достоинством и презрением…
Рядом с повозкой, будто под ударом невидимого топора, от жерди отскочила щепа, забелел свежий срез. Но это была уже последняя очередь.
– Хулиганит, дурак, – заметил Уремин, провожая взглядом отдалявшийся за лес самолет. – Им бы хотелось и здесь, как на Дону, навалиться. Только врете, не получится. Сгорите синим огнем.
На изгибе дороги ездовой придержал лошадь. Справа, на увенчанном одинокой сосной пригорке, темнели кресты небольшого деревенского кладбища, но среди них, из-за своей древности кренившихся к земле, желтел и свежий, недавно насыпанный могильный холм.
– Эвон где наш Сергей Михайлович лежит, посматривает с горки, проверяет.
– Сослуживец, земляк?
– Не, из Белоруссии он, кажись, мозырский… Да, однако, всем был как земляк. Так и говорил: для меня, мол, на передке все откуда кто ни есть, а сябры. Правда, и требовать требовал с каждого. Это ж вы на его место и едете.
Осташко соскочил с подводы, прошел к погосту. На сколоченной из шалевок пирамидке – жестяная звездочка, пониже ее табличка с надписью:
Политрук Киселев С. М.
1912—1942
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЮ.
«Почти одногодок», – подумал Алексей. В тонкой черточке между датами уложилась вся беспокойная человеческая жизнь, а ведь большой и красивой была она, коль осталась о ней такая уважительная память.
– И долго он во второй роте был?
– Говорят, с первого дня войны, считайте, с самой границы. Все свою Припять расхваливал, и не довелось больше увидеть, остался тут на Ловати, в Старом Подгурье.
– Это ж совсем недавно? – Осташко приподнял с земли блестевшие патронные гильзы от последнего, прощального салюта.
– Две недели назад. Как раз сушь стояла, и попробовали немцы танки пустить. Все норовят клин сбить, вторая рота для них бельмом на глазу. И ничего у них не вышло. Пустились наутек. А одну машину на нейтралке так и оставили. Сам комиссар ее и подбил. Лезла прямо на командный пункт. Он потом и в контратаку людей поднял, тут его наповал и сразило.
Я вам откровенно скажу, товарищ комиссар, с такими, как Сергей Михайлович, и нынешнего приказа не нужно было бы, – добавил Уремин, когда они уже отъезжали от кладбища.
– Какого приказа?
– Да этого ж самого – двести двадцать седьмого.
– А у вас его тоже читали?
– Как же… По всем взводам…
– Ну и что?
– Правильно заявлено. Иначе сейчас никак нельзя. Надо, надо стеной встать… Или жизнь, или смерть. Или вольным быть, или навек под немецкий сапог, в хомут. Тут уже третьей дорожки нет…
Вдалеке пополз, цепляясь за кустарник, синий дымок. Показались землянки.








