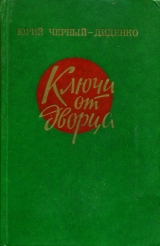
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц)
Никогда, никогда к этому не привыкнуть, чтобы вот так, крадучись, остерегаясь встречных, стараясь быть незаметным, тайком идти по своей земле. Можно свыкнуться с постоянным соседством близкой опасности, и он, Лембик, загодя зная, что она будет, не уклонился, дал свое согласие в горкоме и теперь почти свыкся с ней. Но примириться с тем, что ты не хозяин в собственной хате, немыслимо, не под силу.
Весь день небо над Нагоровкой было обложено снеговыми тучами, и потому завечерело рано. Серый сумеречный свет неприветливо падал сверху, однако комендантский час, о котором оповещали объявления на телефонных столбах и заборах, еще не наступил. Захар Иванович, возвращаясь с заводской колонии, даже придерживал шаг, чтобы оказаться в нужном ему месте, когда уже потемнеет. Из головы все не выходил тот разговор, который он только что вел в одном из домиков, затерявшемся в разбросанном по склонам Вянковской балки поселке. Сперва он слушал заводских ребят, неодобрительно хмурясь. Горячатся. Надо выждать. Но доводы, которые они наперебой выставляли, выглядели веско. Чего ждать? Каждый лишний день их выжидания на руку только немцам, а людям, оставшимся в Нагоровке, надо поднять дух. И так все повесили головы. Тяжело и в глаза друг другу смотреть, хоть на улицу не выходи. Осторожность осторожностью, а подполье не для того оставлено, чтобы в нем закиснуть. Пора и шугануть. И Лембик, пропуская мимо ушей такие запальчивые, несдержанные восклицания, все же пообещал подумать над предложенным…
Тянувшиеся вдоль дороги палисадники заводской колонии кончились, за ними открылся небольшой пустырь. В конце его виднелось старое кладбище. Это на левой стороне шоссейки, а справа вплотную подступали к ней заводские корпуса, вернее, то, что теперь осталось от них: полуобваленные, ощетиненные пиками разорванной арматуры каменные остовы. Только стена построенного шесть лет назад врубового цеха, хотя и чернела от недавнего пожара, все же устояла и нависала прямо над дорогой. Лембик свернул влево к кладбищу и сразу увидел те давние могилы, о которых все нагоровцы одно время забыли и готовы были бы не вспоминать. Но о них напомнили в тридцать девятом году из самого Берлина, когда подписали пакт о ненападении. Сперва велась дипломатическая переписка, потом приехал германский консул, могилы были приведены в порядок, хотя, спрашивается, ради какой милости должна для них, незваных чужеземцев, стать мягким пухом эта украинская земля? Еще чего не хватало! В восемнадцатом против них партизанил, едва на виселицу не попал, а теперь уж не отдавать ли им почести? Даже думать об этом нестерпимо. Но все же на вырубленных из дикого серого камня крестах расправил тогда крылья одноглавый орел, а сейчас немцы, видать, готовились и еще к какой-то погребальной церемонии. Вероятно, собирались перехоронить в общую могилу тех, кого двадцать лет назад подстерегла партизанская пуля. Зияла большая свежая яма… «Побольше, побольше копали бы, чтобы в нее и нынешних!» – мысленно воскликнул Лембик. Неподалеку от ямы лежал наготове саженный крест из отполированного гранита, желтели кучи песка, чтобы посыпать дорожки, и звенья новой ограды… Лембик снова, уже издали, окинул пристальным взглядом поднимавшуюся над шоссейкой стену врубового цеха и, чему-то усмехнувшись, зашагал дальше, миновал перекресток, пошел Ленинградской улицей. Она упиралась в станционные пути, и эта дорога – через железнодорожную насыпь – была бы короче всего, но выбрать ее Лембик не решился: на станции могли встретиться патрули. Он пробрался проулком к отвалам старого террикона и стал подниматься по пересекавшей его тропинке. Издали увидел, что кто-то шел навстречу, и плотней надвинул шапку, опустил голову. Когда расходились по тропинке, успел заметить только добротные начищенные сапоги, и они уже остались позади, но не тут-то было.
– Захар Иванович, неужто ты? – окликнул его прохожий.
Лембик не остановился.
– Иваныч, да это ж я… Серебрянский… Федор… Что ж ты так?
– Обознался, парень, – буркнул Лембик, не поворачивая головы. Спиной он почувствовал удивленный взгляд, но продолжал идти и облегченно вздохнул лишь тогда, когда услышал отдалявшиеся шаги.
Лембик серчал на себя. Прежде всего расстроил его тот факт, что он легко оказался узнанным. Не помогла отпущенная борода, не помогли ни рваный капелюх, ни замусоленная, из чертовой кожи куртка, в которой раньше он постеснялся бы выйти не то что на улицу, но даже к сараю колоть дрова. Голос Серебрянского он тоже узнал, хотя близко знакомы они не были. Просто когда заходил к Осташко, то не раз видел копавшегося во дворе соседа. Ничего ни хорошего, ни плохого сказать о нем не мог. Но уже одно то, что Серебрянский – молодой, здоровый верзила – остался в Нагоровке и безбоязненно шалается по ее улицам, настораживало. И хотя не стал бы Захар Иванович пренебрегать ни единой живой душой, которая могла бы оказаться полезной для его дела, однако вот так стремглав, с ходу встретиться и заговорить не имел права. Не к нему должны были присматриваться и опознавать, а он обязан был все видеть, слышать, находить нужных ему, сто́ящих людей.
Спустившись с отвала, он только тут, вдалеке от станции, перешел железнодорожную насыпь и свернул к домикам под красной черепицей, где жили станционные служащие. Миновал сарайчики с прикладками сена для коз и кроликов, задворками пробрался в парк и глухими темными дорожками зимнего бесприютного парка направился к новому месту своего обитания – поселку Резервуар. Этот заброшенный медвежий угол как нельзя лучше подходил сейчас Лембику. Режущее слух, нелепое и странное название разбросанного по оврагам и балкам небольшого поселка сохранялось за ним еще с первой пятилетки. Как-то в осеннюю распутицу везли лошадьми на новый, строившийся тогда химзавод импортный резервуар… Лошади не смогли вытащить на взгорье погруженную на двое дрог железную махину, и она скатилась в гиблые хляби. Здесь и оставили ее до весны. А чтоб ценное оборудование сохранилось в целости, приставили к нему сторожа, построив человеку халабуду. Халабуда осталась и после того, как резервуар увезли, а рядом с ней вскоре выросла еще такая же; в балке, на дне которой протекал веселый ручеек, начали строиться и другие нагоровцы. Незадолго до войны в местной газете стали появляться заметки, говорили и на сессиях горсовета, что к поселку надо проложить дорогу, подвести электричество, но не успели, как не успели и переименовать его. Резервуар, и все… Во Дворец отсюда редко кто ходил, ближе был клуб соседней шахты. Захара Ивановича здесь мало кто знал, и это его устраивало.
Он постучал в окошко хаты.
– Ты, Захар?
– Я, Варвара.
В комнате, что служила и кухней, тлела пунцовая горошина стоявшей на столе шахтерской лампы. Варвара припустила фитиль – чуть посветлело. Захар Иванович, оставив в коридоре заляпанные грязью сапоги, присел у стола.
Варвара нагнулась к духовке, вытащила чугунок с картошкой.
– Захолодала, тебя дожидаючи.
– Не бойся, книгу жалоб не потребую. Сама-то ела?
– Хозяек о таком не спрашивают.
Варвара ждала, что ее новый постоялец сам расскажет о том главном, чего страшилась и хотела знать она, по болезни не ходившая дальше колодца. Но Захар Иванович, изголодавшись, жадно припал к чугунку, и Варвара выждала, пока он хоть немного подзакусит, потом скорбно спросила:
– Ну и как там наша Нагоровка под немцем?
Лембик еще рьяней и свирепей заработал челюстями. Лишь когда ложка заскребла по донышку, огладил, очесал бороду, к которой все еще не мог привыкнуть, заговорил:
– Да уж заразбойничали… Комендантский час, патрули… Пока войска не останавливаются, проезжают на Енакиево, Дебальцево, но уже появились и такие, что начинают шнырять и на шахтах и на заводе, взламывают двери, где заперты, приставляют часовых к тому, что не вывезено.
– А как же тот парнишка, что стрелял с Дворца, хоть дали похоронить?
Захар Иванович почернел лицом.
– Увезли. Боятся, видно, чтоб народ знал его святую могилу. – Помолчал, затем добавил: – А в самом Дворце, мабуть, хотят разместиться… Тоже поставили часового. Флаг повесили свой, со свастикой. Издали глянешь – вроде наш, красный, а ближе подойдешь – посередке паук-тарантул. В общем, Варвара, не скоро тебе придется свои песни завести…
– Ох, да разве ж теперь об этом забота? О чем вспомнил?! Я и в зеркале себя не узнаю… Да и ты посмотрел бы на себя…
– Еще чего скажи! Стал бы собой сейчас любоваться, – горько усмехнулся Захар Иванович.
Нет, видать, он еще не так оброс, если его легко узнают, как вот только что. Поспешил, поспешил выйти, надо было повременить. Но тут же взглянул на табель-календарь, вырезанный Варварой из журнала и прибитый к стенке, и не стал больше в том упрекать себя. Не мог, не мог сидеть в канун этих дней сложа руки. В черном будничном столбике улыбчиво выделялись два красных числа – 7 и 8 ноября, – и в памяти возникало все, что было с ними привычно связано. Задолго до этих дней семья переставала видеть Захара Ивановича. С рассвета до полуночи завхоз пропадал во Дворце. Торжественное заседание… Семейный вечер забойщиков… Концерты… Праздничный бал молодежи… И хотя Захар Иванович по своей должности делил все эти хлопоты с Алексеем, однако той части, которая выпадала на его завхозовскую долю, с избытком хватило, чтобы к концу дня еле волочить ноги. Выкроить из сметы и купить, а чаще достать, выклянчить, выколотить… Лампочки для иллюминации. Самовары в Большую гостиную, краски художникам… Подарки на детские утренники… Реквизит для концертов… Костюмы, цветы, ноты, посуда, кумач… Измотавшись, он сидел потом в углу Большой гостиной и под нестихающий веселый говор шахтеров блаженно дремал над чашкой остывшего чая… Сейчас все это вспоминалось и впрямь как оборванный сон.
Единственно, чем был отмечен праздник в домике Варвары, так это затирухой, которую она сварила из остатков муки, да поставленной на стол бутылью прошлогодней смородиновой наливки.
После праздников землю притрусило первым легким снежком, и поселок даже покрасивел. Но красота эта не могла радовать в такие времена.
Захар Иванович встал задолго до рассвета и куда-то ушел. Через поселок долго тянулся какой-то немецкий обоз. Тяжело груженные, глухо постукивающие на кочках фуры. Обмерзшие солдаты с поднятыми воротниками. «Словно паршивые цуцики», – подумала Варвара, глядя на них из окна. Боялась, что кто-нибудь заскочит и начнет шебуршить в доме. Но не задержались, очевидно, спешили на станцию к погрузке.
А часов в семь заявился Захар Иванович, настуженный, посиневший, но так зашумел и затопал уже в сенях, как шумят и топают, только хватив лишнего, навеселе.
– Что это ты будто с масленой? – удивилась Варвара, присматриваясь. – Неужели и в самом деле выпивший?
– А вот и ты сейчас захмелеешь, – самоуверенно пообещал Лембик. Он присел у печки, потер озябшие руки. – Парад на Красной площади позавчера был. Соображаешь, что это и к чему?
Варвара посмотрела на Захара Ивановича как на рехнувшегося.
– Кто это над тобой вздумал подшутить? До этого ли сейчас Москве? Какой такой парад может быть?
– А вот такой, как всегда… И раньше он нашим врагам поперек горла, а теперешний и подавно. И Сталин, как всегда, с Мавзолея выступил… Как всегда! Так что пусть насчет Москвы не трубят… Пусть о своей шкуре подумают… В восемнадцатом мы ее дырявили и сейчас не промахнемся. Чуешь, Варвара? Не промахнемся и здесь, в Нагоровке!
Весь смысл этих дважды повторенных слов дошел до Варвары лишь спустя день, когда вся Нагоровка, от Алексеевки до Резервуара, заговорила о том, что произошло на старом заводском кладбище. А там случилось вот что. Немцы и впрямь задумали торжественно почествовать своих предшественников – кайзеровских солдат, нашедших возмездие на донецкой земле. Был и оркестр, и рота СД, и чернели в строю мундиры эсэсовцев и разного начальства. Но когда оркестр грянул марш и все торжественно вытянулись, вскинули руки в фашистском приветствии, вдруг раздался мощный глухой взрыв, и многосаженная, тысячетонная стена врубового цеха дрогнула, качнулась и плотной могильной плитой накрыла всех, кто выстроился на шоссе.
11…Алексея разбудил обвальный грохот, гул. Оторопело вскочил с койки. В окнах еще совершенно темно, на тумбочке мигала лампа дневального, а все с лихорадочной поспешностью одеваются. Еще не зная, в чем дело, схватил и он с табурета штаны, гимнастерку. Быстрей, быстрей!
– Тревога! – наконец врезается в гул кем-то выкрикнутое слово.
В дверях стоял Мараховец и что-то держал в руке. А, часы! Учебная тревога или настоящая? Может быть, действительно случилось что-то неожиданное, смертельно опасное и они понадобились неотложно, сейчас? Может, где-то, на одном из участков обнажившегося фронта, уже не столько нужны политруки рот, сколько, пусть еще и не обученные, роты бойцов? И их на станцию, в вагоны срочного эшелона? Чтобы бросить в прорыв, закрыть образовавшуюся брешь?
Но все эти мысли нахлынули чуть позже, на ходу, а сейчас не медлить, сосредоточиться на одном – быстрей одеться. Черт с ними, с пуговицами! Быстрей зашнуровать ботинки и справиться, хоть как-нибудь справиться с этими треклятыми, путающимися в руках обмотками.
Алексей затянул ремень, выхватил из пирамиды винтовку, побежал к дверям, миновал поглядывающего на часы Мараховца. Пусть не первый, но и не последний: ишь сколько еще позади него топают ботинками, перегоняют друг друга…
Только когда встал в равнявшийся на плацу строи, подумал о том, что, если бы и впрямь направлялись на станцию, взяли бы вещевые мешки… Однако кто знает, – возможно, старшины просто погрузят их вместе со всем содержимым своих каптерок и подвезут к эшелону?
Рядом зябко вздрагивал Мамраимов.
– И скажи, какой глупый человек, даже в Ташкенте трясется…
– Ты кого ругаешь, Рустам?
– Самого себя.
Но и Алексея била дрожь от волнения, от холода, резко и внезапно сменившего ночное тепло согретой постели.
Вышли за ворота. Впервые за эти два месяца Алексей шагал по городской улице. Но плотный предрассветный туман мешал видеть что-либо по сторонам, только слева по молочно-розовым просветам угадывались окна госпиталя – там не спали и сейчас. А затем роты втянулись в ущелья неотличимых друг от друга дувалов, и глазу вовсе не на чем было остановиться в этой наполненной темно-серой мглой теснине. Хлюпала под ногами реденькая жижица размытой дороги, сбоку слышались негромкие команды взводных – подтянись, не отставай, не сбивайся, – отдалялись, истончались паровозные гудки. Нет, идут не на станцию.
Колонна в своем быстром, но мерном движении слегка раскачивалась: влево – вправо, влево – вправо. Алексей шел в середине колонны и, чувствуя это волнообразное, прибойное раскачивание сотен людей, про себя заметил, что поддаваться ему приятно, он мысленно даже посочувствовал Мараховцу, который хотя и шагал в ногу со всеми, но один, по обочине, как и другие командиры. А вот так, в колонне, куда легче – не устаешь.
– Прибавить шаг! Веселей взмах руки!
Шум, топот сильнее – га-ах, га-ах! А через несколько минут новая команда:
– Еще прибавить!
Теперь уже не до того, чтобы четко отбивать шаг, надо просто поспеть за впереди идущими, и напряжение растет, учащается дыхание. Мамраимов сбивается с ноги, но пристроиться к остальным уже невозможно, они и сами идут, а вернее – бегут, вразнобой, и гулко колотится сердце, начинаешь сомневаться в себе, в своей способности выдержать такой темп.
Они уже за городом. Куда девалась бросавшая в дрожь предутренняя знобкая сырость! Все разгорячились, жарко лицам, рты жадно хватают свежий воздух, но он словно рвется на клочки, и все они мимо губ, мимо губ. Проснувшийся на просторах степи ветер всклубил туман, покатил его в далекие долины предгорья. Рассветало. Широкое шоссе наполнилось жизнью. Пронеслись военные, затянутые хлопающим брезентом грузовики, проскрипели арбы с исполинскими, как шкивы на копрах, колесами. По асфальту постукивали копытцами ишачки, на которых старики-дехкане спешили в город. У одного из переметной сумы торчали ярко-оранжевые горловины кувшинов с молоком, другой придерживал перед собой домотканый полосатый мешок с тыквами, а кто просто вез вязанки арчи, без которой не обойтись в эти холодные военные дни рабочему Ташкенту. Встречные почтительно сворачивали с дороги, останавливались, долго смотрели вслед торопливо шагавшей колонне.
Впереди на шоссе зачернела съехавшая в кювет старая эмка. Около нее стоял Костров. Батальон остановился. Полковой комиссар подозвал командиров. О чем разговаривали – не слышно, но по лицам видно, что довольны. В голове колонны раздалась команда разойтись.
И лишь когда строй распался, Алексей, будто внезапно лишенный опоры, почувствовал, как неимоверно он устал. Горели подошвы ног, отяжелевшая шинель тянула к земле. Поставил винтовку в козлы, выбрал сухой пригорок и вначале, как и все, присел, потом, не выдержав, откинулся на спину. К этому времени чуть ли не на полнеба выметнулось солнце; ранее упрятанное за синевшие на горизонте горы, оно теперь пригревало совсем не по-зимнему.
Курсанты второго взвода сидели неподалеку, на бровке кювета, и оттуда доносился голос Евсепяна:
– Ну что, узнали марш-бросок? Ничего, ничего, полезно. А как приходится на фронте? Если с марша да прямо в бой? И такое ведь бывает… А здесь-то что, быстро-быстро назад в казарму да за кашу с маслом…
– Ох, товарищ лейтенант, каша кашей, а если бы еще и бешбармак из молодого барашка…
– Видите, о чем вы, Мамраимов, размечтались? А про пайку окопных сухарей слышали, товарищ курсант? Где ваша совесть? И вы еще в такое время смеетесь? Стыдно!..
Алексей расстегнул воротник шинели, закрыл глаза, блаженно подставляя солнцу лицо, шею. Усталость не прошла, но она не угнетала, а даже веселила. Пусть и крохотное испытание, но все же он его выдержал ради того главного, большого, что где-то впереди.
– Товарищ Осташко, а вот так не надо, – вдруг послышался над ним мягко укоряющий голос, – сейчас полежать хорошо, а потом чирьев не оберетесь… Земля-то весенняя. Лучше чуток поразмяться, походить…
Герасименко!.. Алексей благодарно улыбнулся, встал.
Эмка развернулась, помчалась в город. Курсанты разбирали поставленные в козлы винтовки, подтягивались к шоссе.
После этого ночного броска, которому Оршаков посвятил развернувшийся едва ли не на весь коридор номер стенгазеты, выходы за город последовали один за другим. Занимались в степи на солончаковых такырах, плотно сбитая земля которых не поддавалась саперной лопате, и кровянились ладони, пока выроешь хотя бы неглубокую ячейку для стрельбы лежа.
– Глубже, глубже! Вы думаете, что в Крыму на Сапун-горе земля мягче?
Ох, лучше бы Евсепян не напоминал о Крыме. Там продолжал держаться, не сдавался Севастополь, и они согласны вырыть на такыре целый котлован, если бы это помогло севастопольцам.
Занимались и на старом мусульманском кладбище, по-пластунски переползали между невысокими могильными холмами, отрабатывали перебежки, прыжки через изгороди. Часто выходили на Дикое поле, пустырь, протянувшийся за текстильной фабрикой, густо пересеченный арыками, заросший джантаком – верблюжьей колючкой, и акджусаном – белой древовидной полынью, терпкий запах которой волнующе напоминал Алексею о донецкой степи. Здесь упились ходить но азимуту, вести разведывательный поиск, преодолевать водные преграды.
– Прыгать! – разгоряченно, азартно кричал Мараховец, когда курсанты, поднявшись с рубежа атаки, подбегали к глубокому арыку и останавливались на его обрывистом берегу. Каждый быстрым взглядом прикидывал ширину канала… Метра два с лишним… Нет, не под силу…
– Приказываю прыгать, – взъяренно повторял Мараховец.
Первыми прыгнули Цуриков и Алексей, оба длинноногие. Но и они только скользнули подошвами ботинок по травянистому склону противоположного берега, уцепились за кусты, с трудом вылезли на ту сторону.
– Мамраимов! Оршаков! Фикслер! – подгонял взводный курсантов, топтавшихся перед арыком.
Фикслер нерешительно остановился и что-то забормотал.
– Курсант Фикслер, что вы там сочиняете себе под нос? Повторите!..
– Это Петрарка, товарищ лейтенант… Канцоны о радости мщения.
– Что за Петрарка?
– Прекрасный поэт Италии… Эпоха Возрождения…
– Прекрасный! Вот встретитесь!.. Полюбуетесь!
– Думаю, что для меня такая встреча не за горами…
– Хватит болтать… Прыгайте!..
Фикслер тяжело плюхнулся в воду, зашлепал вброд.
– Рассыпаться цепью… Вперед, вперед! Ориентир – одиночное дерево справа, – не замолкал голос Мараховца. Сам он перелетел арык удивительно легко, этаким мячиком, без всякого разгона. Живой укор всему взводу…
Одиночное дерево – карагач – стояло на песчаном холме. Там предстояло окопаться, с ходу занять круговую оборону. Алексей бежал рядом с Фикслером. По ногам хлестал джантак, в ботинках хлюпало, мокрая одежда облепила заледеневшее тело – арык питался таявшими снегами гор, – и только бег, движение могли вернуть тепло…
Тяжелей всего приходилось Фикслеру. Тучный, неповоротливый, он, когда бежал, учащенно, прерывисто дышал, чернявое лицо его покрывалось росинками пота. Но оказалось, что он предугадал свою судьбу… На одном из полевых занятий прибежал посыльный и передал приказ: Фикслеру немедленно явиться к начальнику училища.
Когда спустя несколько часов рота вернулась в свое расположение, Фикслер уже ходил в новеньком офицерском обмундировании – его досрочно отзывали в распоряжение Главупра. Фронту нужны были знающие итальянский язык.
– О великий Петрарка, я и здесь почувствовал твою мудрую, великодушную руку… Но как прикажешь ты мне разговаривать с твоими неразумными потомками, что обрекли себя на участь сателлитов? «Ужель вы не проучены уроком баварских злых предательств, что дразнят смерть, топыря пальцы вражьи? С утра до третьей стражи подумайте о жребии своем!..»
– В самом деле на фронт? – спросил Алексей.
– Даже знаю на какой. На Южный… Можешь позавидовать – твои края… Представляешь допрос? Назовите, какие части дислоцированы в Нагоровке, кто ими командует? Кто размещается в доме, где ранее проживал Алексей Осташко? Могу тебе прислать точные сведения…
– Не бахвалься… Думаешь, что мы будем дожидаться сложа руки до самой зимы?..
– Не желаю вам этой участи, но все возможно…
Фикслер был в приподнятом настроении, всеми своими мыслями он уже находился там, на фронте. Да, ему можно было позавидовать. Для него переход от Петрарки к будням войны оказался простым, естественным…
Не раз после занятий Алексей и себе приказывал: проще, проще! Надо огрубеть. Да, вот то, чего надо поскорей достигнуть: огрубеть! Именно этого от него добивалась, требовала война. Отрешиться, как от никчемной обузы, от всего лишнего, безжалостно выжечь из души любые поблажки себе, снисходительность, уступчивость. Сейчас с неприязнью вспоминалось, что всего за месяц до войны, когда в оранжерее парка высаживали цветочную рассаду, он вложил столько сил и души, чтобы достать семена гладиолусов, канн, пионов, и сам увлеченно подбирал их сорта, заботясь о красивых и разных оттенках. Цветы нужны были парку, школам, новобрачным; цветами встречали у рудничного ствола шахтеров, перевыполнявших план… А ведь оранжереей по-стариковски мог заняться и Лембик, а он, Алексей, уже тогда должен был готовить себя к другому… Во всяком случае, чаще заглядывать в ту комнатушку – ее выделили в подвале, – где хозяйничали осоавиахимовцы… Теперь надо нагонять упущенное… И по утрам, бреясь в умывалке и поглядывая в зеркальце, Алексей был доволен, замечая, как он изменился. Лицо стало худощавей, энергичней, собранней. Порыжевшие на солнце брови и ресницы. Крепкий, темнивший кожу загар.








