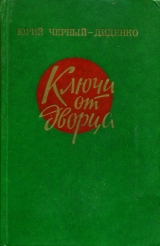
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц)
В первые секунды пробуждения, еще в полусне, Алексею почудилось, что это загрохотали под высокими сводами казармы сапоги курсантов и катки передвигаемых по каменным плитам станковых пулеметов; возможно, что и приснилось ему в остаток ночи училище, но открыл глаза и успел увидеть натягивающего на ходу гимнастерку Борисова и веснушчатого связиста в углу, немо раскрывшего рот, а что именно он кричал, не расслышать – раздался новый оглушительный взрыв где-то неподалеку, и волна воздуха сорвала плащ-палатку, которой завешивали двери. Алексей схватил автомат и выскочил наружу. Сверху падали комья земли, горло перехватило гарью, нарастающий из поднебесья свист бомбы заставил прижаться к стенке окопа. В просветах повисшего над бруствером дыма мелькнул выходивший из пике самолет, а другой, невидимый, заново нагнетал резкий, воющий зык. Близко зачастили, захлопали зенитки.
Пригибаясь, Алексей побежал по траншее на левое крыло роты, как они ранее условились с Борисовым… «В случае чего…» Там взвод Запольского, взвод Чеусова. На изгибе окопа первого встретил Фомина, командира отделения.
– Люди целы?
– Погремело, да пока не тронуло никого, товарищ политрук… Теперь будем ждать самих фрицев. Как тогда…
Алексей выглянул в амбразуру. Приподнимавшееся за спиной солнце кидало на безлюдное поле темно-палевый оттенок, никакого движения у немецких окопов еще не было. И это внезапное полное затишье, что сменило встряхнувшие леса и степь раскаты авиационного налета, нависло над округой, готовое вот-вот сорваться каменной глыбой. Вдалеке послышался орудийный залп. Первые снаряды прошелестели над головой и легли где-то позади. А тот, беззвучный, что притаенно нес в себе неотвратимую опасность, ударил почти в бруствер, затемнил небо, зазудел раскалывающимся на мириады частиц железом… Дым рассеялся, и прямо перед Алексеем проглянуло неестественно белое лицо Фомина, его неподвижные, замершие в муке глаза, и вдруг он словно переломился, осел под ноги.
– Фомин! Фомин!
Сержант упал на бок, на губах запузырилась и хлынула наземь кровь.
– Санитар!
Алексей наклонился, быстро ощупал грудь, плечи, живот Фомина, рукам стало горячо… Увидел, что обе они в крови и кровь эта лилась из разорванной ниже кармана гимнастерки, стекала по ней наземь. Санитар был уже ни к чему. И прежде чем подняться, какие-то короткие секунды оцепенело глядя, как кровь впитывается и навсегда уходит в рыхлую зернистую землю, Алексей понял, что все его прежние волнения и озабоченности были канувшей в прошлое малостью перед тем, что ему сейчас предстояло делать.
Нанеся по позициям батальона огневой удар, немцы поднялись в атаку. То, что издали в утренней мгле можно было принять за колодезные срубы, оставшиеся в разоренной деревне, или за прикладки торфа, вдруг сорвалось с места, двинулось вперед. Танки! По-утиному заваливаясь на попадавшихся воронках, они торопились быстрее проскочить пристрелянные квадраты ничейной земли. И снова нависло безмолвие, в котором только-только начинал просачиваться отдаленный рокот моторов.
– Кажется, легкие, Т-1, – сказал Алексей, всматриваясь в очертания приближающихся машин. Он подошел к Рокину, и тот, при всей своей неразговорчивости и медлительности, на этот раз откликнулся поспешно.
– Легкие, товарищ политрук, – подтвердил он, как бы и в ином, обнадеживающем смысле: легко, мол, и побьем.
– Ты прими отделение на себя, Рокин.
– А Фомин?
– Убит.
На потемневшем лице Рокина, казалось, еще резче выступили скулы, губы дрогнули, он хотел было что-то спросить, но не спросил, отвернулся, и лишь минутой спустя, когда Алексей уже отходил, послышался его голос:
– Аксюта, Сафонов, слышь? Теперь стрелять по моей команде.
Танки, не сбавляя скорости, скучились в два набегающих потока, очевидно придерживаясь заранее очищенных от мин проходов, и затем снова стали развертываться фронтально, широким веером – теперь можно было примерно определить, какие именно из них направлялись сюда, к окопам второй роты.
– Один, два, три, четыре… – повышая в нарастающем шуме голос, стал было считать Запольский.
– Это все наши, – выкрикнул Алексей, и Запольский понял его правильно: не кому-нибудь другому, а их роте выпало схватиться с ними.
– Да, прут прямо на нас… Только что ж сорокапятки молчат, поперебивало их?
– Там и кроме сорокапяток кое-что есть… – подбодрил и себя, и командира взвода Алексей, хотя Запольский, казалось, и не нуждался в таком подбадривании. Куда девался его анемичный вид! В нетерпении распрямился, изготовился, плотно уперся локтями в берму перед лежащим на ней автоматом, лицо по-мальчишески раскраснелось. И только по тому, как он, подобно Рокину, очень уж поспешно откликнулся на голос подошедшего Осташко, можно было догадаться, что появление политрука его обрадовало, ободрило.
А уже был слышен и лязг гусениц, затукали крупнокалиберные пулеметы танков. И хотя их очереди на подскоках машин были бесприцельными, именно они оборвали выжидающее безмолвие там, позади окопов роты. Почти одновременный залп сорокапяток и орудий артполка – тех, что накануне были подтянуты к передовой, – вздыбил стену разрывов, и, когда эта стена дрогнула, стала опадать, из просветов вырвались уже не шесть, а четыре машины. Две стальные по инерции еще с минуту двигались уже неуправляемо, наискосок поля, оставляя позади перебитые траки… Кто выстрелил в подставленный борт одной из них, Осташко не заметил, кажется, это был Вдовин, который с противотанковым ружьем находился в своей чуть выдвинутой вперед ячейке. Бронебойная пуля пробила бак с горючим, и вслед за показавшимся над кормой смолистым лоскутком вырвались, заклубились черные широкие полотнища.
Лихорадочно прикидывая оставшееся до танков расстояние и думая, дойдет ли дело до гранат, до горючки, или танки будут остановлены артиллеристами, Осташко стрелял по бегущим за танками немцам. Остановить, отсечь бы их… Вывороченные близким разрывом снаряда комья земли мешали обзору. Алексей передвинулся левей и оказался рядом с каким-то красноармейцем, который тоже стрелял из автомата, при каждой очереди что-то выкрикивая. Потом к этому красноармейцу подбежал Браточкин.
– Слышь ты, йодом мазанный, мигом патроны тащи, а тут я сам управлюсь.
Красноармеец повернулся – это был Петруня – и ходом сообщения побежал к пункту боепитания. Старшина, примащиваясь к амбразуре, довольно грубо потеснил Алексея, но потом узнал его, крикнул:
– Отобьем, товарищ политрук, ей-богу, сейчас отобьем сволочей… Вот только Чеусова убило… И двух ранило…
«Убит Чеусов… Нет Фомина и нет Чеусова… И раненые… А потери на правом фланге?.. Там, где Борисов?.. Как там?» – мысли разбежались, осознать происшедшее в эту минуту было невозможно. И все же он чувствовал, что какого-либо ощутимого перевеса немцы пока не добились, что оборона не поддалась. Горели уже три танка, эти были действительно Т-1, легко уязвимые и для полковых орудий, и для бутылок с горючей смесью… Но то ли Алексей с Рокиным ошиблись, приняв и остальные машины за Т-1, то ли немцы вызвали подмогу, но Алексей увидел эту не замеченную ранее махину лишь тогда, когда она была всего в десяти – пятнадцати шагах от окопа, увидел ее круто взнесенное на подскоке заляпанное грязью брюхо, увидел гусеницы, обволоченные глиной и запутавшимися стеблями… Все, что он прилежно учил в Ташкенте, читал в газете и разных солдатских памятках – бить по смотровым щелям и приборам наблюдения, целиться связкой гранат в ведущие колеса или в моторную часть, – все в эти секунды стало уже ни к чему: поздно… Все же он выхватил из углубления в стенке окопа бутылку с КС, но, если бы даже и успел размахнуться, все равно туда, куда следовало ее метнуть, не смог бы…
– Ложись! – завопил он Браточкину, для которого появление в такой близости танка тоже оказалось внезапным. И, падая на дно окопа, защищая телом от обрушившейся земли бутылку с самовоспламеняющейся жидкостью, он подумал о том, что надо мгновенно избавиться от этой адской, обугливающей все живое и неживое смеси… Он сжался, скорчился в той тесной, черной пустоте, что осталась ему, когда танк навалился на окоп, и уже задыхался, но тут в лицо благодетельно хлынул свет, воздух, Алексей сразу вскочил, судорожным взмахом руки бросил бутылку назад, туда, в смрадный чад, что потянулся за машиной.
Оглохший, с отяжелевшим телом и головой, разламывающейся от боли, Алексей прислонился к стене, приходя в себя.
– Драпанули, выродки, бегут, смотрите!.. – подергивая плечами, чтобы стряхнуть с себя землю, поднялся и закричал Браточкин. Он обернулся назад, где над сползшим по откосу и невидимым отсюда немецким танком курились витки дыма. – Это ж вы его, товарищ политрук…
– А черт его знает! – с неподдельным, странным для самого себя равнодушием вырвалось у Осташко: он ли в самом деле попал брошенной бутылкой и остановил танк, или, скорее всего, подбили его укрытые в кустарнике артиллеристы – какая разница. Главное, получилось здорово!.. Здорово получилось, что вот он, Алексей, может видеть, как бегут по степи в свои окопы немцы, может видеть темнеющие в траве трупы фашистов и горящие танки, здорово получилось, что врагу ничего в этот день не удалось, а им – Борисову, Рокину, Запольскому, Петруне, ему, Осташко, – удалось! Три дня назад, когда в роте проходило партийное собрание, почти все, кто выступал, говорили об одном: устоять! Ни шагу назад! Биться насмерть! А в это, начавшееся с бомбежки утро ни один из таких возгласов не прозвучал. Но были, пусть не произнесенные, но где-то внутри бережно хранимые, эти высокие, важные для каждого думы.
Алексей проверил автомат – не засорился ли.
Защелкал затвором и Браточкин.
– Ат, дьявол побери, кажись, мой-то забился, – вскинул старшина виноватые глаза на Осташко и испуганно задержал взгляд.
– Товарищ политрук, вы же в крови. И гимнастерка, и руки… Ранены?
Алексей осмотрелся – на гимнастерке темнело пятно, в засохшей сукровице руки, вспомнил:
– Это Фомин.
И, вспомнив о Фомине, вспомнил тут же о принесенной Браточкиным вести, что погиб Чеусов, что есть в его взводе и другие потери, спохватился, заспешил туда.
Предпринятая немцами еще одна попытка сбить выступ, который оборонял батальон и на острие которого находилась вторая рота, стала последней в эту предосеннюю пору. В этот же день к вечеру небо затянуло тучами, заморосил тягучий, нудный, предвещающий долгое ненастье дождь. Только недавнее напряжение боя и разгоряченность им, пожалуй, примиряли с этой мокрой пеленой, опустившейся на землю, – она сперва казалась даже успокоительной, желанной.
Похоронили убитых. Чеусова, Фомина и Салтиева, красноармейца из первого взвода, погибшего в рукопашной схватке, когда немцы на правом фланге все же проникли в окопы роты. Хоронили на том же старом деревенском погосте. Проводить товарищей в последний путь смогли немногие – после понесенных потерь каждый человек на передовой был на счету.
Осташко и Запольский подняли пистолеты, прогремели выстрелы прощального салюта.
Вернулись в роту, когда уже стемнело. Алексей сел писать политдонесение. Борисов, пристроившись на нарах, пил чай. С какой-то яростью, будто продолжая переживать ход боя, откусывал сахар, так же яростно прихлебывал из жестяной кружки кипяток и нет-нет да и подсказывал, кого из красноармейцев следует назвать как отличившегося.
– Гайнурина не забудь, он своим ручным прижал лягушатников так, что они головы не подняли. Две огневых позиции сменил, шустрый.
Борисов прислушался к голосам у входа в землянку, позвал:
– Уремин, это ты скрипишь? Зайди. Вот тебе и еще один герой, выручил меня… Немец уже было замахнулся гранатой, а старик упредил его, снял своей трехлинейкой.
В землянку вошел Уремин, остановился в своей мокрой, побуревшей шинели и грязных сапогах у входа.
– Звали, товарищ капитан?
– Спасибо тебе, папаша, за сегодняшнее… Хочешь согреться? Садись почаюй, – с чапаевским радушием предложил Борисов.
…Донесение получалось длинным, Алексею хотелось написать и о тех, с кем он сам стоял рядом в этом бою, и о тех, о ком рассказали Борисов, Вдовин, командиры взводов. Мешал сосредоточиться и быть кратким голос вошедшего во вкус командирского чаепития Уремина:
– А вот вы мне скажите, товарищ капитан, отчего так получается? Только люди попалят из пушек и разного прочего орудия – и сразу польет с неба… Я это еще и в гражданскую примечал…
– И правильно льет… По календарю… Октябрь месяц…
– Октябрь-то октябрем, а все-таки до сего дня сушь держалась, а постреляли – и на́ тебе, занепогодило…
– По здешним местам ничего удивительного… А под Сталинградом, наверное, и сейчас жарит вовсю, хоть и бои посильней нашего…
– А по-моему, не в том дело…
– В чем же тогда?
– Природа гневается… Не любит она сотрясения, пороха…
– А ты его любишь? Что-то не нравится мне, Уремин, твой разговор. Сражался ты геройски, а рассуждаешь по-блаженному… Люди палят! Выходит, одно и то же – что немцы, что мы?..
– Это вы напрасно, товарищ капитан… Вот мне и в транспортной роте тоже так второпях ответили, а я до истины докопаться хочу.
– Ладно, не обижайся, у нас не транспортная, здесь докопаешься побыстрей…
Когда Уремин ушел, Борисов завалился спать, а Осташко предстояла еще самая тяжкая работа: написать письма семьям погибших.
На прошлой неделе он видел в штабе полка отпечатанные официальные извещения. На них оставалось заполнить только фамилию, имя, отчество и вписать, кем именно является погибший для адресата – Ваш сын… Ваш брат… Вага муж… – да еще указать место захоронения. Все остальное сказано, и сказано значительными, возвышенными, но по-типографски безличными, одинаковыми словами. Штабной писарь предложил бланки и Осташко, но Алексей тогда торопливо и суеверно от них отмахнулся. А вот сейчас потянуло написать именно эти, единственно верные, точно взвешенные на весах великой правды слова: «Погиб смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость Родины…» Так он напишет и в Наманган семье Салтиева, и матери Чеусова, и жене Фомина… И добавит, что эта потеря тяжела и для них, сослуживцев, товарищей, что будут мстить за пролитую кровь…
На нарах заворочался Борисов, и Алексею послышалось, что он вздохнул.
– Ты что не спишь?
– А ты?
– Видишь же, занят.
– Вижу и знаю чем… Поэтому и скажу тебе откровенно – ложился бы тоже, а с этим успеется…
– Ты что в самом деле? Да это же наш последний святой долг перед ними… «Успеется»! – вспыльчиво повторил Алексей. – От кого угодно, а от тебя, командира роты, никак не ждал.
Борисов долго молчал, было в этом молчании нечто похожее на оскорбленность. И вдруг он заговорил уже иным, жестким, даже явно неприязненным голосом.
– Может, я так и сказал потому, что командую ротой уже не первый месяц и видел побольше твоего… В деревнях и так воем воют от похоронок, а ты торопишься. Если б чем хорошим обрадовать, тогда и впрямь торопись, спеши, хоть и телеграмму посылай, а то, что сейчас делаешь, может и подождать… Я бы, откровенно говоря, завел другой порядок: пропал без вести – и точка. А вот, когда выгоним немцев, когда добьем их, тогда само собой прояснится, кто остался жив, кто нет. Зато вот она, победа! А что из того, если ты, допустим, напишешь моим в тот же Барнаул, что, мол, так и так, остался ваш Ромка под тремя березками у высотки сто десять…
– Да перестань ты об этом, Роман, на ночь глядя, – примирительно произнес Алексей. – Пусть не доведется никому и ничего подобного в твой Барнаул посылать… ни сейчас, ни после победы.
– А это уж не нам с тобой знать, товарищ политрук, – коротко заключил разговор Борисов и натянул на голову шинель.
7…Хотя бы у него оказалось время мысленно разобраться во всем, что предшествовало этому черному дню, проследить, доискаться, узнать, где и когда именно он ошибся. Пусть не сможет сообщить об этом товарищам, повиниться перед ними в своем невольном промахе, но все-таки легче было бы помирать, если этот промах не такой уж тяжелый, допущен им не по легкомыслию, не по мальчишеской беспечности. И перед Варварой он тогда бы не испытывал терзающих укоров совести. Она ведь сама знала, на какую опасность идет, уговаривать ее не пришлось, и не он, не он по какой-либо своей неосторожности или прямо ротозейству привел в конце концов эту опасность к порогу ее хаты.
Избитый сразу же при аресте, Лембик, кинутый в подвальную черноту камеры, с самоосуждением думал о происшедшем сегодня…
А ведь год, ровно год, начиная с того дня, как по осенней степи отошла в сторону Дебальцево прикрывавшая отступление своей части цепь красноармейцев и Нагоровка оказалась под немцами, ровно год он был для них недосягаемым, неведомым, хотя и насолил вдоволь. Понятно, не сам, не в одиночку, помогали верные люди. Та стена на машзаводе, что на прошлогодние ноябрьские праздники припечатала к земле едва ли не половину комендантской команды вместе с ее духовым оркестром, стала только зачином, первым грозным предвестием. Прибавлялись и прибавлялись на кладбище кресты с торчащими над ними буро-зелеными каскадами… Прибавились и после того, как на перегоне между Динасовым заводом и Матвеевским разъездом подорвали эшелон, направлявшийся в Миллерово. И после того, как от взрывчатки, подброшенной в уголь, которым топили печь, взлетела караулка на химзаводе. И после пожара на товарной рампе, где, перебазируясь, выгружался один из армейских складов. Но что известно немцам о причастности его, Лембика, ко всему тому, что их здесь так допекало? Что им известно о нем самом? За этот год он так свыкся с личиной того человека, под именем которого жил, – дальнего родственника Варвары, – что не узнавал в зеркале самого себя. А что уж говорить о других!.. Даже Игнат, старик Осташко, кому полагалось бы за версту по походке и всем повадкам опознать друга, даже он попал впросак.
Когда этой весной Лембик пришел в Моспино и увидел Осташко, вскапывающего грядку, то не мог удержаться от шутливой проделки. Прикинулся случайным прохожим, попросил воды и, пригубив вынесенную кружку, несколько секунд лукаво смотрел поверх нее на отчужденно хмурившегося под этим взглядом машиниста. Потом неторопливо протянул ему кружку.
– Спасибо, Игнат.
Ну и рассердился же тот поначалу! Надо бы обрадоваться, а он рассердился.
– Нашел время спектакли устраивать, комедию ломать! Неужели только этому и научился во Дворце?
– Кое-чему и другому научен, Игнат, издавна научен. Поэтому и пришел. Старая память и тебя не должна подвести.
Но, прежде чем повести разговор о том, ради чего он пришел в Моспино и разыскал приятеля, Лембик еще раз внимательно осмотрелся в этом новом местожительстве Игната Кузьмича, осмотрелся и остался доволен. Крытый толем старый приземистый домик стоял в ряду других, таких же ничем не примечательных, еще дореволюционной застройки шахтерских жилищ. Во дворе погреб, сараюшки, позади огород, обмежеванный низенькой каменной кладкой и колючим шиповником, за ними степь, глухие балки. Лучшей явочной квартиры на запас и не найти. Можно подойти к ней и улицей и задворками.
Расспросил он и о проживающих вместе с Осташко родичах. Игнат Кузьмич, понимая, что все эти расспросы с серьезной подоплекой, поведал все, как оно было. Сваха сейчас не здесь, ушла к другой, старшей дочери. Тут остался он с Танюшкой и внучкой. Не скрыл Осташко от друга и того, что произошло ночью на Первомайской, когда постучались итальянцы. Лембик насторожился.
– Неужто бросила в печку?
– Да, успел выхватить… Потом каялась, плакала…
– И как она сейчас?
– Худого ничего не скажу. Да и не болтливая, Василий ее насчет этого приучил, когда она с ним по аэродромам кочевала.
– Это главное. А за то, что случилось, может, простим, а? Паниковала тогда не она одна.
Договорившись и условившись обо всем, что было необходимо, затем сидели далеко за полночь.
Оба были из одного, не поддающегося никаким изломам кремня, того кремня, твердость и стойкость которого уже много раз всячески испытывались этим трудным и зоревым веком, и потому они искали в беседе друг с другом не облегчения от каких-то своих сомнений, а хотели услышать, что думает приятель о длине тех дорог, которыми придется идти народу к победе.
– Выстоять бы! Пока Урал да Сибирь поднимутся, – говорил Лембик, – чтоб против ихней стали – нашей побольше! Самолетов, танков!.. А до той поры круто будет, мало чего хорошего ждать… До той поры каждый кто чем, а помогай, тянись…
– А что же тогда на мою долю ты так скупо отмерил, вроде бы вахтером сделал, привратником?
– И это надо, Игнат.
– А сам?
– Я другое дело. После Халхин-Гола я один со старухой остался. А Осташки воюют – и Алексей, и Василий… Так что тебе на меня или мне на тебя не равняться.
– Ишь, сразу видать завхоза, расписал как по смете. Кому сколько положено, и ни на грош больше, – не удовлетворился этим объяснением Игнат Кузьмич. Провожая друга обратно в Нагоровку, задержал его руку в своей и с пасмурной озабоченностью напутствовал:
– А все ж, Захар, лихость свою поубавь, будь поосторожней…
И сейчас, вспоминая этот домик в Моспино и то, как надежно он эту весну и лето служил своему предназначению, Лембик приходил к выводу, что не оттуда пришла опасность, не из Моспино привела гитлеровцев в хату Варвары нить поисков. А откуда же в таком случае? Пожалуй, не надо было вчера идти на рынок. Но не из пустого же любопытства он туда направился. Все сложилось так, что иначе он поступить не мог. Не позволила бы совесть. Он видел, как на его глазах таяла Варвара и в последние дни совсем не поднималась с кровати. Ничего не просила, но он-то и сам знал, что картошка, которую он ей варил, не еда для больной. Решился пойти на рынок. Выбрал для этого как будто подходящее время – вторую половину дня, шапочный разбор, когда облавы можно было не бояться. Но, наверное, стоило подумать о другой опасности: чем меньше людей, тем приметнее каждый. Рынок, или, как теперь его называли, толчок, находился уже не в центре города, а за тупиковым трамвайным кольцом, в степи, и на каждом шагу напоминал о лихолетье. Кто обменивал на коробок спичек горсть проса, кто предлагал неведомо где раздобытый сахарин, кто расхваливал добела оскобленные говяжьи окостки. Много на руках было поношенной мужской одежды – ее продавали жены шахтеров. Лембик уже думал, что на принесенный им суконный, допотопного покроя казакин, который когда-то сберегался в реквизиторской Дворца для драмкружковцев, ставивших пьесу Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик», покупатель так и не найдется. Сам Лембик взял его прошлой осенью из кладовой в дальнем расчете, что он может в будущем пригодиться, но вот и на толчке нет на него охотников. И вдруг подвернулся какой-то крепкого склада краснолицый старичина и, повертев в руках казакин, неожиданно возликовал:
– Эхма, а ведь когда-то ж я такой носил!..
Расплатился довольно щедро. Лембик купил на вырученные деньги бутылку козьего молока, приторговался и купил требуху для супа и уже собирался уходить – и вот тут-то эта нежеланная, неприятная встреча… Хотя назвать это встречей и нельзя. Просто почувствовал на себе чей-то взгляд, обернулся и за головами толпившихся людей увидел нагловатое лицо, неприязненно сощуренные, как будто что-то припоминавшие глаза. Припомнил и сам… Отвал террикона, занесенную снегом тропинку, на которой они когда-то разминулись. Серебрянский!.. Стараясь не выдать себя какой-либо поспешностью, Лембик неторопливо пошел вдоль торгового ряда. Неужели его узнали? Не должно бы! Почти год минул после той встречи, а за это время отпустил усищи и бороду такие, что впору и детишек пугать, состарился не на год, а на десяток лет, не меньше. А уж по одежде и вовсе ничем не отличим от других, кто мыкался на толчке. «Разминулись, разминулись и сейчас», – успокаивал он себя, возвращаясь на Резервуар, и все же, проходя завечеревшим парком, изредка останавливался за деревьями, прислушивался, не зашуршат ли позади по опавшей листве чьи-либо шаги, не мелькнет ли чья-либо тень.
Разминулся ли?..
Этой же ночью его взяли. Перед тем как увезти, перетряхнули всю хату, заставили подняться с постели метавшуюся в горячке Варвару, но найти ничего не смогли. Лембика посадили меж двумя солдатами в кузове машины. Он знал, куда его везут… В такие знакомые ему стены, где теперь хозяйничало гестапо.
Его заперли в подвале, что примыкал к кочегарке. Крохотное, забранное решеткой оконце находилось невысоко от пола, и при желании можно было бы к нему подтянуться, выглянуть, но он знал, что все равно ничего там не увидит. Сразу же, как только гитлеровцы разместились в здании, они обнесли его высоким забором, протянули поверх него колючку. Лучше уж сберегай силы, перебирай в памяти день за днем, угадывай, где и в чем ты ошибся, допустил промах, и готовься, готовься к тому, чтобы не проговориться, стерпеть все, на что изощрится враг.
Вызвали на допрос вечером второго дня.
Подталкивая прикладами карабинов, солдаты провели Лембика по коридору первого этажа, затем по лестнице на второй, в то крыло здания, где раньше была Большая гостиная. Как ни болело избитое тело, однако, вопреки этой обессиливающей боли, ожило, шевельнулось в сознании нечто подобное любопытству. Как же она теперь выглядит, эта комната, которая ему, Лембику, стоила в свое время стольких хлопот?
Где-то в начале тридцатых годов, когда шахта преодолела угольный прорыв и стала из месяца в месяц выполнять план, приехавший в Нагоровку Орджоникидзе щедро премировал ее.
– Да только не вздумайте эти деньги пропить, – шутливо предупредил он. – Я вас, донбассцев, знаю, устроите дым коромыслом, а потом с похмелья опять влезете в прорыв? Нельзя. Даем деньги для Дворца культуры. Был я там. Бедновато еще внутри. Купите хорошую мебель. Княжескую! Шахтеры заслужили!
И Лембик метнулся в Москву. Несколько дней этаким разбогатевшим фертом обхаживал комиссионные магазины Арбата, Таганки, Сретенки, прицениваясь к выставленной мебели. Наконец он нашел то, что хотел. Правда, купленная мебель оказалась разностильной и некомплектной, но породы дерева были воистину княжескими – карельская береза, палисандр, пальма, самшит. Да и обивка, одна обивка чего стоила! Парча, атлас, плюш, бархат! И хотя все это давно, пожалуй, еще до Октября, пообтерлось, все равно шахтеры поначалу робели присаживаться на затейливые, вычурные кресла, шезлонги, кушетки. Но со временем освоились и какие семейные вечера, какие чаепития закатывали в гостиной!
Вот сюда, в эту комнату, куда Лембик привык входить гостеприимным, радушным хозяином, его сейчас и втолкнули прикладами. Заплывшие от кровоподтеков глаза не могли сразу рассмотреть, что изменилось в комнате, к тому же люстра в ней не горела, свет рассеивала только настольная зеленая лампа, перенесенная сюда, очевидно, из комнаты правления.
По ту сторону стола, отодвинувшись в полутемный угол – там сверкнуло пенсне, серебряный лацкан воротника, – сидел тот, с кем Лембику предстояло вступить в неравный поединок. У стены жался высокий старик – черный длиннополый пиджак, пальцы костлявых рук засунуты в кармашки жилета. «Переводчик», – догадался Лембик. Сухой и жесткий голос из угла лязгнул, как затвор винтовки. Старик, не поднимая глаз на приведенного, перевел:
– Обер-лейтенант предлагает… приказывает вам назвать себя… Ваша настоящая фамилия?
Надо было стоять на своем. До конца. Надо упрямо утверждать прежнее. Приехал из Воронежской области, чтоб забрать к себе в деревню приболевшую двоюродную сестру, и не успел уехать, застигнутый приблизившимся фронтом. А Варвара, если она еще жива, скажет то же самое, в ней был уверен, как в самом себе.
И снова из затененного угла залязгал затвор.
– Вас в последний раз предупреждают, что вы напрасно отпираетесь и пожалеете об этом. Нужна правда. Здесь могут заставить говорить даже табуретку.
Голос переводчика, в отличие от того, который раздавался из угла, был монотонным, равнодушным, лишенным какой-либо неприязни, и казалось, что старик, механически произнося эти слова, отстраняется от их зловещего смысла.
Лембик покачал головой.
– Как оно есть, так и есть. Что ж лишнее на себя брать? Выходит, и у вас здесь ошибаются! А я добавлять ничего не стану.
Из темноты на середину стола протянулась рука, что-то нажала. И тогда открылась дверь, и вошел Серебрянский, вошел, как входит тот, кто чувствует себя здесь своим, знает, для чего его позвали, и ждал этого вызова.
– Что ж ты, Захар Иванович, и сейчас будешь ваньку валять и маскарад устраивать?
Лембик молча смотрел в самодовольно ухмыляющееся отечное лицо Серебрянского. Значит, выследил именно он, и теперь крышка. Вот же как может изголиться, испоганиться человек. Ничего святого не оказалось, все пустил враспыл и еще ухмыляется, выставляет напоказ, тешится своей подлостью.
– Ну-ну, Захар Иванович, хватит нас разыгрывать. Я ведь тебя давненько приметил… Еще тогда на терриконе подумал, что не напрасно ты отвернулся от меня и заспешил. Мог ведь тоже прошлой осенью в бега податься, а остался. Выходит, не зря… Многое, многое, что здесь в Нагоровке творилось, твоих рук дело… Это уж факт… Давай признавайся, слышь, старая перечница? Ишь, оброс как! Все ж интересно, она у тебя настоящая?
Серебрянский подошел и рванул Лембика за бороду. И, чувствуя, что ему уже терять нечего, Захар Иванович с ненавистью плюнул в это отвратно белевшее перед ним лицо. Серебрянский отшатнулся.
– Вот это ты напрасно… Однако не гордые, утремся… Что твой плевок? Водичка…
– Дождешься, гадюка, и свинцового, – глухо кинул Лембик.
– Насчет меня – неизвестно, бабушка надвое сказала, а вот тебе она бы наворожила это наверняка.
Гестаповец вскочил, ударил ладонью по столу.
– Sprechen! Sofort! Alles sprechen!.. [2]2
Говорить! Немедленно! Все говорить!.. (нем.)
[Закрыть]
Не прислушиваясь, пропуская мимо ушей голос переводчика, сам зная, что от него требовали, Лембик впервые за эти дни усмехнулся.
– Напрасно стараешься, фашистская харя… Пуганый я уже… Видел таких, как ты…
Без переводчика понял его и гестаповец, что-то закричал, обращаясь уже к тем, кто стоял позади Лембика.
Его поволокли. Под обрушившимися ударами он сцепил зубы, заранее изготавливаясь к тому страшному, что предстояло испытать в этот зыбкий, заколебавшийся, как пламя свечного огарка, остаток жизни.
О судьбе Лембика Игнат Кузьмич узнал лишь спустя две недели. Все это время он напрасно поджидал условленного стука в окошко. Прежде связные приходили часто – оставляли «почту», за ней приходили другие, знакомые и незнакомые. А теперь про этот окраинный домик словно совсем забыли. Но однажды вьюжной декабрьской ночью наконец-то Игнат Кузьмич расслышал сквозь дремоту долгожданный, осторожный стук по раме. Он вскочил.








