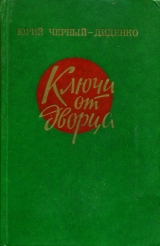
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
Паводок, надолго скрывший дороги, отрезавший одно селение от другого, спадал в этих полесских низинных краях медленно. Даже и тогда, когда высвободились из весеннего разлива чащи, поляны и луга, еще долго повсюду сверкали вплетенные в курчавый подлесок голубые ручейки, а там, где их не стало, все равно из-под ступившего на траву сапога по-болотному прыскало, сочилось. В это же лето, в самый его разгар, в самую жаркую пору, казалось, вновь поднялись высокие воды, так вдруг тесно стало им в берегах реки вблизи Грабува и Ольшанки. Западный Буг форсировали и вступили на польскую землю после трехдневных боев и прорыва немецких укреплений западнее Ковеля. Первыми на ту сторону вынеслись танки. Разметало берега Старого Буга. Там, где желтели отмели, появились глубокие омуты. Там, где нельзя было дна достать, легли песчаные косы. Словно буря хлынула и выплеснулась на тот берег.
Вражеские части еще не успели прийти в себя и обосноваться на новом оборонительном рубеже, как сразу были сбиты вторым натиском. Не дожидаясь, когда саперы наведут мосты, пехота двинулась через Буг на подручных средствах.
Батальон Фещука шел выставленной от дивизии головной походной заставой. Надо было поспевать за вырвавшимися вперед танкистами. В первые несколько дней это удавалось. Двигались на северо-запад к Лукову. Для немецких заслонов, стоявших на рокадных дорогах подчас фронтом к востоку, появление наших танков в их тылу оказывалось неожиданным, спутывало все боевые порядки… Уклоняясь, не принимая ближнего боя, страшась охвата с флангов, они рассеивались по лесам или же поспешно отходили на другие промежуточные рубежи, где повторялось то же самое – огонь из засад, ответный удар, скоротечная контрбатарейная борьба, и снова, снова распахивались пути в глубь польской земли. И в скольких уже вёсках, когда вслед за разведчиками к околицам подходил батальон, еще издали виднелись, распрямлялись ветром над крестьянскими хатами полотнища бело-красных флагов. В эти дни в Хелме, куда вместе с частями Советской Армии вошли и части 1-й польской армии, был создан и начал работать Польский Комитет Национального Освобождения, и его манифест к польскому народу, казалось, незримо опережал стремительно перемещавшуюся к Варшаве линию фронта…
Но после Лукова на подступах к Седлецу – крупному узлу железных и шоссейных дорог в девяноста километрах от Варшавы – эта стремительность наступающих частей стала наталкиваться на все более ожесточенное сопротивление врага. Возросли потери, и прежде всего у танкистов. Им первым пришлось принять на себя контратакующие удары подтягиваемых с лихорадочной торопливостью немецких дивизий. На асфальтовых дорогах и по сторонам от них, в хлебах, на забурьяненных пустошах, зачернели подбитые, обожженные тридцатьчетверки, встречая подходивших к месту схваток пехотинцев тяжелым духом горящей солярки, резины, расплавленной краски. И если жив оставался экипаж машины, танкисты, скучившись около нее, старались не смотреть на стрелков, будто винились в том, что уже ничем не могут им помочь.
К показавшемуся вдали Седлецу Алексей шел вместе с ротой Литвинова, нагнав ее в Вишнювке, небольшом, приткнувшемся у шоссейки местечке. После восьми изнурительных дней наступления он уже без первоначального резкого ощущения новизны входил вот в такие маленькие города и вёски. Все эти белевшие в густых садах Вульки, Студзянки, Пшевлоки на первый взгляд мало чем отличались от знакомых Ольшанок, Скворцовок и Лебедяней. Только когда подходил к середине деревни, где привык видеть прочно утвердившиеся сельсовет, правление колхоза, избу-читальню, обострялось чувство чужбины. Круто взнесенные к небу темные, с прозеленью древнего дикого камня стены костела, неподалеку, в глубине огороженного проволочной сеткой безлюдного парка, какой-либо господский особняк со своей уединенной, укрытой от прохожих жизнью.
Войска, что тянулись через Вишнювку, на выходе из деревни, подчиняясь заданному штабами плану, развертывались по проселкам, по полям. Рота Литвинова, крохотная частица продолжавшегося наступления, тоже вскоре развернулась в предбоевой порядок – углом вперед, нацелилась головным взводом Золотарева на двухэтажные здания у южной окраины Седлеца. Но спустя полчаса этот порядок смешался. Из-за плотной изгороди кустарников, зеленевших в промежутках между домами, били по наступавшим немецкие орудия. Самоходки, поддерживающие батальон Фещука, повели по ним разрозненный, нащупывающий огонь.
– Этак долго нам придется здесь чухаться, – выкрикнул Литвинов.
Он и Алексей лежали рядом на откосе яра, служившего, очевидно, городской свалкой. Кучи мусора были разбросаны на дне яра. Литвинов, переползая, разодрал о битое стекло на локтях гимнастерку и теперь засучил рукава, чтобы не мешали. Обернулся растерянно к Алексею.
– Надо подождать, сейчас все равно не подняться, – сказал Алексей.
В приблизившийся к стенам Седлеца бой втягивались новые и новые части. Алексей, как и все, кто находился сейчас в яру, нетерпеливо следил, чем закончится дуэль между самоходками и немецкой батареей.
Сгорбившись, подбежал Зинько:
– Товарищ лейтенант, у них на чердаке снайперы. Павлова убило… Да вот, убедитесь.
Зинько надел на дуло автомата пилотку, приподнял ее над откосом и, точно ожегшись, тут же опустил. На пилотке зарыжели края сквозной метки.
– Видите?
– А наши снайперы где? Ремизов? Стефанович? Скажи Золотареву…
– Он знает… Это я вам… чтоб береглись…
Рядом с Алексеем кто-то заворочался. Это был Маковка. Он молчаливо и осторожно пристраивал винтовку между кустами полыни, а потом надолго недвижно прильнул к ней заросшей, небритой щекой. Наконец выстрелил и, не спеша выбросив гильзу, снова будто оцепенел. Чуть дальше, где залег взвод Золотарева, жарко сыпанул пулемет. Окна чердаков, в стеклах которых плавилось полуденное солнце, вдруг зазияли темными звездчатыми брешами.
Между тем в яр спустилась из боковой разлоги и рота Пономарева. Здесь удобней всего было изготовиться к последнему броску. По дну яра, на ходу свертывая цигарку, шел Замостин. Увидев Алексея, стал подниматься к нему.
Со стороны Вишнювки накатился басовитый металлический рык. Низко над степью к Седлецу шли, чуть ли не крылом к крылу, несколько пар штурмовиков. Пройдут дальше к железнодорожному узлу или ударят здесь, по окраине? Если здесь, по этим домам, то после такого налета как раз время рвануться вперед… Очевидно, об этом же подумал и Замостин. Жадно затянувшись, он бросил недокуренную цигарку и обрадованно проводил взглядом мчавшиеся синие тени… И тут произошло то, чего не успел упредить ни Алексей, находившийся от Замостина шагах в десяти, да и никто другой… Взбираясь по откосу с поднятой головой, вероятно изготавливаясь к тому, чтобы через несколько минут ринуться из яра вперед, туда, к домам, Замостин высунулся над бровкой.
– Назад, назад! – встревоженно окликнул его Алексей.
Крикнул снизу кто-то еще, однако было уже поздно. Пораженный пулей снайпера, Замостин покачнулся и вначале медленно, цепляясь руками за землю, а потом быстрее и быстрее покатился на дно яра.
Оскальзывая, спотыкаясь, Алексей сбежал вниз:
– Павел! Павел!
Он наклонился над ним, надеясь, что самое ужасное не произошло, еще билась, отчаянно вопила в нем мысль о возможном спасении, но увидел закровянившуюся на виске Замостина круглую ранку, увидел его меркнувшие под опускавшимися веками глаза, и горький спазм перехватил горло…
Откосы яра содрогнулись от близких разрывов бомб. Гул штурмовиков, уходивших дальше, стал затихать, и в этом затишье послышались голоса идущих в атаку… Спустя несколько минут Алексей поднялся наверх и яростными прыжками нагонял роту, словно хотел убежать от того жестокого, что осталось на дне яра…
4После взятия Седлеца батальон несколько дней нес гарнизонную службу в Минск-Мазовецке. Мало тронутый войной, чистый, в густой зелени садов город далеко протянулся вдоль магистрального шоссе, широкой лентой уходившего к Варшаве. Отсюда до нее было всего шестьдесят километров. В Минск-Мазовецке уже открылись аптеки, парикмахерские, многие магазины, хотя чем и когда они торговали, догадаться можно было лишь по давним вывескам – по́лки пустовали.
Над подъездом старинного красивого здания, стоявшего в центре, развевались бело-красные флаги. Здесь начала работать местная Рада Народова. Белые и красные цвета, казалось, заполонили все улицы, соперничая с пышной августовской зеленью бульваров. Бело-красные нарукавные повязки у милиционеров, у гимназистов и гимназисток, бело-красные розетки на отворотах пиджаков у взрослых, бело-красные ленты на кепи и шляпах, бело-красные вымпелы в окнах жилых домов. Вначале эта красочность даже покоробила, не понравилась Алексею. Продолжала бередить сердце скорбная память о Седлеце с его тяжелыми боями и потерями. Да и Варшава, что была впереди, неделю назад восставшая, сражавшаяся Варшава, все сильнее и сильнее тревожила своей неясной, горькой судьбиной. До праздника ли сейчас? Но стоило лишь представить те страшные пять лет гитлеровской оккупации, когда вот такая маленькая бело-красная розетка неминуемо грозила человеку смертью, обрекала на муки концлагеря, и становилось понятным нынешнее половодье бело-красных цветов. Это была радость вольности, долгожданное счастье не сдерживать себя, не опасаться, гордо напоминать всем и каждому ликующее, желанное – «еще Польска не сгинела!». И Алексею радостно было, проходя по городу, вбирать глазами эту его праздничность, чувствовать прямую причастность к ней себя и всех своих товарищей – живых и погибших…
Батальон разбил палатки в большом старинном саду, неподалеку от костела, каменные шпили которого высоко поднимались над городом и тенями отражались в пруду, доходившем почти до крыльца. Почти одновременно с солдатской побудкой-перекличкой, умыванием, завтраком по дорожкам сада чинно проходил к беломраморному порталу костела ксендз. Черная шелковая сутана, лаковые туфли, высокий, подпирающий подбородок, крахмальный воротничок. На сухощавом, холеном лице при встречах с красноармейцами появлялось выражение церемонной вежливости. И кто знает, что за ней? Вынужденное, неохотное примирение с теми, чьи иноязычные веселые голоса сейчас раздавались под кронами каштанов? Или почтительность, искренняя признательность им? Как он проходил этими дорожками раньше, под взглядами эсэсовцев? Кого собирали на его мессы тогда? А сейчас идут, идут старые и молодые, приглушенные, мягкие звуки органа льются из темного проема распахнутых дверей. Будут молиться за тех, кто по ту сторону Вислы – в Варшаве, в Познани, в Лодзи… А может быть, и за тех, кто полег в Лукове, в Седлеце?
На улицах Минск-Мазовецка все чаще можно было видеть жолнеров Войска Польского. Осташко, недавно предупрежденный Каретниковым, что вскоре их батальон сменят здесь солдаты армии Зигмунда Берлинга, созвал коммунистов и комсомольцев. Хотелось, чтобы они в свою очередь рассказали всем красноармейцам о предстоящих встречах. Ведь с ними быть плечом к плечу не только тут, в городе, но и, на переднем крае. Товарищи по оружию, уже прошедшие первые испытания и в боях под Ленином, в Белоруссии, да и на своей родной земле. С ними теперь бок о бок и дальше, к границам Германии, до самого Берлина. Выходит, надо друг к другу – честь по чести. Старший по званию? Приветствовать, как приветствуешь своего. В чем-либо выручить? Не отказывай, как не отказываешь своему.
– Все понятно, товарищи? – спросил Алексей, закончив беседу.
– Понятно, товарищ капитан, для нас это скошенный лужок… Манифест все читали. Понятно и остальное…
– А вот мне дозвольте все же вопрос, товарищ капитан, – неожиданно поднялся с травы Зинько. – Солодовникову хай это будет скошенный лужок, а мне кое-что еще треба разжевать, помиркувать… Бо я с этими жолнерами, когда патрулировал, уже встречался…
– И что же тебе не понятно?
Зинько оглянулся, не проходит ли вблизи кто-либо из посторонних, раздумчиво пригладил на лбу чуб:
– В манифесте все правильно сказано, по рабоче-крестьянскому, а вот кокарда их мне не нравится…
– Это орел, что ли?
– Вот эта самая птица… Мой батько против двуглавого царского всю жизнь боролся, а тут я снова его увидел… Понимаю, что не наша справа вмешиваться, а все же, раз мы столько крови здесь проливаем, то и дивно…
– Почему ж не наша справа? Наша, Зинько, коль вместе, то и наша. Нам совсем не все равно, какой станет в будущем Польша, наш сосед, народной или снова панской?.. Действительно независимой или на чьем-то поводу? Нет, не все равно. Только этого орла бояться нечего, он тоже против того, двуглавого, дрался. А своего орла они называют пястовским. Был у них когда-то много веков назад предводитель, вождь Пяст, который объединил все польские земли. Вот и сейчас польский народ этого добивается, надеется на нашу помощь. Против этого, пястовского, и твой батько ничего против не имел бы… Кстати, «Варшавянку» он пел?
– «Вихри враждебные»? Пел… Его любимая…
– Ну вот видишь, и у польских коммунистов она любимая. И мы за ту Польшу, что поет «Варшавянку»… И пусть бы она такая родилась и никогда не сгинела…
– Нех жие!.. – согласился и весело воскликнул кто-то из сидевших сзади.
Но Янчонок, привольно расположившийся на траве рядом с Зинько, видимо, тоже поделился с ним какой-то своей озабоченностью и сейчас захотел поддержать парторга.
– Разрешите, товарищ капитан. Орел… так орел… Понимаю… А вот только чего ж тогда генералы их больно не похожи на наших?.. Разрядились… вроде как на балу…
– А ты их видел?
– Довелось вчера… Идет, а на нем красный китель, золотые пуговицы, на груди какой-то медный рожок или свистулька… На голове тоже шляпа какая-то пышная, чудная… Я его, конечно, первым приветствовал… потому понимаю… звание! А он только усмехнулся и этак махнул рукой, будто отмахнулся. Это ж не по-нашему получается… Надо взаимно, хоть я и рядовой…
– Позволь, позволь, Янчонок, – веселея от возникшей догадки, посмотрел Алексей на обиженное лицо солдата, – говоришь, красный китель?
– Как огонь! И галуны, и воротник расшитый… Правда, стариковатый, может, на пенсии? Но, по-моему, раз в форме, так соблюдай ее. Хотя, конечно, такая форма в настоящем бою ни к чему… У нас и маршалы поскромнее…
– Так ты знаешь… ты знаешь, Янчонок, кого ты приветствовал? – с трудом сдерживая смех и окончательно утверждаясь в своей догадке, проговорил Осташко. – Пожарника… Самого обыкновенного городского пожарника…
Янчонок оторопел, залился краской. Рассмеялся и, словно отрекаясь от своих недавних сомнений, хлопнул его по плечу Зинько. Захохотали и все остальные.
– Скажи, Янчонок, а ты дворнику или трубочисту честь еще не отдавал? Они здесь тоже не в лохмотьях ходят.
– Вот это отколол! Принял медную каску за генеральскую папаху!..
– Ох, представляю, какой он строевой шаг по тротуару отбивал!
– Держи равнение налево, на пожарную кишку.
Янчонок разозлился:
– И напрасно подначиваете. Разве я чем солдатскую честь уронил? Да кто он такой? Рабочий человек!.. Верно, товарищ капитан? Как я теперь соображаю, он меня по-ротфронтовски приветствовал… Значит, все у нас правильно. Не субординация, так солидарность.
Штаб батальона расположился в небольшой, со вкусом отстроенной вилле, фигурная ограда которой примыкала к саду, а калитка выводила сразу на одну из его аллей. Хозяйка, дородная, статная, свободно владела русским. Проводив Фещука и Осташко в отведенную им комнату, она предупредила, что это кабинет сына (он инженер лесной промышленности), и она просит сохранять здесь все так, как есть. На стенах кабинета от пола до потолка искусно размещалась коллекция древесины – грибообразные наросты, поперечные распилы стволов самых разных пород, срезы сучков, изгибающиеся, как змеи, покрытые бесцветным лаком корни деревьев.
– А где же сын? – полюбопытствовал Алексей. Хозяйка поднесла к глазам батистовый платочек:
– Михась был в Иране… Сейчас переехал в Каир…
«Был и в Ташкенте», – догадываясь, какие запутанные, извилистые дороги привели хозяина к подножию египетских пирамид, хотел было добавить Алексей. Однако промолчал. Подумал только, что пани, пожалуй, рановато хвататься за батистовый платочек. Как ни далек Каир, но оттуда вернуться в этот кабинет живым все-таки много вероятнее и легче, чем из Белой Подляски или из того же Седлеца.
За стеклом книжных шкафов золотились корешки осанистых томов – избранные письма Пилсудского, Пшебышевский, Жеромский, энциклопедии, технические справочники. Над письменным столом висела большая фотография, с которой улыбалась молодая, какой-то пышной, вызывающей красоты женщина. Белокурые волосы спадали на оголенные плечи… Высокая полуобнаженная грудь…
– Моя невестка… Правда, она прелестна, пан майор? – перехватив скользнувший по портрету взгляд Фещука, поинтересовалась мнением гостя хозяйка.
– У нас так не принято снимать, пани, – довольно холодно ответил Фещук.
– Но ведь это интимный снимок, для кабинета… Если хотите, я его уберу. Кто знает, может быть, это все, что останется на память от Бигуси…
– Разве она не вместе с мужем?
– О, если бы! Нет, нет… Бигуся в Варшаве. Я не могла ее удержать. Она там вторую неделю.
Теперь хозяйка смотрела на офицеров тревожно, вопрошающе, даже забыла о скомканном в руке платочке. А Осташко и Фещуку все казалось в этом сумрачном, добротно отделанном кабинете противоречивым, усложненным, запутанным: неведомый Михась, которому в эту военную пору наверняка нашлось бы дело в так хорошо ему знакомых, судя по надписи на коллекции, Быдгощских и Закопанских лесах; и эта красавица Бигуся, возможно строящая сейчас баррикады где-либо у варшавского вокзала; и сама хозяйка с повадками штабс-капитанши и одесским выговором…
Все вроде бы стало проще, яснее на вилле и в саду, когда, чтобы сменить батальон, пришел полуэскадрон польских улан. Они держались здесь по-свойски, бесцеремонно. В коридоры втащили седла, сбрую, полевые телефоны, рации… То и дело слышались испуганные возгласы хозяйки:
– О, Езус-Мария, это же рододендрон, пан хорунжий… Его нельзя отставлять от окна…
– Пше прашам, пани, война!..
Янчонок толкался во дворе среди кавалеристов, рассматривал погоны, расспрашивал… Наверное, опасался попасть впросак вторично.
Вечером в столовой виллы командиры обоих подразделений устроили совместный прощальный ужин.
– Нех жие Войско Польске!
– Нех жие Червона Армия!
Постукивали кружками о кружки, пели «Терезу» и «Катюшу», обменивались зажигалками, портсигарами. Какой-то тучный улан, похожий на Варлаама из «Бориса Годунова», вписывал в полевую тетрадь Алексея названия знакомых ему вёсок, что могли встретиться на пути батальона, и, щекоча усами, кричал в ухо:
– Скажешь, что от поручика Стемпы… Встретят, как брата… Скажешь, что скоро буду… Поручик Стемпа… Янек. Там все знают… Запомнил?
Потом настроили рацию на Москву, слушали вечернюю сводку Совинформбюро. На сандомирском плацдарме шли тяжелые бои. Союзники высадились в Южной Франции и заняли Ниццу. Войска Второго Белорусского фронта взяли Осовец – крепость на подступах к Восточной Пруссии.
На рассвете батальон вышел на Варшавское шоссе. Зашагали цепочкой между кюветом и изгородью кустарников. По шоссе ехали только походная кухня, фуры хозвзвода и медпункта. Их обгоняла нескончаемая вереница «студебеккеров» и полуторок с боеприпасами, грохотали самоходки, ревели тягачи дальнобойной артиллерии. В небе барражировали истребители. После полученных от Василия писем, особенно после недавнего, у Алексея, когда он видел пролетающие «миги» и «илы», неизменно возникали волнующие раздумья. Из некоторых намеков все больше убеждался, что Василий – на одном с ним участке фронта… Километрах в десяти восточнее Минск-Мазовецка находился большой аэродром. Может быть, там его полк? Там, в городе, часто видел солдат и офицеров с голубыми петлицами, но понимал, насколько было бы бесполезным подойти и расспрашивать… Перед выходом из Минск-Мазовецка, посылая письмо Василию, прибегнул и сам к намекам. Не называя города, упомянул о том, что в нем запомнилось. Костел на берегу пруда… Трехэтажное здание Рады Народовой на главном проспекте… Кондитерская фабрика на окраине… Написал и о том, что хорошо чувствовать неподалеку свои крылышки… Поймет ли Василий? Теперь надо ждать ответа.
После тридцатикилометрового марша заночевали вблизи Дембе-Вельке. Опускались сумерки. И когда совсем стемнело, увидели на западе раскинувшееся на полнеба багровое далекое зарево. Это горела Варшава.








