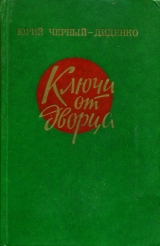
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1Уже полтора месяца Алексей кочевал с медсанбатом. Три недели валялся на койке, вставал только с помощью санитаров, благо что в эти дни дивизия стояла в обороне. А к тому времени, когда поднялась, начала передислоцироваться, Алексея уже перевели в команду выздоравливающих. Наконец-то окончательно развеялись мучившие его опасения: эвакуация в тыл больше не грозит, он остался со своей дивизией, его ждут в полку, в батальоне. Ликуя и как бы испытывая свою крепнувшую силу, прибавляя и прибавляя себе нагрузку, он первым вызывался на любые работы. Копал капониры для машин, натягивал палатки, рубил дрова, таскал носилки.
– Капитан, ты что, незаменимым хочешь у нас стать? – шутил Метц, замполит медсанбата, видя, как рьяно ищет себе Алексей какое-либо дело. – Смотри, если так, можем поменяться местами. Я – в стрелковый, ты – сюда.
В палатку Метца Алексей заходил как в свою. Коллеги сдружились! Но представить себе Метца в стрелковом батальоне не мог бы. Был он старше на три года, а плечи будто у подростка, да и весь махонький, укороченный. Узенькое, с преждевременными морщинами лицо, за золотым пенсне – живые, иронические глаза.
– Не видел я еще тебя в полной выкладке, Ян Янович, с вещмешком и скаткой, – шутил Алексей. – Не знаю, потянешь ли стрелковый!..
– Ты уж назови меня прямо – клистирная трубка.
– Не могу, не способен на такую черную неблагодарность, всю жизнь буду уважать вашего брата, медработников. Второй раз меня выручаете.
Однажды по просьбе одного из раненых Алексей мастерил самодельные костыли. Медсанбатовские оказались одномерками, а требовались подлинней. Как раз остановились в лесу, и Алексей, выбрав и срубив две подходящие березки, стал орудовать ножовкой. Наслаждение! Ножовка напоминала ту, умело разведенную, наточенную, что когда-то брал с собой в шахту. И так же, как тогда в шахте, в годы запальчивой юности, ладно спорилось дело. Он даже скинул рубаху, а за нею и нательную, радуясь пригревшему апрельскому солнцу, радуясь, что наконец-то миновала квелость в мышцах рук.
Вдруг над головой раздалось строгое:
– Выздоравливающий, что это за штучки?
Алексей, не поднимая глаз, на любом расстоянии мог сразу сказать, кому принадлежит этот гортанный, почти мужской голос. А она, ведущий хирург медсанбата Султанова, неслышно подошла и стала рядом. На шафранном и кажущемся надменным лице никакой улыбки или ее подобия. Большие черные глаза, привыкшие повелевать у операционного стола, сохраняли властность и сейчас. Кажется, что на лице всего только и женственного, что губы с мягким изгибом. И все-таки ж красива, надо признаться!
– Эти штучки попросил изготовить дружок, товарищ майор… Они будут ему поудобнее, – вставая и распрямляясь, сказал Осташко.
– Я спросила не о них. Кто вам разрешил раздеться и вообще… плотничать здесь? Не хватало еще подцепить воспаление легких…
– Так ведь я выздоравливающий… И видите ж – полная весна! Прибавила силенки…
– Если вы намерены таким способом убедить меня, что уже можете вернуться в свою часть, то напрасно стараетесь. Немедленно оденьтесь!
Алексей нехотя стал натягивать рубаху:
– Что ж, подчинился апрельскому солнышку, подчинюсь и вам.
Ответ был не по уставу. Да ведь медсанбат! Здесь куда чаще заглядывают в рецептурный справочник, нежели в устав. И все-таки Алексей почувствовал, как под взглядом этих красивых черных глаз неловкими, негнущимися стали его пальцы, застегивающие пуговицы. Показалось или в самом доле была в этом взгляде не только начальственная пристальность? Даже запутался в петельках. А Султанова упрямо ждала, когда он наденет шинель, и лишь затем повернулась, ушла.
– Признайся, Ян Янович, из-за вверенного тебе личного состава дуэлей в дивизии еще не происходило? – не выдержал Алексей.
– А по-твоему, могли бы и произойти? – в свою очередь полюбопытствовал Метц тоном человека, которому подобные вопросы задают не впервые.
– Просто появились такие дерзкие предположения.
– И ты кого имеешь в виду?
– Хотя бы Султанову.
– Ну, за нее я спокоен.
– Вот как! А я-то как раз считал иначе…
– Красива? – даже с некоей хозяйской горделивостью осведомился Метц.
– Да уж что и говорить…
– Гм… И не один ты такого мнения, есть товарищи званием и должностью куда повыше. А только, знаешь, что она одному из таких сказала? Если, мол, придется, то буду выбирать я, а не меня… Понял?
– Ишь ты! Для житейского девиза неплохо… И какой же смысл она в него вкладывает?
– А вот и вникай… Сама она из Нагорного Карабаха. Там издревле невест умыкали или брали за калым. Феодально-родовые или даже первобытнообщинные пережитки… Вот теперь и пробудилось, заговорило в ней что-то вроде многовекового протеста за всех своих одноплеменниц… Тем более что в своем Карабахе она среди женщин едва ли не первой врачом стала. А в общем, Осташко, если тебя потянуло к разговору на такие темы, то, по-моему, действительно пора тебе отсюда и выписываться.
– Испугался? – захохотал Алексей.
– А черт тебя знает… До сих пор у меня в медсанбате насчет всего этого был полный порядок. А в такие тихие дни, без белых халатов, только гляди да гляди… И когда ваш брат выздоравливающий начинает примечать, что ему не положено, то значит – пора выписываться… Ишь, разъелся!..
– Ладно, ладно, сам знаю, что пора.
…А тылы дивизии вновь поднимались вдогонку за ее штабом, за ее полками, передвигавшимися в эти апрельские дни на юг, на левое крыло Первого Белорусского фронта. Передвигался и медсанбат. Алексей не хотел ехать в «студебеккере», предпочитал полуторку: в фургоне, с его затянутым брезентом кузовом, видно только то, что остается позади, а он уже тянулся нетерпеливым взором к тому, что набегало навстречу… Такие же, как и на Северо-Западном, но куда щедрей пригретые южным солнцем и оттого еще более живописные непролазные пущи и урочища украинского полесья, мшистые темно-зеленые топи, заливные луга, безмолвные редко разбросанные хутора, из которых, казалось, вот-вот выйдет колдунья. Из Овруча свернули на Олевск, а там легла прямая дорога к Сарнам. И все-таки с борта полуторки, всматриваясь в незнакомые места, Алексей не раз возвращался мыслью к знакомому, к пережитому в эту затяжную и довольно-таки невезучую для него зиму…
…После Орловской битвы и победных наступательных боев на Брянщине, что осенью вывели дивизию на землю Белоруссии, особенно томительной казалась наступившая вслед за этим пауза. «Оперативная пауза», – как говорил Фещук. Ее прервали начавшиеся в декабре бои за Гомель, Речицу… И затем снова в оборону, а позднее – в резерв фронта. Здесь-то, во время пребывания дивизии в резерве, его и подстерегла эта беда. Случайная, хотя если вдуматься, то какая на фронте не случайна? Даже выстрел в упор бывает мимо… Политотдел прикомандировал Осташко на некоторое время к местной комиссии по расследованию фашистских зверств в Озаричском районе. Несколько дней он провел в деревнях, превращенных гитлеровцами в концлагеря, куда сгонялись и где гибли от голода, от повально косившего сыпного тифа тысячи и тысячи мирных жителей – женщин, ребятишек, стариков. Опрашивал тех, кому удалось выжить, насмотрелся и наслушался такого, что, кажется, постарел сразу на много лет. Больнее и страшнее всего было разговаривать с ребятишками. Картофельно-землистые, в струпьях, лица, бьющий костлявые тельца коклюш… В глазах ничего детского… Загнанность, притерпелость ко всему… Спали на снегу рядом с теми, кто метался в горячечном тифозном бреду. И самим уже не хватало сил выбивать вшей. Ели корни трав, забытую на огородах мерзлую свеклу… Сколько ж теперь нужно людского труда и тепла, чтобы вернуть им веру в жизнь! Алексей спешил, возвращаясь в дивизию, представлял себе, как станет рассказывать в батальоне о кошмарах Озаричей… Ехал в попутной полуторке. Смеркалось. Разминаясь со встречной машиной, полуторка уклонилась от дороги на присыпанную снегом обочину, и вдруг со страшным грохотом разверзлась земля: наскочили на мину… Пришел в сознание через два дня в медсанбате. К счастью, отделался контузией, тяжелой, но только контузией. После того как вывели из шока, долго не мог говорить и слышать. Все тело казалось избитым, измолотым. Хорошо, что все это произошло уже в расположении дивизионных тылов и его подобрал свой медсанбат. Да и то потребовалось содействие Каретникова – спасибо ему – настоял, добился через политотдел, чтобы оставили на излечение здесь, на месте, среди своих. И сейчас ничто уже как будто не должно тревожить. Еще неделя, не больше, и он будет в батальоне. Пора, пора!
В середине дня, не останавливаясь, проехали Сарны. Судя по всему, город этой ночью бомбили. Казалось, что здесь взмахнули гигантской железной метлой, разворошили весь мусор да так и оставили его неубранным. В воздухе висела гарь, пыль. На улицах лежали поваленные взрывной волной заборы и телефонные столбы. Больше всего досталось железнодорожному узлу. Чернели воронки на путях, дыбились плиты вокзального перрона. Неподалеку от станции, в сквере, вповалку отсыпались на весенней траве зенитчики, изнуренные беспокойной ночью.
Фургоны с красными крестами, проделав за этот день почти двухсоткилометровый путь, остановились лишь тогда, когда за холмами скрылись и черепичные крыши Сарн, и пойма разлившейся Горыни. Соблазняла мысль остановиться около реки, но начальник переправы властвовал и над прибрежными лугами, отгонял все машины прочь. Выбрали для ночевки опушку леса, растянувшегося по косогорам долины. А часом позже до команды выздоравливающих дошел слушок, что, видимо, обоснуются здесь надолго. Та полоса переднего края – севернее Ковеля, – которую предназначалось занять дивизии, находилась недалеко отсюда.
Еще не стемнело. Алексей, разминая занемевшее после тряски в машине тело, бродил по лесу. Если бы в батальоне знали, что он так близко, наверняка прислали бы кого-либо с почтой. Поднакопились, должно быть, письма от Вали, из Нагоровки… Может быть, навестили бы Фещук или Замостин? Хотя если вышли к переднему краю, то им работы хватает… И ждут его… А он все еще прохлаждается, все еще в стороне от их забот…
На лесной прогалине из влажной земли показались высокие глянцевитые лопасти свернутых в трубочки листьев. Зеленые свитки… Извечные манускрипты весны… Похожи на ландыши, однако самих цветов пока не видно. Только их волнующее предвестие – тонкий, нежный запах почек и оттаявшей после недавних заморозков коры, редкой молодой листвы. Алексей поднял руки, сделал глубокий вдох. Замер, прислушиваясь к себе. Та глухая боль, что перехватывала грудь раньше, почти не ощущалась. Еще один глубокий вдох, еще. С наслаждением повторил движение. Вместе с чистым лесным воздухом в грудь вливалась, распирала ее животворная бодрость. Сзади хрустнул валежник. Чьи-то шаги. Оглянулся и увидел за кустом орешника Султанову. В легкой салатного цвета кофточке. Снятый китель перебросила через руку. Вместе с ним будто скинула и обычную строгость, официальность и еще более по-девичьи похорошела, улыбалась.
– О, вот это я одобряю, Осташко. Лучшего места для зарядки не найти.
Неожиданная встреча ее нисколько не смутила, растерялся Алексей. Прежде, как и всех, называла его просто «больной», потом «выздоравливающий», оказывается, помнит и фамилию.
– Да, очень уж хорошо здесь, товарищ майор. Апрель, а, видите, зелень уже совсем майская. Не хватает соловьев…
– Наслышались их под Орлом и теперь скучаете?
– Ну, там сейчас концерт за концертом… Пора бы какой-либо бригаде залететь на гастроли и сюда.
– О, узнаю директора Дворца культуры…
Она и это, оказывается, знала!
– По-моему, где-то неподалеку ручей, а?
Султанова стала пробираться через кусты, и Алексею не оставалось ничего другого, как пойти следом за ней; потом опередил ее, отводя в сторону и придерживая перед ней цепкие, хлесткие ветки. Когда оборачивался, видел ее оживившееся лицо, блестевшие в лесной сумеречности глаза.
– Вы любите лес? – спросила она.
– Да, но запоздалой любовью… полюбил в войну. В Донбассе его маловато. С одной опушки видна другая… А помните Брянские? Зеленые храмы. Как остаться к ним равнодушным? Но говорят, что запоздалая любовь еще сильней.
– А там, где росла я, лес в горах и, конечно, не такой, как здесь. Здесь он слишком обильный… Растет без всякого для себя труда. А в горах, на камне, борется за место каждое деревцо. Алыча, кизил, дикие яблони, мачмала, карагачи, чинара… Маленькой могла пропадать там целыми днями.
– Одна?
– А что же страшного? В детстве или боятся каждого куста или совсем не знают, что такое опасность. Я тогда не знала…
– Зато столкнулись вдоволь с нею здесь, – проговорил Осташко. Он подумал, что, в конце концов, ее, женщину глухих и диких гор, не может не пугать то, с чем приходится встречаться на фронте. Она все же не согласилась.
– Ну, здесь я имею дело с теми опасностями, которые подстерегают других… Вас, ваших товарищей. Не меня. Обо мне не стоит и говорить…
Они прошли в глубь леса уже немало, но ручья все не было. То, что они приняли за журчание, было, наверное, просто шумом, шелестом листвы. Не попадались и ландыши. Алексей увидел какие-то незнакомые цветки с крохотными, как росинки, голубыми венчиками, сорвал их, преподнес.
– Пожалуйста…
– Что это за цветы?
– По-моему, медуница, товарищ майор.
Она подняла на него странные, словно шутливо испытывающие глаза, поправила:
– Меня зовут Мирвари…
Низкий, грубоватый голос ее, однако, ничуть не смягчился. Эти разрешающие дружескую близость слова, то, как жестко и упрямо она их произнесла, – было необычным. Алексею вспомнился разговор с Метцем. Сейчас он начинал верить тому, что тот рассказал о Султановой. И чем-то она нравилась больше и больше, эта горянка с погонами майора и таким певучим именем, вернее, не столько она сама, сколько ее характер, проявляемый так открыто, с вызывающей прямотой.
Все же ручей существовал. Размытое сошедшими талыми водами глинистое русло, а на дне его вороненый, еле заметный перелив тихих струй. Осташко нерешительно остановился, но Султанова молча протянула ему руку. Она была крепкой, натренированной… Рука хирурга!.. Помогая Султановой перейти, Алексей повернулся так, что на какие-то секунды их лица сблизились. На щеке затеплилось ее дыхание. В сумерках глаза Султановой показались еще бо́льшими. И в них гордый, черный блеск и ожидание…
И снова, признавая очарование этой гордой, в эту секунду такой доступной и влекущей красоты, Алексей вдруг ощутил, как в нем заговорило упорство, мужское самолюбие. Ах, вот как, черноглазая?! Оказывается, ты выбрала? Но выбрал, давно выбрал и я.
Он выпустил ее руку:
– Нам надо возвращаться, Мирвари… Темнеет.
…Когда через три дня он выписался и, простившись с Метцем, зашел проститься в палатку к Султановой, она его встретила такая же начальственно-замкнутая, надменная, словно и не было той минуты в лесу…
Назвать ее Мирвари? Нет, не осмелился. Однако все так пело в душе, что хотелось и ей сказать что-либо приятное. Задержал ее руку в своей.
– Спасибо, доктор, за все. Что вам пожелать хорошего? Поскорей вернуться в горы Карабаха, и пусть эти пальцы опять срывают алычу…
Она улыбнулась, пожалуй, впервые мягко и добро. Прощала?..
Проселками Алексей шел на Повурск, западней которого держали оборону части его дивизии. На дорогах было безлюдно, словно солнечный, приветливый день созвал всех, кто жил в разбросанных поодаль друг от друга хуторах, на невидимые пашни или на какие-то весенние празднества. Не встречались и военные. Лишь изредка какой-либо воткнутый в землю шест с приколоченной к нему указкой, а то и запашной лиловый дымок напоминали о том, что где-то вот там, в заблиставшей первой листвой роще или в ложбине, обосновалась знакомая солдатская жизнь… Спрямляя путь, он направился лугом и, проходя мимо одиноко стоявшего на опушке леса хуторского двора, вдруг в невольном изумлении остановился: у колодца плескались солдаты. На кольях тына висели их гимнастерки с зеленымипогонами и фуражки, новенькие фуражки с угольно-черным околышем и зеленымверхом… Все это оказалось таким неожиданным, что горло перехватил спазм… А ведь знал же, хорошо знал и много раз говорил другим, что дело идет к полному освобождению советской земли, знал и читал, что на юге почти месяц назад наши войска вышли к государственной границе, а вот сам воочию, в обыденной реальности, увидел пограничников и растрогался.
– Ребята, дайте попить.
– Пожалуйста, товарищ капитан… Нефедов, принеси кружку.
Алексей, нарочито медля, маленькими глотками пил воду, а сам, переполненный волнением, не сводил ликующего взгляда с этих висевших на тыну фуражек, новеньких, цвета молодой озими…
2После незабываемого орловского и это, второе, лето так многозначительно обещало щедро вместить в себя все желанное сердцу, все недавно казавшиеся дерзкими упования, крепнувшую веру в близкую, теперь уже близкую и полную победу. Зрели в нем новые, очистительно-суровые и тем самым благодетельные грозы.
Алексея ждала в батальоне целая пачка писем. И тоже весенних, солнечных. Валя писала о том, что их «Гипрогор» сейчас завален работой. Разрабатываются проекты восстановления Смоленска, Вязьмы, Новгорода (ей приходится часто выезжать – на одной из открыток стоял почтовый штемпель Ржева), но есть уже заявки с Украины.
Были письма от Василия. Они нашли друг друга только после освобождения Нагоровки. Василий прошлое лето тоже участвовал в боях на Орловщине, а сейчас, как и Алексей, находился на Первом Белорусском, но на каком именно участке этого размахнувшегося чуть ли не на тысячу километров фронта? Возможно, здесь же, в полосе сорок седьмой армии, в состав которой теперь вошла дивизия… Догадаться трудно. Несколько строк, в которых брат, вероятно, назвал какие-то населенные пункты, решительно вычеркнул химический карандаш цензора. А фраза «машу тебе крылышками», которой заканчивалось послание, конечно же ничего не поясняла. Их много было сейчас, этих крыльев, пролетающих над передним краем днем, неугомонно напоминавших о себе и ночью. Наша авиация бомбила Седлец, Демблин, Влодаву. Но, судя по письму Василия, он недавно вернулся к прежней специальности, можно думать, что он в истребительной авиации, в которой застало его начало войны там, в Эмильчино.
Отец в письмах не утаивал горечи. Месяц назад Алексей просил его рассказать, как выглядит Нагоровка: удалось ли чему-нибудь сохраниться, уцелеть. Отец отвечал, что главный проспект, да и многие другие улицы лежат в развалинах, а расчищать их пока некому – надо прежде всего поднимать шахты…
«А Дворец твой, Алеха, тоже взорвали немцы, когда драпали… Груда камней… Каждый день прохожу мимо него на рудник, и как гляну, аж сердце закипает…»
Знал бы отец, что у Алексея и сейчас еще лежат на дне вещмешка ключи от Дворца. Не стал их выбрасывать, и прочтя это отцовское письмо. Все же носил с собой два с половиной года! С теми первоначальными мыслями, с какими, покидая Дворец, он опустил в карман эту позванивающую связку, расстаться не мог, они углубились, вызрели… Можно разрушить и сравнять с землей стены, но уничтожить, испепелить память о том, чем жили в них люди, не под силу никому. Да и сами эти стены не только продолжали незримо существовать, но и раздвинулись, ощутимо и огромно раздвинулись сейчас для него, Алексея. От предгорий Тянь-Шаня, где он взял винтовку, и до этих ковельских пущ с замелькавшими в них зелеными фуражками. А вдуматься – так и пошире: на весь мир, на всю израненную, измученную землю, на которой с победой правого дела предстоит строить и любить, строить и верить.
Алексей считал, что он первым принесет в батальон весть о подошедших погранвойсках, но, оказывается, об этом уже знали все. Знали в штабе батальона и в ротах – они занимали вторую линию окопов, которая тянулась вдоль разлившейся по лугам речонки, а отсюда до временного расположения пограничников было совсем недалеко.
– Хорошие ребята, навещал их, – сказал Фещук. – Правда, старослужащих мало, один-два – в обчелся. Но с начальником заставы кое-что вспомнили. От Домачева в сорок первом почти рядом отходили. Глаз у него теперь стеклянный, свой потерял тогда… Комиссовать приказано, да упросил оставить. Шутит: «Кутузову можно было, а мне нельзя? Пока, мол, пограничный столб на место не поставлю, погоны не сниму».
– Да, полсотни километров – и Польша!.. Подумать только! – воскликнул Замостин.
– Позвольте уточнить по карте, товарищи командиры, – Трилисский развернул на коленях только что принесенную из штаба полка пятикилометровку. – Как здесь обозначено, область государственных интересов Германии… Читайте!
– С такими грабежными государственными интересами пусть распрощаются навсегда, – посмотрел на подсунутую начштаба карту Алексей. – Это надо забыть. Польша, и все!..
– Есть забыть, товарищ замполит! – охотно согласился Трилисский. – Кстати, товарищ капитан, в преддверии границы я достал одну любопытную вещицу. Можете взять ее себе на вооружение…
– Да не докучай, пожалуйста, хоть сейчас этой своей вещицей, – раздраженно, как будто услышал нечто знакомое и надоевшее, махнул рукой Фещук. – Успеешь еще. Капитану не до нее. Человеку после медсанбата надо осмотреться, а ты со своей цидулкой…
– Почему вы о ней отзываетесь так неуважительно, товарищ майор? – обиделся Трилисский. – Между тем, поговаривают, что она негласно рекомендована самой Москвой.
– Поговаривают! А ты и веришь! Что, у Москвы других забот сейчас нет!
– Напрасно вы так, право же, напрасно, – не сдавался начальник штаба. – Заботиться надо обо всем.
После этого разговора Алексей пошел в роты. За полтора месяца его отсутствия батальон пополнился, в каждом подразделении примечал новых, незнакомых людей. Но парторги рот остались прежние, и радостно было вновь встретиться с Солодовниковым, Зинько, Бреусом… Только минометчики оказались без своего партийного вожака – парторга тяжело ранило при недавней бомбежке.
Вернулся Алексей в штабной блиндаж поздно вечером. Там сидел за столом и что-то писал Трилисский. Увидев, что тот все еще держится обиженно и молчаливо, Алексей вспомнил прерванный разговор и сам спросил у начштаба, что тот хотел ему показать. Трилисский оживился, вынул из полевой сумки и протянул Алексею какую-то отпечатанную на машинке, многостраничную и довольно-таки зачитанную рукопись.
– Памятка, товарищ капитан. С трудом выпросил один экземпляр у Голикова. Есть кое-что полезное. Во всяком случае, пренебрегать ею, как пренебрегает комбат, по-моему, не стоит. Да вы и сами убедитесь…
Алексей читал и вначале никак не мог сообразить, почему Трилисский так настойчиво предлагает другим эти страницы. В них обстоятельно расписывались правила поведения – как вести себя в гостях, на улице, за обеденным столом… Что за чертовщина?! Потом вспомнил, что начштаба предложил памятку после того, как разговор зашел о близости границы, о Польше… «Можете взять себе на вооружение…» Ах, вот в чем дело! Он невольно улыбнулся.
– И вы усмехаетесь? – вспылил Трилисский. – Вот уж от вас этого не ожидал. Что вы находите здесь смешного?
Глаза Трилисского зажглись искренним негодованием. Обижать его вторично не хотелось. Он своей горячностью, непосредственностью напоминал Запольского.
– Смешного не вижу, – как можно мягче сказал Алексей. – Однако удивиться удивился… Почему надо размножать эту шпаргалку именно сейчас?
– Странный вопрос… Неужели непонятно? До сих пор мы воевали дома, на своей земле, а теперь… впереди чужбина.
– Так что же? Мы приглашаемся туда на светский раут?
– При чем тут светский раут? Это нормы поведения, приняты повсюду. Напомнить о них нелишне. И кроме того, здесь есть просто интересный познавательный материал.
– Ну, если познавательный, другое дело…
– Да, познавательный! Вам известно, например, откуда ведется обычай, предписывающий мужчине идти слева от женщины?
Алексей, улыбаясь, пожал плечами.
– Ага, вот и не знаете!
– Допустим…
– А это заведено исстари. Ведь оружие – саблю, рапиру – носили на левом боку, и, значит, так можно было быстрей и удобней выхватить его, чтобы рыцарски защитить женщину.
– Дорогой мой, – теперь уже не сдерживаясь, смеялся Алексей. – Мы ведь с вами хорошо, очень хорошо знаем другое… Начиная с тридцать восьмого года и позже многие потомки этих самых рыцарей, не говорю, что все, но многие, нисколечко не спешили выхватить оружие и защитить тех, кому исстари положено идти справа от мужчины. Так оно, это оружие, на левом боку и осталось… А Фещук не вкладывает его в ножны уже ровно три года. Кто же кого должен учить нормам поведения? Не мудрено, что он посматривает на эти назидания госпожи Семеновой искоса.
– Что за госпожа Семенова?
– А это вспомнился один виденный в Вологде старый экслибрис. «Кабинет для чтения госпожи Семеновой». Вот и подумалось, что и памятка с ее книжных полок…
– Значит, по-вашему мнению, она ни к чему?
– Я так не сказал бы… Но только пойми, мы уже бо́льшему можем поучить!
В блиндаж вошли Фещук, Замостин, и, щадя самолюбие начштаба, Алексей не стал продолжать спор, да он, в сущности, был закончен, по крайней мере для него. Если в последующие дни и приходилось мысленно возвращаться к нему, то уже по другому поводу.
…Седьмого июня стало известно о высадке войск союзников на северном побережье Франции. То, чего так долго ждали, о чем не один год писалось в дипломатических посланиях и представлениях, о чем говорилось и за «круглым столом» Тегерана, и у солдатских костров, наконец-то свершилось. Алексей читал газеты, отдавая должное грандиозности начавшейся операции – ее замыслу, масштабам, выполнению. Одиннадцать тысяч самолетов первой линии, брошенных в бой… Четырехтысячная армада кораблей, пересекшая Ла-Манш… Сотни линкоров, крейсеров и эсминцев, открывших огонь по побережью… Здорово!
Взял газеты и направился в окопы.
Принесенная им новость обрадовала всех. Вот она, долгожданная подмога! Но перечисляемая столь подробно военная техника, двинутая на материк, вроде бы никого не удивила. Во второй роте поинтересовались другой цифрой.
– Товарищ капитан, разрешите вопрос. А на сколько ж продвинулись?
– В этой газете пока не пишется. Но сегодня связисты поймали передачу… Якобы прошли в глубь побережья на десять миль.
– А по-нашему?
– Если округлить – примерно шестнадцать километров.
– Ясно!..
Задавал вопросы Рябцев и, услышав ответ, остался сидеть на лотке из-под мин с бесстрастным лицом. Что ему ясно? Алексей ждал, что он что-то добавит, но Рябцев флегматично завозился с кисетом.
– Знаете, почему он замолчал, товарищ капитан? – перехватив ожидающиий взгляд Осташко, вмешался Спасов. – Он сейчас арифметикой занялся, подсчитывает, сколько на его личном спидометре за три года нащелкало… Как, Рябцев, угадал я?
– Ты, Адам, да не угадаешь?! – ухмыльнулся Рябцев.
– И какую ж цифру подбил? Накрутило, пожалуй, с лихвой, если с сорок первого начать… А на твоем разве меньше?
– Я свой в госпиталях и на побывке выключал, у меня километры чистые, фронтовые. Без малого шесть тысяч. Можно хоть и на карте проверить этим, извините… как его… курвиметром. Однако все равно, если прикинуть их к Франции, то уже трижды туда и обратно прошел…
Об этой солдатской мере, с точностью спидометра отсчитывающей пройденные дороги войны, Алексей упомянул и в политдонесении, которое написал вечером в тот же день. Каретникову солдатские комментарии по поводу вторжения союзников понравились; стал по телефону уточнять фамилии солдат: видимо, собирался доложить выше…
– Однако умалять тоже не надо, – посчитал все-таки нужным предупредить он. – Читал сегодня интервью товарища Сталина?
– Нет, мы газет еще не получили..
– Так вот, почитаешь… Товарищ Сталин называет вторжение блестящим успехом, достижением высшего порядка… Что ж, правильно. Объединенные нации!.. Нам еще с ними не только доколачивать фашизм, но и потом вместе отвечать за все, что будет на земле…
Замолчал, но трубку не опустил: в ней слышалось его дыхание; держал свою и Алексей, пока после паузы не донеслось доверительно и устало произнесенное:
– А в общем-то и Рябцев со Спасовым правы… Признаться, и на моем спидометре тысчонок десять навертело… Недаром растоптал ноги на два номера больше. До войны сорок второй носил, а сейчас и сорок четвертый еле-еле натянешь.








