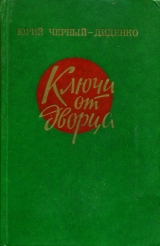
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 42 страниц)
Дивизия, что выгрузилась на станции «Лев Толстой», остановилась лишь после того, когда далеко позади были оставлены Лебедянь, Ефремов и на сменившихся командирских картах следующим ближайшим райцентром обозначился Новосиль. Но до него километров двенадцать не дошли. Свернули чуть в сторону, к небольшим деревенькам, разбросанным по увалистым склонам долины. Когда-то она являлась, наверное, руслом реки, а сейчас здесь подавал голос, по-апрельски лепетал и тренькал только ручей; правда, разлился и подбирался талыми водами выше голенищ. В безлюдной, полуразваленной – тут уже начиналась прифронтовая полоса – деревеньке и обосновался батальон Фещука. Здесь же на третий день и узнали, в чье подчинение наконец-то попала дивизия. Узнали не от вышестоящих штабов – связь только налаживали, – а от кольцевой полевой почты. Девчата с промчавшейся полуторки сбросили дежурному по батальону пачку газет, и он принес их Осташко. Развернув сверток, Алексей сразу же обратил внимание на эту незнакомую ранее газету.
– Смотри, майор, что-то новенькое… Любопытно, – протянул он комбату газету – двухполоску с заголовком «За Отечество!»
– А, старые друзья! Узнаешь, Замостин? – неожиданно заулыбался Фещук. – Вот где, оказывается, встретились! Это же шестьдесят третья армия, наша резервная, вологодская, брусничная и грибная…
– Как, да ведь шестьдесят третья уехала на Северо-Западный, – удивился Алексей.
– А что ей сейчас там делать? Болота мерять и леших считать? Сюда, сюда ее, голубушку. Здесь, наверное, лето будет пожарче. Ну-ка почитаем, на что нас нацеливают? Так, так… «Умей маскироваться…», «В ночном поиске…», «Лопата – друг солдата…», «Боевая подготовка бойца…», «Ветераны делятся опытом…». Все правильно, как и полагается. Попал бы этот номерок в лапы какого-нибудь гитлеровского генерала, ни черта бы он не понял…
– А ты понял? – недоверчиво спросил Алексей.
– Я? Еще бы! Перелопачивай, Фещук, землицу, начинай весенне-полевые работы, переползай, маскируйся… А ты, Осташко, оборудуй вместе с Замостиным свою наглядную агитацию и пропаганду…
– Я думал, что ты и в самом деле что-нибудь между строк прочел, – даже несколько разочарованно протянул Алексей.
– А разве не прочел? Тебе этого мало? Говорю же, что можешь хоть заново строить здесь свой Дворец культуры.
– Насчет Дворца не знаю, а если бы баньку успеть соорудить, было бы неплохо.
– Успеешь, гарантирую.
Все эти овраги, балочки, криницы, стежки и долы, луговины и косогоры, которые отныне стали просто расположениембатальона, разумеется же, издревле имели и продолжали иметь свои собственные, не схожие ни с какими другими имена. Но теперь они, словно заколдованные, укрылись за семью печатями. Те, чьи босые пятки вытоптали эти дорожки, кто в ночном раскладывал костры на толоке, кто пускал по ручьям хитроумно сооруженные из бересты баркасы и вскопал под грядки приткнувшуюся на склонах неудобь. А армейская домовитость поскупее – первое учебное поле, второе, сборный пункт, стрельбище, линейка, медпункт… Вот только разве луг на выходе из ложбины окрестили позатейливей – Бахваловским… Во славу батальонного повара! Здесь нашлись для его котла щавель, дикий лук, чеснок. Стены двухоконной избушки, где расположился штаб батальона, Трилисский в первые же дни густо обвешал расписаниями, планами-календарями боевой и политической подготовки, графиками дежурств и суточных нарядов.
Но порой совсем иная жизнь, некогда здесь обыденно и мирно утвержденная, вдруг да и напоминала о себе.
Как-то Алексей возвращался с политзанятий из второй роты, которая размещалась поодаль от остальных, в старых, оставшихся еще от сорок первого года блиндажах. Уже свернул было на дорожку, что вела к штабу, когда заметил поднявшегося из-за той стороны холма, где располагались хозяйственные службы, Чаплю. Увидел замполита и старшина и, срезая дорогу, заспешил навстречу. Чем-то явно взволнован, определил издали Осташко, но вроде бы ничего худого, улыбается.
– Товарищ капитан, омшаник нашли, – запыхавшись, выпалил он. На лице прямо-таки восторг. – Ребята из второй роты думали, что погреб заваленный, полезли посмотреть, а там омшаник… самый настоящий…
– Постой, постой… Толком скажи, что за омшаник?
– Ну, который для пчел… Зимовка ихняя. Семь ульев. Пасека, одним словом – мед!..
– А хозвзвод уже и облизывается? – недоверчиво произнес Алексей. – Там, наверное, после таких морозов не то что пчел, а единого трутня нет…
– Да, кажись, не вымерзли, сбереглись… Может, посмотрите, товарищ капитан, и распорядитесь? Все-таки ж добро. Хоть колхозное, хоть любительское…
Перед темным провалом, который вел в присыпанный почти на уровень с землей омшаник, сановито сидел на чурбаке Бахвалов. Сам он пролезть внутрь не порывался, благо, что и причина к этому есть уважительная – белый колпак, белая куртка… Но руководить руководил.
– Ты постукай их, постукай… отзовутся или нет? – покрикивал он, заглядывая в дыру. Оттуда, словно из угольного забоя, высунулась взъерошенная, с запутавшейся в волосах паутиной голова Рынды.
– Товарищ старшина… Виноват, товарищ капитан, – поправился он, увидев замполита. – Жужжат, ей-богу, жужжат.
– Интересно, что ж они тебе нажужжали?
– Просятся на волю, товарищ капитан, а все свое, накопленное, – в фонд обороны, нам, своим освободителям, защитникам Родины!.. – с разгорающимся вожделением воскликнул Рында.
– Ишь, скорый какой! Не думал, что во второй роте такие сладкоежки… Еще и политику подвел! А ты знаешь, что им и самим сейчас подкормка полагается?
Поддержал и Бахвалов.
– Это верно. Поначалу дай рацион, а тогда уже и с них требуй. Помню, дед держал дуплянки, так он весной пчелу обязательно сахарным сиропом подкреплял.
– Сахарным? Только и всего? – не унимался Рында. – Так я свою дневную пайку без всяких разговоров первый жертвую на это дело. И всю роту сагитирую… Это ж злодейство будет, если их здесь, в темнице, оставить…
– Может, и в самом деле выставим для подкормки, товарищ капитан? – выпрашивая согласие, произнес и Чапля. – На них и полпайки хватит. А то даже неудобно. Вернутся бабы, детвора и засомневаются: да русские люди тут стояли или же нет, что позволили пчеле погибнуть?!
– Хорошо, выставляйте, а потом посмотрим, что с ними делать, – распорядился Алексей. – Да поосторожней там копайтесь, а то и вас самих засыплет.
Когда он рассказал о находке Фещуку, тот недовольно засопел:
– А свиноферму заводить здесь не будем? Или крольчатник? У нас инспекторская поверка вот-вот, что называется, на носу… А мы, с благословения замполита, в пасечники?!
Алексей спокойно, и этим спокойствием как бы унимая раздраженность комбата, привел, на его взгляд, самый убедительный довод, какой высказал старшина. Ведь и впрямь вернутся, возможно, даже очень скоро вернутся сюда жители, погорельцы…
– Ладно, коль распорядился, так я твоего распоряжения не отменяю. Но и знать ничего не знаю… – Фещук опять посопел, помолчал, мысленно, наверное, осуждая свою уступчивость, потом командирски неумолимо махнул рукой. – Только подальше их, подальше… Чтоб в расположении я их не видел.
На другой день пять голубовато-бурой окраски ульев – две пчелиные семьи оказались погибшими – выстроились на опушке молоденького малинника, почти в километре от штаба. Можно было бы и позабыть о них. Но изредка то сдвоенным дозором, то разведчиками-одиночками, ведущими свой дерзкий поиск, они все-таки залетали и сюда, в штабной домик. Фещук оставался верным своему слову – «знать ничего не знаю», – старался их не замечать и ниже склонялся над столом. А Новожилов, присутствовавший при том разговоре комбата с замполитом, мгновенно спохватывался. Брал полотенце и тихо им помахивал. Желал услужить комбату и в то же время выдворить залетных гостей вежливо, деликатно, не обидеть их. Может быть, действительно уже предвидел тот день, когда на столе окажется котелок с пахучими сотами?
Слово «поверка» было у всех на устах, с ним заканчивали по самую завязку заполненный занятиями день, с ним поднимались поутру, чтобы снова шагать на учебные поля. Но, прежде чем прибыли поверяющие, в батальон явился еще один гость.
Однажды в обеденный перерыв, когда все штабные офицеры были в сборе – составляли очередной план-календарь, – Новожилов, неторопливо чинивший цыганской иглой оборвавшуюся полевую сумку комбата, вдруг весело обернулся:
– Товарищ майор, посмотрите, кто идет… Макар Минометкин!..
– А, пожаловал и к нам, бродяга?! – приподнял голову и, кинув взгляд в окно, довольно-таки равнодушно произнес Фещук. – Бери его сразу на себя, Осташко, мне сейчас возиться с ним нет времени.
Алексей увидел на тропинке устало тащившегося высокого, как жердь, и худого офицера. Через руку перекинута и волочится полой по земле шинель, совершенно излишняя при таком солнцепеке. Полевая сумка и пистолетная кобура неприкаянно болтаются у обвисшего пояса. И хотя эту фамилию, точнее, кличку Алексей услышал всего второй раз – первый раз в Кащубе, – а уж встречаться с ее владельцем и подавно не мог, все-таки почудились в лице подходившего гостя какие-то туманно знакомые черты.
Но вот отворилась дверь, Алексей всмотрелся и ошеломленно вскочил. На пороге стоял и щурился близорукими глазами секретарь редакции нагоровской городской газеты Степан Сорокин, и он же, оказывается, ныне титулованный армейской молвой Макар Минометкин.
– Необъятная наша Страна Советов, а все-таки для земляков и она тесна! – громогласно воскликнул он и шагнул навстречу Осташко, обнял его.
– Мне о тебе Каретников сказал, – немного погодя пояснил Сорокин. – Есть, мол, у нас новенький замполит, донбассовец… Соображаю – фамилия и имя сходятся… Ну, а когда узнал, что сей Алексей – видишь, как рифмы сыплются? – имел какое-то отношение к Дворцу культуры, сразу определил – не кто иной, как ты… И сюда!
– Ну, а мне бы никогда и в голову не стукнуло, кто укрылся под таким прозвищем.
– Ну, веди, веди земляка к себе, пусть отдохнет, – улыбаясь вместе со всеми, сказал Алексею Фещук.
В Нагоровке Алексей не так уже близко знал Сорокина, хотя одно время тот даже руководил литературным кружком во Дворце. Отношения их были полуслужебными-полуприятельскими. Секретарь редакции иногда разживался у директора Дворца контрамарками на спектакли для себя, для жены, а то и для друзей, для жен друзей. И Алексею не раз удавалось, вопреки бухгалтерским запретам, тиснуть бесплатно объявления в газете. Порой пробегала между ними и черная кошка. Это когда Сорокин, вот так проникнув по контрамарке в зрительный зал, отвечал затем вопиющей неблагодарностью. В хлесткой рецензии разносил какой-либо концерт или случайно заехавшего гастролера. Но сейчас даже этот, подчас явно несправедливый разнос вспоминался без зла. Тяжело было только возвращаться памятью к их последней встрече на крыльце школы перед опустевшим Домом Советов и к тому, как Сорокин ужаснулся, когда Алексей сказал, что ротацией теперь займется истребительный батальон…
– После того, как ты послал меня к черту, я оказался там же, где и ты, в Средней Азии… Только чуть подальше, в Ленинабаде, – рассказывал Сорокин. Сейчас наедине с Алексеем он словно снял с себя маску бывалого, тертого Макара Минометкина, глаза его стали задумчивыми, грустными. – Ну вот, там, в Ленинабаде, взяли меня библиотекарем в санитарный поезд… Видишь, как воюем, и такая должность есть, раньше я даже не знал… В общем, два рейса прошли удачно, а на третьем под Великими Луками разбомбили… Попал в резерв Главполитуправления… Донской проезд, пять… Оттуда в армейскую редакцию… Выходит, какое-то время находились в Вологде рядом. А ты где именно был на Северо-Западном? На Ловати? Александр Невский у тебя оттуда? «Мой предок Рача мышцой бранной святому Невскому служил…» Здорово сказал товарищ Пушкин. «Бранная мышца»! Она, я вижу, и у тебя окрепла. Ты и там, в батальоне, комиссарил?
Алексей стал было рассказывать, но когда увидел, что Сорокин этак деловито, буднично вынул блокнот и начал в нем что-то черкать, то сразу рассказ оборвал.
– Э, нет, дружище, так у нас разговор не получится.
– Почему? – в притворном изумлении округлил глаза Сорокин.
– Потому что не собираюсь стать героем твоего очерка. Может, когда-нибудь попозже, если еще встретимся, а сейчас рано. Избавь, пожалуйста.
– Да ты откуда взял, что я хочу сделать тебя героем? – в свой черед шутливо запротестовал Сорокин. – А если я собрался тебя хорошенько пропесочить? Ты забыл о моем основном армейском амплуа?
– Это уж другое дело… Но и тогда надо начинать не с меня. Отправляйся в роты.
– Ладно, не будем терять времени, еще ночью наговоримся. А сейчас и в самом деле похвались хорошим ротным парторгом… Есть в батальоне такие?
Алексей подумал о Солодовникове.
– А блокнот у тебя запасной имеется?
– Он что, такой разговорчивый?
– Ну, это уже как сумеешь к нему подойти, расшевелить.
– Пока удавалось. Позавчера получил интервью, а заодно с ним двадцать литров бензину даже у начальника тыла…
Солодовникова они нашли позади землянки, под яблоней. Что-то негромко читал. Трое бойцов плашмя лежали на траве, уперев локти, как пулеметные сошки, в землю, слушали. Осташко, еще подходя, жестом руки разрешил не подниматься.
– Что читаете, Солодовников?
– Иваном Куликовым заинтересовались, товарищ капитан.
– Нравится?
– Занятно, встречались и мне такие…
– Ты мне больше не нужен, – шепнул Алексею Сорокин, в голове которого, возможно, уже мелькали первые строчки будущей корреспонденции: «Я застал парторга роты, когда он знакомил своих товарищей по оружию с новым фронтовым рассказом Бориса Горбатова…»
Наведавшись к яблоне спустя полчаса, Алексей еще издали увидел, как одна за другой вспархивали под быстрым карандашом Степана страницы блокнота. Слышался голос Солодовникова:
– Ну, а пятый – Владимир. Этот связист. Уже четвертый год в армии. Воевал под Львовом, под Ленинградом.
Осташко понял, что появился рано, и не стал подходить. Впереди были еще Александр, Иван, Федор, сам Павел… Сорокин вернулся только перед ужином.
– Ну, Алеша, спасибо! В счастливый день я к тебе попал. Ошеломлю всю редакцию. Девять богатырей! Вот это Матрена Ефремовна постаралась! Послала на фронт два расчета… Эх, всех бы разыскать! Да не в очерк, а в плакат… И на все фронтовые перекрестки, на все станции… Смотрите, какая семья взялась за мечи!.. Большевики, хлеборобы, шахтеры, токари, трактористы… Такому парторгу есть что сказать солдатам. Отцовской крови! За таким пойдут!..
– Сами бы дошли только… Говорил он тебе, что от Владимира с первого дня войны нет писем? – спросил Осташко. – А он, видимо, политруком был… Красную звезду на рукаве носил…
– Что ты так сразу «был, был»… А может, партизанит? Война большая, Брянские и Калининские леса тоже не малые…
Новожилов принес и, почему-то виновато вздохнув, поставил на стол котелки с ужином. Сорокин пододвинул один, мельком заглянул в него, но, словно чего-то ожидая, не стал пока есть, продолжал говорить.
– Остывает, – перебил его Алексей, приглашающе кивнув на котелок. – Ложка с собой или, может, дать?
– Послушай, у тебя что, в самом деле ничего нет? – почти испуганными глазами глянул на земляка Сорокин.
Ах, вот в чем дело! Алексей рассмеялся.
– Второй эшелон, друг. Ничего не поделаешь. Не положено.
Степан величественно поднялся из-за стола.
– Где моя шинель?!
– Не дури, садись и ешь, – рассердился Алексей, подумав, что Сорокин собирается уйти.
– Я спрашиваю, где моя шинель?! – повышая голос, повторил Сорокин и, найдя ее, полез в карман, загадочно задержал там руку и вытащил флягу. – Сегодняшний день, быть может, подарил мне лучший очерк, а ты хочешь ужинать на сухую.
– Это что, тоже результат встречи с начальником тыла?
– А ты думал, что он богат только бензином?
Разлили.
Сорокин протянул руку к третьей, стоявшей на подоконнике кружке, глянул на Новожилова:
– Выпьем, старина?
– Я, товарищ капитан, вообще не пью. Категорически, – опасливо посмотрел Новожилов на замполита. – Но когда вот так предлагают, то считаю, что это от бога, и отказаться не смею…
– И часто тебе от него перепадает?
– Да пока не обижал.
– Ну, а это не от бога, а от Макара Минометкина.
Подняли кружки.
– За всех девятерых Солодовниковых! – торжественно провозгласил Сорокин. Немного погодя, уже закусив, тряхнул пустой флягой, точно сожалея, что не удастся выпить за каждого из братьев в отдельности.
Потом они лежали на топчанах, вспоминали Нагоровку, Донбасс.
– Хочешь, почитаю стихи? – предложил Сорокин.
– Свои?
– Отчего бы я стал читать чужие? Ты и сам грамотный. А эти на наборную кассу не рассчитаны. Просто так… Жене вместо писем… Не все же время быть Макаром. Порой нахлынет и иное…
Не меняя позы – он лежал на спине, закинув руки за голову, – Степан словно бы и стихами продолжал недавние раздумья. И Алексей слушал его, тоже отдавшись своим раздумьям. Не стал судить – хорошие ли это стихи или плохие… Только мимолетно всплыла в памяти та, к которой они были обращены. Когда-то в директорской ложе она, придвинувшись вплотную к барьеру, любила вертеть по сторонам своей хорошенькой чернокудрой головкой. Но перед глазами Алексея сейчас встала и другая, светленькая, незнакомая Степану.
А Степан между тем тихо, приглушенно продолжал:
…Где ты теперь, отцовская могила?
Разрывами снарядов взметена.
Его ты прах навряд ли сохранила,
Но в памяти моей навек сохранена…
И эти последние строки вызвали в памяти Алексея свое – август сорок первого года, когда отец уезжал в Тихорецкую. Не поцеловались даже на перроне, грубовато, по-мужски отогнали прочь тревогу друг за друга… А вот оно каким затянувшимся оказалось то, августовское, прощание…
Степан, припоминая выпавшие вдруг из памяти следующие строфы, что-то невнятно про себя залопотал, забубнил, но так и не припомнил, резко отвернулся лицом к стене:
– Ладно, хватит. И прошу тебя – ни слова! Никаких оваций. Будем спать.
7Поверяющие – их было трое – приехали перед вечером, и, глядя, как они после дальней дороги не спеша приводили себя в порядок, чистили запыленную одежду, умывались, ужинали, не спеша просматривали разные инструкции и вопросники, можно было подумать, что этак не спеша, покладисто потянется завтра и все остальное. Когда Осташко усомнился, не помешает ли поверке ожидавшаяся в этот вечер кинопередвижка, поверяющие запротестовали: «Пусть приезжает… Что она везет? «Антон Иванович сердится»? Тоже посмотрим».
В сумерках в ложбине замолотил движок.
Гостей уложили спать в штабном домике. Фещук и Осташко постелили себе во дворе, под навесом, кинув туда охапку накошенной хозвзводом луговой травы. В предчувствии завтрашнего напряженного дня оба силились поскорее заснуть и уже дремали, но тут скрипнула дверь. На крыльце, освещенная луной, показалась дородная фигура старшего поверяющей группы – полковника из армейского отдела формирования. Фещук стал обеспокоенно вспоминать – сказал он приехавшим или не сказал, куда в случае чего идти. Но шаги и уверенно нацеленный мотыльково-белый луч фонарика приближались к ним, спавшим. А потом в ночную тишину, перебиваемую лишь отдаленным знойным стрекотанием сверчков, полнозвучно упало:
– Объявляю тревогу!..
Ракетница была у Фещука с собой. В небо поднялись рябиновые гроздья, и еще не померкли, еще трепетали их отблески на холмах, в стеклах штаба, на откинутой крышке часов, которые держал в своей руке полковник, как сапоги и гимнастерки были надеты. Фещук и Алексей, на ходу затягивая пояса, побежали к пункту сбора. И началось привычное, знакомое и, как всегда, пугающее какими-либо неожиданностями, мыслью о чем-либо непредусмотренном, упущенном, позабытом. Ведь не могло не волновать то, ради чего все это предпринималось и задумывалось. Бой!.. Завтра или послезавтра, на раннем ли рассвете или вот так же ночью, внезапно, но, позванные на бой, на смерть, они не будут медлить, вступят в него готовно. В любую минуту! По присяге!
Полковник подходил к двухшеренговому строю шагом, который был выверен так же, как его часы. Алексей посмотрел на свои. Собрались и построились за шесть минут. Почти как в училище. Пожалуй, неплохо. Никто не запоздал, никто виноватым голосом не просит разрешения стать в строй. Все на месте. Кажется, довольны и поверяющие. Разошлись для беглого осмотра по ротам.
Фещук и Алексей думали, что вслед за тревогой будет отдан приказ на какой-либо короткий марш-бросок. Но поверяющие ограничились общим сбором, проверкой наличия оружия, затем последовала команда разойтись. Несколько минут в темноте цигарки искрились кучно, затем огоньки поплыли, закачались порознь.
Два наступивших за этой ночью дня были насыщены большими и малыми заботами, удачами и неудачами так туго и плотно, как под самую завязку бывает набит вещмешок новобранца. Политическую подготовку проверял майор из политотдела корпуса, пожилой, с гладко зачесанными назад волосами и желтоватыми глазами. Алексей поеживался от его дотошных вопросов, и порой, словно бы в утешение, хотелось себе представить, как в свою очередь будет поеживаться он, когда корпус станут проверять инспектора из штаба фронта. Но никакого утешения от этого не возникало. Майор легко и умело нащупывал не какие-то неожиданные для Осташко, ранее не замечаемые им промахи, а те, о которых он знал, которые предугадывал и потому теперь испытывал за них как бы удвоенную вину.
Но к концу третьего дня, когда уже провели и беседы в ротах, и совещание парторгов, и сбор агитаторов, почувствовал Алексей, что его поверяющий стал вроде бы доверительней, мягче. Алексей уже знал, что до войны он работал в Наркомпросе, руководил там каким-то методическим кабинетом. И это появившееся в нем новое, сближавшее обоих настроение схоже было с тем, с каким преподаватель на большой перемене покидает учительскую, чтобы запросто со всеми потолкаться в школьном коридоре.
Вечером третьего дня они возвращались с комсомольского собрания.
– Немного завидую вам, капитан, – неожиданно произнес майор. – Да-да! Завидую вашим годам и, следовательно, вашей должности.
– Да на сколько же вы старше, товарищ майор? – схитрил было Алексей, имея в виду только возраст и уклоняясь от того, чтобы сопоставлять остальное.
– И десять лет на войне весомая разница. Да и не только на войне. Когда я окончил пединститут и стал преподавать, то был старше своих учеников всего на десять лет. А на фронте такие, как я, оседают в корпусе, в дивизии, встречаются изредка и в штабах полка, а уже ниже не найдете.
Алексей молчал. Они шли степью, трава уже подросла по щиколотки, из-под ног не раз взлетали какие-то пичуги, скорее всего жаворонки.
– Скажите, капитан, вы сами давали кому-нибудь рекомендацию в партию?
– Здесь пока не имею права. В этом батальоне всего два месяца.
– А уже вот сейчас, будь у вас это право, хотелось бы им воспользоваться?
– Разумеется.
– А ну-ка назовите своих будущих кандидатов. Есть такие? Расскажите о них…
Алексей с минуту молча перебирал в памяти знакомые лица.
– Готов дать не задумываясь Талызину… Он здешний, орловский, воюет с сорок первого. Считаю, что подготовлен и лейтенант Золотарев. Дал бы, пожалуй, и Рынде, помните, вы спросили его о знамени?
– А если бы попросил рекомендацию Янчонок?
Алексей подумал.
– Пожалуй, еще молод. Он и в комсомол вступил только перед отъездом на фронт. Разве что накануне боя…
– А я бы дал и сейчас. И уверен, что он меня не подвел бы. Вспомните, как горячо, пылко говорил он о воинской чести… Не заученно, а по-своему, как подсказывает сердце, хотя все испытания для него еще впереди и всей тяжести их он не знает… Кстати, вы с какого года член партии?
– С тридцать восьмого… Долго ходил в кандидатах, был закрыт прием.
– Вот видите, стали коммунистом уже в зрелом возрасте… Я примерно тоже… Кандидатом приняли на рабфаке, а членом партии стал в начале пятилетки на Магнитке, работал там в учкомбинате. А Янчонок имеет право стать им и в свои двадцать… И это право дала ему партия по самой высшей и единственной справедливости… Вы, кажется, кончали военно-политическое ускоренным порядком?
– Да, за шесть месяцев.
– А у таких, как Янчонок, войной все ускорено. Юность, возмужание, гражданская зрелость. Вот перед боем пишут заявления – хочу умереть коммунистом. Почему так пишут? Он молодой, знает, что, возможно, ему не суждено получить от жизни все то, что она приносит – большую любовь, радость отцовства, выросшие знания и опыт, гордость за свой труд, уважение товарищей по труду… Но, допуская вероятность лишиться всего этого, он все-таки стремится хотя бы в какой-то час взглянуть на мир с самой вершины истории. С той, с которой смотрели на мир Ленин, Дзержинский, Киров, Шаумян, Гастелло… Это – честь, но перед атакой это и выношенное в душе право. Подняться, быть на этой вершине, прожить жизнь сполна! Понимаете, стремление прожить жизнь, вопреки всему, сполна! И я, старый школьный работник, не отказал бы в этом праве никому из своих учеников…
Разговаривая, они совсем замедлили шаг, затем остановились, закурили. Лицо майора, освещенное неярким огнем спички, было торжественно-строгим, каким оно бывает, когда человек поверяет собеседнику свое самое сокровенное, выношенное давно, в долгих раздумьях.
– Как у вас сложились отношения с комбатом? – уже другим, деловым тоном спросил майор, снова продолжая путь. – Довольны им?
– В каком смысле?
– Чувствует ли он свою ответственность за то, чем раньше главным образом занимались мы, политруки? Вы его заместитель, помогаете ему, а как помогает вам он?
– Пожаловаться не на что.
– Он кадровый командир?
– Да, был кремлевским курсантом… Рассказывал однажды, как стоял часовым у Мавзолея Ленина.
– Гм… Нам об этом ни слова… Поскромничал, видимо… – Майор помолчал, о чем-то раздумывая, потом спросил: – Вы сами бывали в Москве, на Красной площади, в Мавзолее?
– Дважды.
– Я почему об этом спросил… Очевидно, вы и сами замечали, проходя мимо часовых в Мавзолей. Они все кажутся схожими и потому словно бы безымянными, каким-то символом народа, который охраняет своего вождя… А между тем, вдумаемся, у каждого из них своя неповторимая родословная, своя неотделимая от жизни Родины биография… Кто с Волги, кто с Днепра, из рязанских и полтавских сел, с той же моей Магнитки, с ваших донецких шахт… До призыва в армию это просто Петьки, Алешки, Никишки, а вот повзрослели, надели шинели и стоят на самом первом посту. Поднялись к той самой вершине, о которой мы с вами говорили… Так что пусть ваш Фещук не скромничает… И, кстати, ваша задача сделать так, чтобы солдаты знали своих командиров, они у нас замечательные и разнятся, отличаются друг от друга не только количеством звездочек на погонах…
Внимательно слушавшему Алексею то казалось, что майор утверждает его в собственных же мыслях, в тех, которыми он делился еще с Борисовым, то думалось, что все-таки он раскрывает эти мысли с бо́льшей глубиной, с бо́льшим жизненным опытом. Понял он из этого разговора по дороге и то, что поверяющим батальон понравился и они остались им довольны.
Поверка подходила к концу. И она бы стала совсем благополучной, если бы не один случайный казус, который впоследствии стали называть «пчелиным инцидентом».
В день отъезда поверяющих сели обедать. И все шло своим чередом, пока на столе не появились на третье котелки с компотом. Им Чапля хлебосольно потчевал в знак завершения поверки – расчетливо придерживал для этого сухофрукты из того подарка, который неделю назад прислали полку колхозники Алма-Атинской области. И тут произошло непредвиденное. Едва начали лакомиться, как над котелком вжикнуло… Вначале никто из поверяющих этого не заметил. Но вот уже не одна, а с десяток темно-золотистых, со слюдяным блеском крылышек занозистых певуний начали выделывать свои стремительные виражи, закружились в опасной близости от голов сидевших, стали пикировать вниз к густому, благоухающему навару. До этого залетавшие в штаб и землянки пчелы-одиночки, не обнаружив в солдатском довольствии ничего привлекательного для себя, быстро удалялись прочь. А тут вдруг застали целое пиршество. Можно ли его миновать?
У полковника округлились глаза.
– Откуда у вас здесь пчелы? Неужели так богато живете.
Фещук пониже наклонился над столом, искоса разъяренно взглянул на Осташко. А ну-ка, мол, выкручивайся теперь сам. О пасеке, хотя придирчиво проверялась и хозяйственная служба, все в батальоне умолчали. Сейчас же заговорить об этом было бы и совсем неловко, совестно.
– Новожилов, выгоните их и закройте окно, – вместо того чтобы ответить на вопрос, распорядился Осташко.
Новожилов осторожненько замахал над головами обедающих полотенцем.
– Кыш-кыш, – уговаривающе зашептал он. – Ну и жадные тварюги. И откуда же исхитрились пронюхать… За сколько верст!..
Полковник насторожился.
– Ты, товарищ ефрейтор, что-то лишнее загнул… Прифронтовая полоса двадцать пять километров… При такой дали не пронюхаешь.
– Так они же как воробьи, товарищ полковник. Разве станут с этим считаться? Что им полоса? Без пропуска обходятся.
– Все равно, дальше чем на три-четыре километра за взятком ее полетят. Да и нет сейчас в том нужды. Лето хорошее, медоносы повсюду.
В этом разговоре – один вел его вынужденно, смущенно, а другой с каким-то явным удовольствием и любопытством – Осташко и Фещук не участвовали. Мысленно проклинали рвение Бахвалова и Чапли, молчали. И молчание их становилось подозрительным.
– Ну вот что, стрелки, – обратился полковник уже к ним. – Вы мне перестаньте голову морочить. Где у вас пчелы?
Дальше отделываться молчанием стало невозможно.
– По правде говоря, товарищ полковник…
– По правде… А как же иначе?
– Так точно, виноваты… Хозвзвод случайно нашел несколько ульев. Оставило население в омшанике. Что с ними, бесхозными, было делать? Весна! Выставили наружу.
– Ох и ловок же ты выворачиваться, замполит. И мед уже гнали? – поинтересовался полковник, многозначительно отставляя компот.
– Гнать-то нечем. А так собирались солдат… сотами побаловать.
– Теперь картина ясная. – Полковник повернулся к Новожилову: – А ты, старый солдат, что же вздумал? Вместе со своим начальством поверяющим офицерам очки втирать, обманывать?
– Так это же дело не военное, товарищ полковник… к службе никакого касательства. Одним словом, пчела…
– То-то и оно, что пчела… А я ее уж как-нибудь знаю и от шмеля всегда отличу. В двадцать втором году на Дальнем Востоке на погранзаставе недаром пасеку держали. Не раз случалось вместо буденовки брыль надевать. И когда на погранзаставу гости приезжали, то их медком не обходили.
Фещук и Алексей готовы были хоть перекреститься. Грозу пронесло. Счастье их, что полковник оказался и сам пчеловодом. Может, и впрямь позвать Бахвалова, пусть мотнется на пасеку, вынет рамку потяжелей? Но этой мелькнувшей было мысли не успели дать ходу.








