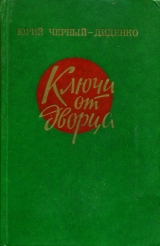
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Изменился не только он, изменились все. И, вероятно, со стороны это было еще заметнее.
Как-то в воскресенье к Цурикову приехала из Самарканда находившаяся там в эвакуации жена. Осташко в этот день дежурил на проходной. Он чаще других попадал в наряд именно по воскресеньям. Ведь ему не приходилось ждать увольнительную и дорожить ею так, как дорожили те, чьи семьи находились тут же, в Ташкенте, или где-либо поблизости. Об увольнении и не заикался. Оно ему было без надобности. Даже выручал товарищей, не раз дневалил за них в казарме, в столовке, на проходной, как сегодня. Отправив посыльного разыскать Цурикова, он с любопытством поглядывал на сидевшую у ворот шатеночку. В полосатом, местной, узбекской, выделки платьице, вся какая-то уютно-домашняя, среднего, если даже не ниже среднего роста, она казалась совсем не парой нескладному, рослому доценту, их неизменному правофланговому.
Цуриков вышел из ворот, и надо же было видеть в эту минуту оторопелое лицо жены.
– Боже мой, Гриша, какой же ты стал! – не решаясь кинуться ему на шею, всплеснула она руками.
– Какой? Хм… – прервавшимся от волнения голосом шутливо переспросил Цуриков. – Покрасивел?
Он приподнял ее за локотки и стал целовать.
– Не знаю… Не знаю… Но ты не такой, – плача и смеясь от счастья, повторяла Цурикова. – Не такой, как был, совершенно другой.
Только теперь и Алексей, вспомнив, как выглядел Цуриков в Уральске и потом, в первые училищные дни, заметил с удивлением, что он и впрямь изменился. Не стало прежней сутулости, и гимнастерка заправлена была в старательную оборочку, и весь он выглядел молодцевато, подтянуто, сравнявшись своей солдатской выправкой с остальными.
Из будки КПП в эти воскресные дни можно было и насмотреться и наслушаться всего. Навестить курсантов приезжали родственники отовсюду – из Голодной степи, Чирчика, даже из Ленинабада и Бухары. А семья Мамраимова – отец, жена, ребятишки – в один из дней заявилась из своего горного кишлака на трех ишаках. Алексей сам побежал разыскивать друга.
– Рустам, быстро на выход! Там к тебе целый кавалерийский эскадрон прибыл.
Мамраимов брился, смахнув со щек мыльную пену, вскочил.
– О аллах, спасибо, что не оставляешь своею милостью и политсостав. Теперь, Алеша, и мы покурим. – На ходу натягивая гимнастерку, он устремился к двери.
Смотреть на эти короткие воскресные встречи было занятно, и ничего схожего с завистью Алексей не испытывал. Слишком тягостный осадок, нет, даже не осадок, а мрачные пласты отягощали душу, лишь стоило вспомнить ту, которую он когда-то любил. Сейчас все это хотелось забыть, навсегда забыть, не упоминать даже мысленно ее имя. Все, пожалуй, мог бы простить, но лицемерие в любви, ложь?.. Это не прощается… И хорошо, что разрыв их произошел до войны, что его не ждет удар в спину… А Цурикова, видно, и до сих пор влюблена в своего доцента… Как засияли глаза! И жена Мамраимова тоже защебетала нечто такое, соловьиное, нежное, что понятно даже тому, кто ни бельмеса не понимает по-узбекски… Стоп, Алексей, вот, кажется, ты уже позавидовал!.. Он отвернулся, стал смотреть в другую сторону…
В неприятную обязанность дежурного входило не допускать у КПП толкучки, следить за тем, чтобы не собирались зеваки или же бабки, подторговывающие разным незамысловатым товаром – семечками, орехами, урюком. Но сейчас здесь не было никого, кроме какой-то одинокой женщины, которая стояла поодаль от проходной, явно робея, не решаясь подойти поближе. Зябнущая на холодном мартовском ветру в своем легоньком, нездешнего покрой пальтишке, она, однако, была с пустыми руками. Ждала? Кого? Вот она остановила одного курсанта, что-то спросила, тот отрицательно качнул головой; остановила другого – и тоже, видимо, напрасно. Алексей не выдержал и, поправив красную повязку на рукаве, шагнул с крыльца, направился к ней.
– Вы что здесь стоите? – окликнул он и тут же устыдился своего строгого голоса. На него глянули снизу вверх такие милые, мирные, просветленные задушевностью и спокойствием глаза, что смутить их – а они смутились, растерялись – бесцеремонным солдафонским возгласом самому показалось непростительной грубостью.
– Вы это мне? – спросила она, напрягаясь всем лицом так, как это делают глуховатые люди.
– Да, вы кого-либо ждете?
– Нет, я просто так, – торопливо проговорила она. – Я спрашивала, может быть, кому-нибудь надо постирать или погладить… Если нельзя, если запрещаете, извините… я уйду.
– Нет, почему же, спрашивайте… Только вряд ли… Вы что, не местная разве? – поинтересовался Алексей, про себя определив ее неискушенность и неопытность. Местные обращались с предложением таких услуг не к курсантам – что курсанту стирать, для него есть прачечная, – а к начальствующему составу, к преподавателям.
– Нет, нездешняя, из России. Я тут с мамой неподалеку живу… Я могла бы к утру все сделать, быстро и хорошо. Честное слово!
– Ну, меня бы вам уговаривать не пришлось, – шутливо заверил он. – Жаль, однако, что ничего нет. Что ж, подождите других.
Дальше расспрашивать ее он не стал. Она и без того посматривала на его нарукавную повязку боязливо, только вот разве на миг вспыхнула, стеснительно улыбнулась его шутке, но ведь и эта шутка не обнадеживала, не утешала.
Алексей возвратился к караульной будке, чувствуя, как отчего-то по-особому близко к сердцу принял заботы и огорчение этой незнакомой молодой женщины. За эти месяцы он как-то позабыл о том, что рядом, за стенами, живет, трудится, тоже изо всех сил напрягается в беспокойных нелегких заботах большой шумный город, позабылась, как давний тяжелый сон, даже привокзальная площадь с многотысячной мокнувшей под дождем голодной толпой, которую об увидел после приезда в Ташкент. Наверное, в этой толпе, дожидаясь своей очереди к уполномоченному горсовета, стояла и она? Пожалуй, до отчаяния тяжело приходится ей, если вот так вышла прямо к училищной проходной искать работенку. Мать, наверное, старенькая, пайка не хватает, да всего, всего сейчас не хватает… Так, мысленно посочувствовав приезжей, он вдруг, признался сам себе, что ему снова хочется увидеть ее глаза, услышать ее голос.
Он оглянулся. Она смотрела ему вслед, и в ее понурой фигурке еще взволнованней проступила растерянность и незащищенность.
Алексей, будто вспомнив что-то, вернулся.
– А вязать вы умеете?
– А что вам нужно? Варежки? – обрадовалась она.
– Нет, свитер.
– О, это сложней.
– Не пугайтесь, свитер есть. Надо только подштопать, починить.
– Тогда несите, – весело сказала она.
Алексей побежал в казарму. Был бы только на месте старшина. Повезло. Еще издали увидел дверь каптерки открытой. Торопливо разыскал и отпер свой чемодан. Свитер под мышку – и назад.
Она деловито и по-хозяйски расправила маленькими ладошками принесенное. Сразу заметила дырки на груди, прожженные махоркой, и дыры на локтях, насмешливо хмыкнула.
– Свитер вам не короткий?
– Нет, как раз по мне.
– Тогда все хорошо. Мы распустим вот эти обшлага, они лишние, и этими нитками наложим штопку. Только, конечно, за один день я не справлюсь…
– Пока и не к спеху. Это все впрок. Где потом вас разыщу?
– А я неподалеку живу. На Луначарской. Третья кибитка с левой стороны. Вы всегда мимо нас проходите, когда вас в поле ведут.
– «Ведут», – шутливо передразнил Алексей. – Из детских яслей, что ли?
– Извините, не хотела обидеть… В общем, спросите там Валю эвакуированную…
– Есть спросить эвакуированную Валю, – повторил Алексей, чувствуя, как необычно, впервые за долгие месяцы, затеплилось на губах девичье имя. – Тогда уж позвольте узнать, откуда эвакуированная?
– Из Москвы… Я, собственно, эвакуировалась из-за мамы… А так бы… – Она не договорила. – Вас, кажется, зовут.
С крыльца будки ему сигналил рукой посыльный.
– Да, это меня. До свиданья. Если понадоблюсь… Алексей Осташко… Из первой роты…
Утром другого дня, шагая в колонне по знакомой улице, Алексей скосил глаза влево. За воротами дувала голубела празднично расписанная кибитка с пристроенным к ней айваном – небольшой крытой верандой – и выведенной в окно жестяной трубой. Во дворе стояла чинара, неподалеку от нее конусообразный тадыр – плита для выпечки лепешек.
Он и потом, в последующие дни, не раз вот так, на ходу, тянулся ищущим взглядом к этому домику, чувствуя удовлетворение, что появилась и у него в этом городе какая-то небезразличная ему, Алексею, живая душа. А потом раздражался, мрачнел. Что тебе в ней? Мало одного урока? Хочешь получить еще один? Он готов был перенести и на эту незнакомую ему эвакуированную Валю все то оскорбительное, обидное, что пережил в свое время и не мог забыть. И все-таки трудно было удержаться, чтобы пройти по Луначарской, не посмотрев на третий от переулка домик… Однажды заметил во дворе женщину, рубившую арчу. Ветер скинул с ее головы платок, обнажил по-узбекски гладкий зачес черных волос. Нет, не она; наверное, хозяйка… В конце концов, если завтра или послезавтра не увидит ее, то попросится выйти из строя. На минуту. Подбежит, спросит о свитере – и назад…
Но вскоре начались боевые стрельбы, и курсанты теперь ходили за город в ущелье, где располагалось стрельбище. Алексея поджидали неприятности, неудачи, и он на какое-то время перестал и вспоминать о голубой кибитке… Старенькая и казавшаяся такой незамысловатой винтовка вдруг, попав к нему в руки, проявила свой норов. Он мазал и мазал…
Мараховец с насмешливой ленцой щурил красивые карие глаза.
– Курсант Осташко, винтовка образца какого года?
– Тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого, товарищ лейтенант.
– Значит, сколько лет она служит армии?
– Пятьдесят, товарищ лейтенант.
– Понимаете, что это означает?
Еще бы не понимать?!
Все более чем ясно. Полвека прошло. Палили из этой фузеи еще под Мукденом, потом в девятьсот четырнадцатом – под Перемышлем и Сувалками, потом в гражданскую войну – под Псковом и Перекопом, а вот теперь в руках будущего военного комиссара.
– Я вас аттестую политруком банно-прачечного отряда, – теперь уже гремел голос Мараховца. – Будете сидеть на берегу пруда и приглядываться к икрам полоскальщиц.
Как бы в последний раз предоставляя Алексею возможность исправиться и тем самым избежать упомянутой грозившей опасности, он отрывисто скомандовал:
– На огневой рубеж – шагом марш!
С трудом Алексей дотянул до удовлетворительной оценки. Он было уже упал духом.
И когда настало время стрелять из ручного пулемета, то подошел и лег перед ним вовсе без всяких надежд, загодя переживая свое невезение: чему быть – того не миновать.
И тут случилось чудо… Может, все дело в том, что на этот раз рядом с Алексеем оказался Герасименко со своим негромким приятельским говорком?
– Спокойненько, спокойненько. Что ты натянулся, как пружина? Расслабься. Только сошки поправь… И будет хорошо…
Все три пули выпущенной короткой очереди Алексей точно положил в цель. Сразу приободрился. Мараховец явно был удивлен – карие глаза округлились, стали еще выпуклей, поначалу не выставил и оценки. У остальных во взводе результаты стрельбы были хуже. В конце занятий Алексей стрелял опять. И снова три попадания. Он торжествовал и всю обратную дорогу с неким чувством благодарности нес пулемет, хоть был он вдвое тяжелей винтовки… Выручил, окрылил!
Как раз в этот день – а была суббота – дежуривший на контрольно-пропускном пункте Оршаков сказал Алексею, что его спрашивала какая-то женщина.
– Приметная – русявенькая, светлоглазая… Оказывается, ты уже здесь успел присмотреться? Эх, перевелись на Руси схимники…
Впервые Алексей попросил на воскресенье увольнительную. Нашелся для того и повод – день рождения. Старшина так изумился просьбе, что расчувствовался и даже пошел и достал в каптерке соседней роты другую, бо́льшую, фуражку. Все остальное обмундирование подновлять или чистить бесполезно – за эти месяцы оно обносилось так, что вся надежда возлагалась на свежий подворотничок и бравую выправку.
Майское солнце припекало по-июльски. В Донбассе в такую пору нередко случались и заморозки, а здесь все изнывало от зноя, плавилось, и над дувалами, над плоскими крышами жилищ зыбился раскаленный камнями улиц воздух.
Окна кибитки были распахнуты, наружу выбились чистенькие белые занавески.
Алексей постучал.
– Входите, – послышалось из комнаты. Голос женский. Ее? Он взялся за висевшее на двери – там, где привык видеть щеколду, – тяжелое железное кольцо. В недоумении повертел, потянул его – ничего не получалось. Изнутри поспешили на помощь. Открыла она сама. Узнав Алексея, обрадованно рассмеялась.
– А, забывчивый заказчик! Я вас три дня ищу.
Сейчас, когда он увидел ее не в пальто и в платке, а в ситцевом домашнем сарафанчике, обнажавшем до плеч еще не успевшие загореть руки и нежную шею, она ему показалась более рослой, чем прежде. Вероятно потому, что тогда встретил ее на площади и она озябла, жалась, а теперь под низким потолком кибитки чувствовала себя непринужденно, свободно. И к тому же не уложенные, а распущенные по-домашнему волосы. «А ведь она и в самом деле русявенькая», – вспомнил Алексей сказанное вчера Оршаковым.
– Занятия, нельзя было вырваться… – невнятно стал извиняться он. – Отпустили в порядке исключения…
– И чем вы его заслужили?
– Заслужила мама, она меня родила в этот день…
– Ах, вы сегодня именинник?! Поздравляю. Полагается дарить в этот день подарки, а я только возвращаю ваше.
Свитер лежал на подоконнике, она взяла его, протянула.
– Принимайте работу. Можете и выругать, если не угодила.
Он мял в руках свой нелепый толстый свитер, представляя себе, что́ она, вязавшая в такую несусветную жару, могла о нем подумать. Неженка? Маменькин сынок?
– Спасибо, эвакуированная Валя. Сколько я вам должен?
– Вы торопитесь? Прежде посмотрите, что я вам намудрила. Не хватило шерсти сделать воротник повыше, а все-таки чуть его подняла.
– Я вижу. Лучше не могла бы связать и моя бабушка.
– А я и училась у своей.
– И ваша прилежность налицо.
Не дождавшись, пока Валя назовет цену, Алексей отсчитал из вынутого портмоне деньги, положил на стол.
– Пожалуй, что-то слишком много… Право же, много, – неуверенно произнесла Валя.
– Ну, по нынешнему военному времени и расценки… Мы ведь не договаривались, – успокоил ее Алексей. Сам он все эти месяцы тратился только на курево. Но наслышался немало о баснословных ценах на ташкентских черных рынках.
Она все еще колебалась, как девчурка, которая видит заманчивое, но недоступное ей лакомство, и вдруг решилась:
– А вы знаете, хотя это и не совсем справедливо, но я их возьму… У меня больная мама. Лежит в больнице.
– Ну вот, тем более они кстати.
– Только тогда… тогда я угощу вас зеленым чаем. Не откажетесь? – Ее саму рассмешила эта попытка уравнять сделку. – Садитесь вот сюда. Правда, придется немного подождать, вскипячу чайник.
У окна стояла крохотная жестяная печурка, но жа́ру от нее не шло, в комнате, несмотря на знойный день, было прохладно. Валя пошевелила кочережкой, из-под светло-пушистого пепла пробилось синеватое, как на спиртовке, пламя.
– Чем это вы топите? – с пробудившейся профессиональной заинтересованностью спросил Алексей.
– Как чем? Углем, конечно.
– Странный какой-то… Бурый, наверное? Наш донецкий горит иначе.
– А вы из Донбасса? Откуда именно?
Алексей сказал.
– Это далеко от Красноармейска?
– Не очень… Полтора-два часа езды. А почему вы о нем спросили? Кто там у вас?
– Никого. Просто как раз прошлым летом наш институт собирался меня туда послать, ну, понятно, не одну, с бригадой… проектировать город для шахтеров. Двадцать третьего июня должны были выехать…
– Значит, вы архитектор?..
– Очень маленький… Будущий…
Она разлила в пиалы чай, поставила блюдечко с изюмом, заменявшим сахар.
Да, она закончила архитектурный институт, но по специальности работать пока не пришлось. Несколько недель не в счет. Ученичество. Их «Гипрогор» с началом войны наполовину опустел. Мужчины ушли строить оборонительные рубежи под Москвой. Ее оставили в отряде противовоздушной обороны – дежурила на крышах, тушила «зажигалки», но от них-то отделалась ожогами, а вот от одной, фугасной, досталась контузия, и теперь плохо слышит. В октябре мастерские «Гипрогора», вернее, то, что от них осталось, эвакуировали сюда, в Ташкент. Но здесь работы пока нет. Хотела устроиться воспитательницей в детдом – их требуется много, – но помешала глухота; только сейчас стало чуть лучше.
Когда Валя похвалилась, что ей стало чуть лучше, Алексей подумал, что она просто старалась, и не безуспешно, приноровиться к своей глухоте. Уже не просила говорить громче, а при разговоре смотрела на его губы и как бы видела, угадывала произносимые им слова. И он поймал себя на том, что тоже, без всякой к тому нужды, стал смотреть на ее губы, на эти по-девичьи полные, темно-розовые дольки, мягко очерченные и… добрые.
– А вы ничего не рассказали о себе, – упрекнула она.
– Зато вот уже который месяц каждое утро бужу вас песнями…
– Мы в шесть часов уже не спим, слушаем утреннюю сводку. Нет, в самом деле, почему о себе ничего не говорите?
– Мне это труднее, чем вам, Валя…
– Почему?
– Потому что все осталось, – а может быть, и ничего не осталось – по ту сторону… Шахта, на которой вырос… Дворец культуры, где работал…
– И семья?
– Отец… Вы о своем тоже ничего не сказали…
– Моего уже нет… Он как раз остался там… на той стороне… Погиб под Смоленском…
– Тогда простите меня, Валя…
– За что?
– Я ведь сказал, что мне труднее. Человеку всегда кажется, что его беда больше, чем у других…
– Я не жалуюсь… только, конечно, было бы куда легче, если бы взяли в армию. Но не гожусь. Да и маму не имею права бросить. Я у нее осталась одна. Хворает она у меня, старенькая… И здесь ей тяжело.
– Ну, будем надеяться, что теперь это уже недолго…
– Вы так считаете?
Алексею хотелось, очень хотелось обнадежить Валю какими-то неопровержимыми, весомыми доводами. Но радио слушала и она. А что он мог добавить еще? Сказать ей, осиротевшей в войну, как он, Осташко, вчера отличился на стрельбище? В Ташкенте? За тысячи верст от фронта?
– Да ведь в Москву хоть сейчас можно возвращаться, – уклончиво ответил он. – Что же вашему «Гипрогору» здесь делать? Уверен, что скоро он там понадобится.
Он ушел далеко за полдень. В окно увидел, что тень чинары переместилась в другую сторону, стала опять удлиняться. Дальше оставаться, пожалуй, неудобно, боялся выглядеть навязчивым. Пиалы давно отодвинуты, блюдечко с изюмом опорожнено. Но, прежде чем уйти, захотелось знать, что он будет здесь еще, будет вот так сидеть, смотреть на ее губы. Мысленно он подыскивал предлог для этого и теперь рассеянно слушал ее рассказ о выпускном курсе, о судьбе товарищей, подруг. Она эту рассеянность заметила.
– Вам уже скучно со мной, Алеша? Спешите?
– Куда бы?
– У вас в Ташкенте нет никого?
– А кто я здесь? Военный транзит… С увольнительной, полученной, наверное, в первый и последний раз… – поднялся Алексей, так и не найдя желанного предлога.
– Почему в последний? Разве уезжаете?
– Пока нет. Но, знаете, у нас принято уступать право на увольнительную более счастливым товарищам…
– В каком смысле счастливым?
– В самом обыденном. Допустим, кто не один…
– Интересно, и есть этому судьи? Старшины?
– О, они судят безошибочно.
– А сколько весит на их весах чашка дружеского зеленого чая? Помните, на нее вы можете здесь рассчитывать в любое время…
– Спасибо, Валя.
«Все-таки напросился», – беззастенчиво торжествовал Алексей, возвращаясь в училище.
13Но подошли дни, когда и заикаться об увольнении стало совестно. Близился выпуск. Начались зачетные стрельбы, ротные и батальонные учения. Уходили из расположения на целую неделю далеко в предгорья, а там и ночью, в степи, поднимал с земли неумолимый сигнал горниста. Ночной бой… Действия в головной заставе… Разведывательный поиск… Перед рассветом, когда над головами крупней и лучистей становились зеленоватые звезды, курсанты изнуренно падали на траву и, засыпая, видели такую же горячую полынную степь, размахнувшуюся там, между Доном и Волгой… Вести оттуда приходили все тревожней и тревожней. И желанной была лишь одна мысль: остались считанные дни, скоро выпуск. Дожидались приказа наркома об аттестации…
Однажды в перерыве между занятиями стало известно, что вечером в гости к курсантам приедет Алексей Толстой. В отличие от других, Осташко встретил это сообщение довольно равнодушно. Нагоровку в свое время навещало немало именитых московских и киевских писателей. Алексей тогда искренне гордился каждой такой встречей, радушно встречал гостей. Но сейчас? Ему казалось, что это не ко времени, что все это только разбередит сердце, вернет его к воспоминаниям, которые в конце концов ничего не дают, только отвлекают от главного, на чем сейчас сосредоточивались все силы души.
Он зашел в библиотеку, чтобы взять наставление по ручному пулемету. И прежде тоже заглядывал сюда только вот так, за пособиями. Да ничего другого в училищной библиотеке и не было, а если бы и оказалось, то все равно не нашлось бы для этого лишнего времени. И сейчас, отыскивая то, что ему понадобилось, он медленно повел взглядом по полкам. Книги теснились на них плотно, не разнясь друг от друга корешками, как не разнятся патроны в обойме. Одинаковые, броневого цвета обложки, унифицированный формат, удобный для того, чтобы сунуть любую из них в карман шинели. Уставы, уставы… Временный полевой… Внутренней службы, караульной, строевой, даже каким-то образом затесавшийся сюда корабельный, наставления по стрелковому делу, по миномету… История войн, учебники по тактике, хрестоматии по истории партии тоже в броневых обложках…
Библиотекарша поторапливала.
– Товарищ курсант, я закрываю. Идите в зал. Только что звонили, сказали, что выехал.
Алексей сидел недалеко от накрытого кумачом стола рядом с Мамраимовым. Ждали.
– Ты скажи, правда, что он граф? – любопытствовал Мамраимов.
– Да, потомственный… Из старинного рода…
– Вот это здорово. Русского городового видел, эмира бухарского видел, на своих беков и басмачей насмотрелся, а графа еще встречать не приходилось.
– Чудило, с кем же ты сравниваешь? Ну, был графом, а сейчас депутат Верховного Совета. Не за графство ж его выбрали…
Мамраимов заерзал на стуле еще нетерпеливей.
Из боковой двери на помост вышел полный пожилой человек с отечным желтым лицом – благообразно расчесанные на виски волосы открывали купол лба; взгляд насупленный, строгий. Сопровождал гостя Костров.
Зааплодировали. Толстой насупился еще больше, и шум оборвался. Алексей, тоже собиравшийся было аплодировать, опустил руки – кажущаяся неприветливость писателя не обидела никого. Он ею словно напомнил, что собрались не на концерт.
– Я прочту недавно написанный мною рассказ о войне.
Голос Толстого звучал глуховато, как голос человека, сдерживающего себя, заставляющего говорить только немногую часть из того, что хотел и мог бы сказать. Но и этой немногой части хватило, чтобы всем передалось волнение писателя. Они увидели стоявший над полупустынным смоленским селом месяц в морозных радугах-разводах и бледно синевший санный след, которым шел будущий партизан Андрюша Юденков, они услышали, как по-стеклянному кололось березовое полено под топором и потаенно скрипели в ночи калитки…
– «Пушкина любишь? – спрашивал старый учитель у Юденкова. – Звезда эта горит в твоем сердце? Культуру нашу местную, мудрую несешь в себе? Все мы виноваты, что мало холили ее, мало берегли…»
Тишина в зале была полной, строгой, как по-прежнему строгими были и лицо Толстого, и его глуховатый голос. Опустив голову, слушал Костров. Переполняясь этой вызывавшей суровые раздумья тишиной, Алексей неожиданно услышал, как нарушил ее раздавшийся позади какой-то странный звук. Невольно оглянулся. Позади него сидел Герасименко. По щеке помкомвзвода, сосредоточенно наклонившегося вперед и не замечавшего ничего по сторонам, медленно скатывалась слеза. Он наверняка не замечал и ее, может быть увидев в эту минуту такое же, запавшее в память село, заснеженный окоп на окраине, закоченевшее тело дружка у своих ног… Алексею стало страшно этой одинокой слезы, и он быстро отвернулся. Продолжал слушать, а перед глазами все еще маячило лицо Герасименко, и он впервые усомнился в том, к чему себя принуждал все эти месяцы. Огрубеть? Очерстветь? Это ли нужно? А может, наоборот? Может быть, как раз заново, со всей силой вернувшегося прежнего чувства надо вспомнить все то, чем когда-то радовала и так мила была жизнь? Все самое дорогое, сокровенное, самое близкое сердцу, без чего не мыслились ни дни, набегавшие вплотную, ни отдаленное будущее. Может быть, как раз из нежности и рождаются ненависть и ожесточение, которые ведут человека в войну и делают его грозным, неумолимым для врага?
Аплодисменты и сейчас, когда Толстой закончил чтение, показались ненужными, лишними. Костров поблагодарил гостя. Встали, зашаркали сотнями ног к выходу.
– А ты прав, Алеша, – проговорил Мамраимов, проталкиваясь вместе с Осташко к дверям.
– В чем?
– Умница он… Что там граф?! Народный депутат! Вот главное! Я словно и сам в том смоленском селе побывал…
– Взяло за сердце?
– Взяло. Надо бы и раньше такое нам, политрукам. Не одними уставами жив человек. А то вспомнили перед самым отъездом.
До отбоя еще было далеко, но никаких занятий не предвиделось – впервые за последние дни выпали свободные часы. Многие потянулись к воротам – вдруг накануне выпуска приехал кто-либо навестить? Вышел за проходную и Алексей, втайне надеясь встретить там Валю. Но ему не хотелось бы увидеть ее такой, как тогда, три недели назад, – останавливающей и предлагающей свои услуги другим. Но чего бы иначе она подошла к воротам? Разыскивать его? А хотя бы и так. Знает ведь, что не сегодня-завтра он уезжает. Недаром же в это воскресенье она так быстро наловчилась по его губам угадывать все, что он говорил, не переспрашивала, и он тоже смотрел на ее губы, и она не смущалась, а, заметив это, даже повеселела и звала его приходить в любое время… Может, и ей, оказавшейся со своими невзгодами и печалями в этом чужом городе, нравилось быть с ним и он не безразличен ей, чем-то выделен ею из той колонны, что по утрам маршировала мимо дома?
Но на площади не было никого, кроме старухи-узбечки, сидевшей перед щербатой эмалированной миской с рассыпчатым темно-зеленым ворохом самосада. Заходило солнце, к исходу клонился день, один из немногих оставшихся перед тем долгожданным днем выпуска.
На крыльце проходной стоял и покуривал Герасименко. С его лица еще не сошла взволнованность. Затягивался цигаркою жадно, глубоко, как затягиваются, когда успокаивают себя.
Алексей решился.
– Товарищ помкомвзвода, разрешите отлучиться на полчаса.
– Без увольнительной?
– Да это рядом… Луначарская…
– Ладно, идите. На мою ответственность… Только попроворней, не подведите.
Алексей зашагал быстро, будто боясь передумать. Сам еще не знал, как он объяснит свое неожиданное и позднее появление, что скажет… Просто по ее глазам, по ее губам догадается и поймет – желанный он или нежеланный… Ее глаза не солгут.
А ведь как беспомощно отгонял прочь от сердца все, в чем по сложившемуся за эти месяцы убеждению подозревал помеху, обузу душе, но вот знакомый дувал, знакомая чинара во дворе, и сердце забилось горячей, нетерпеливей…
Темнела открытая дверь. Остановился на пороге, позвал:
– Валя!..
– Кто там?
– Это я… Алексей…
Она вышла на свет, и по ее вспыхнувшему, зардевшемуся лицу он понял, что его здесь ждали.








