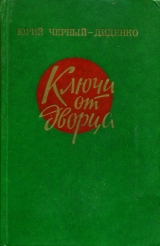
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Ключи от дворца
КЛЮЧИ ОТ ДВОРЦА
Роман
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1Казалось непостижимым, что, вопреки беде, которая сжимала сердца людей, они все-таки продолжали цепко примечать издавна милую смену времен года – пленительный переход от летнего зноя, сделавшего ломкой листву тополей и акаций, к прохладе и прозрачности августовских зорь, к шелковисто-светлой пряже, замерцавшей над тротуарами, наконец, к первому инею, выбелившему крыши домов и кусты сирени, что упрямо устояла перед заморозками. А возможно, такой переход в пору всеобщей беды даже еще сильней, с пронзающей болью западал в душу оттого, что люди надолго, а кто и навсегда, прощались с привычным, мирным чередованием дней. Отныне этим дням суждено было понестись стремительно, лихорадочно, встревоженно. И уже в окнах отведенной под госпиталь школы-десятилетки забелели халаты медсестер. Уже лопаты, те самые лопаты, что недавно вскапывали огороды, теперь поспешно углубляли во дворах щели-укрытия. Уже реже стали появляться почтальоны, а их сумки наполовину опустели без киевских и московских газет. И косяки журавлей, пролетающие на юг и привыкшие видеть на своем пути этот край густо расшитым соцветиями огней, беспокойно курлыкали, удивляясь, что тянется и тянется под крыльями загадочная, непроницаемая темень…
Осташко возвращался с шахты далеко за полночь. Он обогнул сонно шумевшие градирни и зашагал вдоль железнодорожного полотна к мосту, который соединял старую часть города с новой. Сколько раз проходил он этой дорогой, знакомой до каждого камушка под ногами, а никогда еще не было так тяжело, как сейчас. Он даже пожалел, что сам вызвался выполнить горькое, тягостное поручение горкома, да еще вдобавок уступил нахлынувшему влечению и спустился в шахту. Обрек себя еще на одну бессонную ночь, а взамен – что на душе? Лишь в какую-то минуту, когда он вышел из клети под бетонные своды ярко освещенного квершлага, услышал властно нагнетаемый разгаром рабочей смены ровный гул вагонеток и обыденные сигналы рукоятчика, увидел сваленный у ствола свежего распила лес, возникло обманчивое ощущение, будто то, что осталось там, наверху, просто дурной сон, а здесь все по-прежнему незыблемо. Но тут же из ниши, где стоял телефон – Осташко как раз проходил мимо нее, – раздался девичий голос:
– Павлинка, Павлинка! Механика нужно… Полчаса звоню… Механика вызови, слышь? Да что молчишь? Уже разбомбили вас там наверху, что ли?
И хотя голос был не таким уж обеспокоенным, а даже задорным и хорошо знакомым, – Осташко узнал мотористку, которая много лет занималась в хоровом кружке Дворца, – все равно мысли возвращались к тому, что осталось там, наверху, – тревожному, страшному…
Он свернул в штрек седьмого участка, единственного участка, который еще продолжал работать. Луч аккумуляторки метался и высвечивал подпиравшие кровлю пары, скользил по накатанным до лунного блеска рельсам. Гул колес то затихал, словно относимый ветром, то снова нарастал, а Осташко уже не мог пересилить зловещего предчувствия, что видит он все это и слышит в последний раз.
В забое рубил уголь Шапочка, старый забойщик, школу которого прошел едва ли не каждый второй из молодых шахтеров рудника, да и сам Осташко в свое время перед памятным, повернувшим его судьбу отъездом в Ленинград лесогонил в бригаде Семена Ивановича. Шапочка сейчас не мог не заметить присевшего неподалеку Осташко, но работу не прервал. Обнаженный по пояс, он рассекал «куток» и упрямо ворочался в теснине пласта, словно раздвигал его не отбойным молотком, а всей своей прерывисто вздымавшейся грудью, локтями по-стариковски узловатых, но еще крепких, мускулистых рук. Лишь закончив рассечку, опустил молоток и, отирая, вернее, размазывая ладонью на удлиненном морщинистом лице пот и угольную пыль, повернулся к Осташко.
– Ну что, Алешка, там, наверху? Будем в этом году солить огурцы или нет?
Он все еще шутил!.. Если не в голосе, то во взгляде, которым встретил сочувственный взгляд Алексея, сохранилась, да, все еще сохранилась и выдала себя блеском глаз притаенная надежда на какую-либо бодрящую весть.
– Плохо, Семен Иванович, очень плохо, – признался Осташко, понимая, что в любом случае обязан сказать всю тяжкую правду, не подкрашивая ее никакими словами утешения.
– Небось жмут и по эту сторону Днепра?
– Да… Считай, что уже здесь, в Донбассе…
– Тогда, выходит, напрасно и стараемся тут? Есть насчет нашего брата-забойщика какая команда?
– Только что был в шахтоуправлении. Передал решение горкома – сворачивать работу…
– Что ж так, товарищи командиры? – подавленно спросил Шапочка.
Алексей отвечать не стал. Молчали.
– Эх, хлопцы, хлопцы! – тоскливо вздохнул забойщик, и этот укоризненный его возглас больно задел Алексея. Упрекает? До того ли сейчас?
– Ты тоже таким хлопцем был… разве чуть постарше, когда Донбасс деникинцам оставлял…
– Э, сравнил! Что тогда оставляли? Обушки? Горемычные землянки?
– В землянках люди жили… Пацаном был, а помню, как стоял у террикона и ревел, когда красные отходили.
– То другое время, Алеша, было. Тогда против нас четырнадцать держав шло, а мы одни…
– Мы и сейчас пока одни. А он, Гитлер, тоже не меньше держав в Европе обобрал, прежде чем на нас двинуться.
– Зато ж Врангелю рудников не отдали, шиш показали. Сказал Ленин во что бы то ни стало удержать Донбасс – и удержали. А черный барон тоже с танками пёр…
– То комашки перед нынешними… Да что я тебе объясняю? Сам не хуже меня знаешь.
– Сам… Да уж, конечно, и сам вижу… – повторил Шапочка. И вдруг странно замигал глазами, невпопад зашарил рукой по холодному сланцу, нащупывая молоток, нашел его и, будто мгновенно позабыв об Алексее, придвинулся к пласту. Молоток взъярился, застучал, над забоем взметнулось, нависло, становясь плотней и плотней, облако угольной пыли. Шапочка с ожесточенной силой вгонял пику в пласт, ломал его, откалывал крупные глыбы угля, не глядя по сторонам, без единой минуты передышки. Исступленно бился, содрогался отбойный молоток, содрогались вцепившиеся в него руки, содрогались, тряслись плечи, круто выгнутая спина… И Алексей понял, что старый забойщик сейчас переживает то же, думает о том, о чем и он сам, – прощается с шахтой… Да, все это в последний раз… С этой мыслью и поднялся Осташко час спустя на-гора…
– Стой! Кто идет? Пропуск! – внезапно всполошился и окликнул его уже на той стороне моста по-мальчишески ломкий, настуженный голос.
Осташко вынул из верхнего кармана и протянул картонный квадратик, забеспокоившись не столько за себя, сколько за этого парнишку из истребительного батальона – как он сможет во тьме что-либо прочесть? Но подошел еще один боец, вероятно старший, и они, заслоняя свет, пустили в ход карманный фонарик, спустя минуту вернули пропуск.
– Что же вы, товарищ Осташко, пошли по боковой дорожке?
– А что такое? Нельзя? Пешеходная ведь.
– Была пешеходная, да только еще неделю назад перила сняли… Мастерским полуторадюймовое железо понадобилось. Там же при входе приколотили перекладину. Разве не заметили?
– Кажется, что-то действительно было… – Алексей вспомнил, что споткнулся о какую-то доску и ногой отбросил ее прочь.
– Вот видите, – пожурил патрульный, – а вы напрямик. В рубашке, видать, родились… Иначе бы… полшага в сторону – и все… Мост-то высокий.
– Фу ты черт, действительно глупо получилось. – Алексей оторопело оглянулся на оставшийся позади мост. В самом деле, стоило ему сделать роковые полшага в сторону или же на ходу протянуть руку туда, где она раньше всегда находила отполированные множеством ладоней прутья перил, и полетел бы вниз головой на рельсы… Но он чудом счастливо миновал эти сто зловещих метров просто потому, что шагал прямо, ни на минуту не усомнившись, что рядом есть незримая в этот поздний час, но оберегающая прохожих, надежная опора… И хотя, побывав вот так нежданно рядом со смертью, очутившись бок о бок с ее ледяным плечом, Осташко долго не мог отогнать от сердца жутковатый холодок, в то же время резко и отчетливо прояснились, очистились от смятения все мысли… Главное – ни на шаг не свернуть в сторону! Не усомниться! Не поддаться растерянности. Тогда можно пройти по кромке любого обрыва, какая бы бездна ни чернела внизу под ногами. И он теперь с душевным облегчением распространял этот свой вывод не только на свою везучую судьбу, но и на судьбу Шапочки и всех его хлопцев, на судьбу всей своей страны, своего народа. Идти прямо! Не колеблясь! Не поддаваться малодушию. Лишь это спасет.
Дворец культуры выступил из темноты молчаливой, сиротски заброшенной громадой. Прежде круглую ночь не гасла на его фронтоне шахтерская лампочка, освещая цементные страницы раскрытой книги и барельеф Ильича. И даже за полночь всегда горело какое-либо окно. Чаще всего в комнате драматического кружка или в изостудии. Сейчас – ни зги. Однако что это – неужели почудилось? В угловом окне второго этажа, там, где помещалась библиотека, вроде бы внезапно прорезалась и так же внезапно исчезла узкая темно-золотистая полоска. Осташко невольным жестом нащупал в кармане ключи. Хотя уже второй месяц работал в горкоме партии, а все-таки не расставался с ними, как не расставался и с печатью правления – некому передавать. Позавчера сам же оттиснул ее на эвакуационном удостоверении библиотекарши, и где-то, наверное, уже далеко – за Доном или за Волгой, – уходящий на восток эшелон. «Конечно, почудилось». Но тут же снова по мертвенно-тусклому стеклу окна полыхнул неяркий отблеск, и Осташко поднялся на крыльцо, отпер дверь. Знал, что свет Дворцу давно не дают, но все-таки нащупал выключатель, впустую щелкнул им и, еще более недоумевая, пошел темными коридорами в глубь здания.
За стеклянной дверью читального зала горели свечи. Лавр Семенович стоял на стуле и снимал со стены картину. Ему помогал Лембик. И художник и завхоз не слышали шагов Осташко, и он, остановившись у порога, несколько минут молчаливо наблюдал за ними. Картина, которую они сейчас держали в руках, была особой достопримечательностью Дворца. Дар ныне известного всей стране живописца, чьи полотна были выставлены и в Третьяковке. В пору своей молодости, вскоре после революции, он приезжал из Москвы сюда, на шахту, рисовать и тогда же оставил городу эту едва ли не первую свою значительную работу. Незамысловатое название – «Кружок ликбеза». В те годы еще не было этого Дворца культуры с его театральным, лекционным и спортивным залами, с вертящейся сценой, с многочисленными кружками и студиями; рабочий клуб тогда теснился в трехоконном деревянном домике около рудничных ворот; здесь проходили занятия ликбеза… Картина была написана маслом в строгих темных тонах, но на лицах бородатых учеников отражалась такая неуемная жажда познания и прямо-таки детская изумленность перед своими первыми открытиями, что казалось, в низкой комнатушке помимо чадящей керосиновой лампы есть и еще какой-то, куда более сильный источник света. Центральную фигуру картины, шахтера, придерживающего одной рукой обношенную, сползающую с плеч шинель, а другой раскрывшего букварь, художник рисовал с Семена Ивановича Шапочки. В чернявом, запальчивого вида подростке-культармейце, который сидел рядом с Шапочкой, Алексей легко узнавал самого себя. Первое поручение комсомольской ячейки!.. Полотно обрамлялось багетом из мореного дуба и было на месте здесь, в просторном читальном зале, напоминая о не таком уж далеком прошлом.
В руке Лавра Семеновича что-то сверкнуло. Бритва?! Ее лезвие словно полоснуло Осташко по сердцу, и он, вскрикнув, шагнул вперед. Федоров вздрогнул, вскинул голову. В глазах – страдание, безумная отрешенность человека, только что, вопреки своему побуждению, учинившего святотатство. А Лембик глянул на Осташко грустно, сочувственно.
– Прости, Алеша, что без тебя распорядились… Что поделаешь? Думали, думали, и ничего другого на ум не пришло… Не оставлять же… В рамах, сам понимаешь, не увезти, а так иное дело… На самый худой конец легче и прятать. Верно ведь?
– А почему вы еще здесь, почему не уехали с заводским эшелоном? – не отвечая Лембику и этим косвенно подтверждая свое согласие с ним, напустился Осташко на Федорова. – Кировцы уехали три дня назад… Вы ждете, что вам подадут отдельный вагон?
Это было сказано, конечно, грубо, но Алексей по-настоящему рассердился. После того как Дворец закрылся, он работал в горкоме и отвечал за эвакуацию школ, техникума, детдома, больниц, а вот, оказывается, здесь, во Дворце, где и подавно должны бы с ним считаться, самовольничают. И кто? Старый, больной Федоров, которому в случае непредвиденной задержки с эшелонами так просто из города не уйти. А Федоров стоял все так же отрешенно, страдальчески глядя на свернувшийся в его руках холст. Лишь минуту спустя повернул к Алексею бледное, совсем осунувшееся в эти дни лицо и поднял глаза, в которых наконец-то проглянула осмысленность.
– Я был на станции, Алексей Игнатьевич. Отправил жену… И сам сел в вагон… Но потом вернулся… Потом понял, что одного себя спасти невозможно… Да, невозможно…
– Кажется, вы уезжаете не одни…
– Вы меня не так поняли, – твердо поправил Федоров и повел взглядом по стенам зала, где в тяжелых рамах висели другие собранные им картины. – Я много пожил… И ведь это тоже я!.. И там тоже я!.. – Он кивнул на дверь, что вела в Большую гостиную.
– Ну что ты пристал к человеку? – вмешался Лембик. – Не беспокойся, уедет. Фашистам его не оставим. Это уж моя забота…
– Ишь, облегчил. Спасибо! Только все же горком спросит не с тебя, а с меня. Кстати, и тебе самому пора в дорогу. Не нужен ты больше здесь. Обойдемся.
– А вот это, Алексей, извини, ты уж сунул нос не в свое дело… Обойдутся без Лембика или не обойдутся – судить не тебе… Давай помолчим об этом, – решительно оборвал завхоз разговор о себе. Он сразу будто замкнулся. И Осташко понял, что коснулся недозволенного даже ему, работнику горкома, коснулся того, о чем в эти дни идет речь разве лишь там, за плотно обитой дверью кабинета первого секретаря.
Но Лембику, наверное, показалось, что Алексей обиделся, а обижать его сейчас никак не хотелось, и он уже иным, примирительным, дружеским тоном спросил:
– Ты ведь политруком, кажется, аттестован?
– Политруком…
– Видишь, а я рядовой красноармеец, да и то бывший… Пятьдесят шестой год. Ни под первую, ни под вторую очередь мобилизации не подхожу. Не знаю, дойдет ли дело до третьей. А того обстоятельства, что в гражданскую партизанил, военкомат во внимание не принимает. Списали… Тут ты прав… Однако распоряжаюсь собой сам.
– И собой распорядиться надо умеючи.
– Есть распорядиться умеючи, товарищ политрук!
Осташко не мог не почувствовать, что его завхоз, дотошливо считавший во Дворце каждую копейку, каждый лист бумаги и, казалось, ничем другим не интересовавшийся, теперь словно бы приподнялся над ним, Алексеем, своим житейским опытом, бывалостью, знанием своего места в завтрашнем дне.
Федоров и Лембик снова взялись за дело – снимали одну за другой картины, освобождали полотна от рам. В помощи они не нуждались: никто в городе лучше Лавра Семеновича истинной ценности каждого холста не знал.
Алексея неудержимо потянуло к книжным стеллажам. Неужели и здесь он в последний раз? А ведь библиотека, лучшая не только в городе, но, пожалуй, и в области, создавалась и вырастала при нем. Он стал одним из первых ее читателей еще мальчишкой, в те времена, когда на ее полках лежали только первые советские кодексы, тощенькие брошюры о продналоге, о комбедах, о борьбе с разрухой, прижизненные издания Ленина; потом – тоже первые – послереволюционные издания Чернышевского, Толстого, Шевченко, Герцена, Коцюбинского, Короленко, Горького, на пошерхлых страницах которых перед ним, шахтарчуком, открывалась волнующая людская правда… Много позже, когда после учебы в Ленинграде он стал директором Дворца культуры, среди всех привязанностей, владевших сердцем, сильнее всего была привязанность к библиотеке. Может быть, потому, что здесь не приходилось мириться со второсортностью, а получать все из первых рук лучшее? И как он хитрил со сметами, как он спорил в культотделах, в бибколлекторах, в шахткоме, выкраивая лишнюю сотню рублей на пополнение фондов!..
Корешки книг, потрепанные и новенькие, зачитанные и еще не успевшие побывать в руках шахтеров, нарядные и скромные, сейчас, при сумрачных отблесках свечей, сомкнулись на стеллажах в пасмурном безмолвном строю. Неужели и им суждено заполыхать одним из тех костров, каких уже немало подожгло на площадях Европы злорадно торжествующее насилие? Бидон керосину, спички – и вот уже корчатся в пламени, обращаются в пепел мудрые страницы…
Алексей стал было снимать с полок и откладывать книги, какие хотелось бы уберечь прежде всего, во что бы то ни стало… И те, к которым сохранил искреннюю горячую привязанность еще с юности, и те, глубокий след от которых был в душе еще совсем-совсем свежим… Но их прибавлялось и прибавлялось, стопа росла, рядом с одной появилась другая, третья. Нет, все это напрасно!.. Даже оскорбительны для глаз зазиявшие на стеллажах черные дыры. Это все равно, как если бы кто-либо пытался отыскать и вытащить из стен воздвигаемого веками здания те камни, которые придают ему наибольшую красоту, прочность и устойчивость. А в кладке они нужны все – уложенные мастерами и подмастерьями, и те, что легли в фундамент, и те, что завершают свод.
…Рассветало, когда все трое вышли из Дворца. Лица захолодил жесткий северный ветер. До этого октябрь нет-нет да и баловал солнцем, переменчивым теплом Приазовья, чистым лазоревым небом, а сегодня день с самого начала хмуро насупился, казалось, что сизые тучи надолго приникли к крышам домов и оголенным верхушкам деревьев, и уже не преждевременный ли снег таило и несло в себе отяжеленное чрево туч? Земля крепко промерзла, между нею и косматой грядой, нависшей с неба, глухо перекатывались громы далекой канонады. Вчера ее не слышали – придвинулась за ночь. По проспекту разрозненно тянулись войска. Большинство красноармейцев налегке – утомленные, грязные – предпочли зябнуть в гимнастерках, чем тащиться в задубевших и отсыревших шинелях. Проехало несколько артиллерийских запряжек, на стволы орудий были нанизаны скатки. С лязгом прошла небольшая колонна танков. Двигались, не выбирая дороги, наезжая гусеницами на цветочные куртины, что тянулись вдоль проспекта. Но если бы они направлялись туда, откуда доносились громы; нет, миновали Дворец, свернули влево, загромыхали по мосту – на Енакиево…
Осташко, Федоров и Лембик расстались у Дома Советов, Лавр Семенович зажал под мышкой сверток с холстами и торопливо зашагал к себе на Комсомольскую, дав слово через час быть на станции. Лембик сказал, что ему надо встретиться с зятем.
Алексей поднялся на второй этаж, в горком. Двери всех комнат были раскрыты настежь, в комнатах – безлюдье, на столах ни единой бумажки, только пепельницы с окурками… И хотя точно так же здесь было и вчера, ничего не изменилось и не прибавилось, все-таки веяло какой-то новой, сгустившейся тревогой. В приемной Зенина, где посетители горкома привыкли видеть и слышать подвижную, словоохотливую Марочку, сидел, явно борясь с дремотой, молоденький рыжеватый сержант. Он предостерегающе вскочил при появлении Осташко и чуть не собрался задержать его, но не успел – Алексей открыл дверь кабинета…
Зенин разговаривал по телефону; возле аппарата сидел и как бы тоже участвовал в разговоре незнакомый тучный майор. Его фуражка лежала на столе, и он устало отирал платком запыленное, посеревшее лицо.
– Выводите людей из шахты! – кричал Зенин. – Да всех же, всех, повторяю! И машинистов водоотлива тоже. Чтобы к вечеру ни одного человека там не было! А дальше – дальше сам узнаешь… Будь только на месте.
Алексей, собравшийся было доложить о выполненном поручении, понял, что теперь это ни к чему.
Секретарь опустил на рычажок трубку и, посмотрев на Осташко, произнес одеревенелым голосом:
– Вот так, Алексей!..
А потом поднял трубку майор и кинул в мембрану всего два слова:
– Воловик? Переключайся…
Он вынул из кармана галифе аккуратный красивый ножичек, обрезал телефонный шнур и встал:
– Ну, а теперь в штаб… на полевую связь.
2И после этой ночи время помчалось, завертелось шальным, безудержным, слетевшим с оси колесом. Потом, много позже, Алексей так и не мог толком вспомнить, сколько же суток – трое? пять? семь? – прошло с той минуты, когда незнакомый военный обрезал провод горкома, до прощального свистка паровоза, увозившего из Нагоровки последний эшелон. Все эти несколько суток слились в одни – бессонные, изнуряющие, хотя еще работал городской радиоузел и динамики пока доносили из Москвы бой часов на Спасской башне и сводки Совинформбюро – утренние, вечерние. Но оттого, что вести накатывались одинаково безотрадные, тяжелые, сводки, казалось, сливались в одну – понурую, тягостную…
С рассветом Осташко уезжал в Железнянскую степь, где силами самих нагоровцев подготавливался полевой аэродром, но потом надобность в нем отпала.
Вышло еще несколько номеров городской газеты. За эти военные месяцы уже дважды уменьшался ее формат, и сейчас она была размером с листовку, которую выпускал оставшийся за редактора – того призвали в армию сразу же, 22 июня, – секретарь редакции Сорокин. Он прибегал в горком, негодуя то на почту, которая не забирает тираж, то на электростанцию, с перебоями подающую ток в типографию. А теперь, выпустив последний номер, Сорокин разыскал и перехватил Осташко при выходе из школы, где на казарменном положении разместились немногие оставшиеся горкомовцы. Волнуясь, он стал выкладывать свою, как считал, самую большую беду.
– Помоги, Осташко… Что делать с ротацией? Надо решать… Заводские станки погрузили, отправили, а она разве дешевле?
Длинновязый, исхудавший, с глазами, в которых лихорадочно металась неутраченная надежда. Но чем можно было ему помочь?
– Не сумел вывезти раньше – что же теперь о ней говорить?
– Раньше? – взъярился Сорокин. – Раньше ты же сам требовал в срок выпускать газету во что бы то ни стало… А сейчас, выходит, Геббельсу такую машину подарим?
Алексею пришлось однажды видеть в работе эту саженной высоты махину, из-под стальных барабанов которой вылетали газеты. Двадцать тысяч в час!.. Стало и впрямь жалко…
– А ты управишься ее разобрать?
– Если два-три хороших мастера – то за один день.
– А у тебя они есть?
– Ни одного… Надо вызвать из области…
– Так что же ты мне голову морочишь? – разозлился Осташко. – Области теперь только и всех хлопот, что твоя ротация? Ею теперь займется истребительный батальон. Немцам она не достанется…
– Истребительный? – в ужасе снизил голос до шепота Сорокин. – Рыбинской ротацией? Двухрольной? Ты спятил?
– А как ты думал? При вынужденном отходе… – Осташко хотел было напомнить Сорокину июльское выступление Сталина, но не договорил, оборвал: – Сам же все печатал… Растолковывать тебе? Ступай к черту… Хотя постой… Ты пишущие машинки отдал тому человеку, что я посылал?
Сорокин, поднимаясь на крыльцо, очевидно, для того, чтобы обратиться еще и к Зенину, неопределенно махнул рукой. Жест отчаяния? Что, мол, спрашиваешь о пишущих машинках, когда гибнет ротация? Но той Нагоровке, которая смотрела на них распахнутыми окнами опустевшего Дома Советов и дымилась штабелями невывезенного угля и кострами сжигаемых, дотлевавших архивов, как раз незамысловатая пишущая машинка становилась теперь дороже, чем ротация, обрекаемая на слом. Правда, Алексей не знал даже фамилии посланного им к Сорокину человека… Позвонили, приказали встретить, распорядиться.
– Так отдал, я спрашиваю?
– Да отдал, отдал обе… Что, я из них стрелять по гитлеровцам буду?
Алексей спешил в Покровское. Там, в излюбленном месте летнего отдыха нагоровцев – у лесного озера, вечерний шахтерский профилакторий, детдом… Профилакторий закрыли еще в июне, детишек эвакуировали неделю назад. Но стало известно, что из-за поломки автомашины какая-то группа вернулась. Зенин послал Алексея выяснить, помочь. Раньше в Покровское ездили трамваем. Сходили у поселка восьмой шахты, а потом полчаса по степи – приятная прогулка. Но трамваи остановили еще три дня назад. Алексей стоял на перекрестке около террикона, надеясь на какую-нибудь попутную гражданскую машину. Однако проезжали только военные – с грузами, с ранеными… Остановить их не решался. Он уже собрался идти пешком, когда одна из военных полуторок с прицепленной к ней зениткой подкатила к нему сама. Высунувшись из кабины, лейтенант спрашивал дорогу на Покровское. Эта машина подвезла его, правда, после того, как он показал свои документы, объяснил срочность и неотложность поездки.
На опушке покровского леса стояла зенитная батарея. Лейтенант, выпрыгнув из кабины, сразу забыл о попутчике. Алексей направился в глубь осеннего, уже сбросившего листву леса, к озеру.
Часом позже, выводя притихших, ошеломленных детишек на большак, по которому продолжали двигаться войска, Алексей услышал частые, опережающие друг друга выстрелы орудий. Однако небо осталось чистым, никто из проходивших красноармейцев даже не поднял головы.
Детишки скучились у шоссе.
– Куда ты их собрала? – притормаживая большую, крытую брезентом машину, крикнул воспитательнице стариковатый, с мучнистыми бровями и ресницами водитель. Она – молоденькая, растерянная – вопрошающе посмотрела на Осташко.
– В Ворошиловград бы их подвезти, – подскочил к машине Алексей. – Отбились, отстали от своих, выручи, товарищ…
– Открывай борт, грузи, – подумал и приказал, словно пересилив минутное колебание, шофер.
Алексей вернулся в штаб вечером. Прошел к буфету. Дверь распахнута, продавщицы давно нет. На столиках буханки зачерствелого хлеба, пачка соли, в углу корзины с помидорами. Выбрал один, съел и, не в силах совладать с дремотой, опустил голову на руки. «Четверть часа, – разрешил он сам себе, – всего четверть часа». Но когда спохватился и посмотрел на часы, то оказалось, что спал всего пять минут…
И еще, еще одну ночь не желало лечь плашмя, замереть сорвавшееся с оси колесо. Над железнодорожным узлом беззвучно искрились, пропадали и снова блестели, переливались разрывы зениток. У коновязи за Домом Советов, где иной раз до полуночи поджидали, когда кончится бюро горкома, пролетки заведующих шахтами, сейчас беспокойно ржали лошади какой-то кавалерийской части. Вскоре их копыта процокали по огибавшей школу брусчатой мостовой, и наступила полная тишина, та гнетущая, скрытая тишина, что так сдавливает сердце и томит в канун грозы. А потом с запада, Железнянской степью, накатилось эхо взрывов, и вдоль невидимого горизонта надолго протянулся багряный лампас зарева. Это соседи нагоровцев начали подрывать надшахтные здания, стволы, копры. Когда послышались перекаты этих взрывов, Осташко, поднимавшийся на крыльцо штаба, едва не выпустил из рук аварийный радиоприемник, который он взял в уже замолкнувшем радиоузле. Неужели теперь подошла очередь Нагоровки? После третьего июля он, работник горкома, множество раз повторял, напоминал и другим и самому себе услышанную тогда тяжкую, суровую правду…
– Дело идет о жизни и смерти нашего государства, о жизни и смерти…
И все же, как струпья, приходилось отдирать от себя нет-нет да и пробуждавшиеся обольщающие утешения, туманные успокоительные надежды… А вдруг да вскоре, этой же, осенью, все повернется иначе? Не повернулось! И вот на глухой замок закрываются лежавшие в глубинах земли пласты…
У крыльца мигнула синими фарами эмка, вылез Зенин, ездивший на склад госрезервов.
– Это ты, Алексей? – сипло, свистящим голосом спросил он. – Что это у тебя? А, приемник… Ну, отнеси, поставь, хотя он, пожалуй, уже и ни к чему…
– Ты думаешь, что…
– Не думаю, а точно тебе говорю… Немцы уже на окраине Сталино. Прямая угроза и нам… Да, скажи, отец не вернулся?
– По-моему, нет… Вернулся бы – пришел сюда…
– Эх, нам бы еще один паровоз… Ну вот что, уезжай и ты. В семь тридцать будь на станции, отходит эшелон. Наверное, последний…
– А ты? А остальные?
– Машиной, если не подведет. Лишнего места нет. Так что на нее не надейся… Давай, давай побыстрей на станцию. Война велика, встретимся, если будем живы…
В семь тридцать… А сейчас было шесть. Он успеет забежать домой, вдруг и в самом деле вернулся отец. Больше ничем не звала к себе, не тревожила их давно опустевшая, так и не топленная в эту осень квартира. Легкий чемоданчик с самыми необходимыми вещами находился, как и у всех, здесь же, в штабе. А остальное… Остальное в доме даже порой тяготило, вызывало невеселые воспоминаний. Здесь два года назад умерла мать. Здесь начался и закончился разводом долгий и мучительный разлад с Анной. Длительный, наивно и стыдливо скрываемый от отца даже после этой истории с дневником Анны… «Люблю, мысленно целую другого…» Давно ли догадывался отец об этом разладе? Очевидно, давно. Однажды не выдержал и, оставшись наедине с Алексеем, сказал: «Разделывайся ты с ней, сынаха… Все равно у тебя с Анной жизни не будет… Станем холостяковать вместе…» И они остались одни… Правда, одно время в доме хозяйничала Танюшка, жена Василия, но весной уехала к нему в авиаполк, в Эмильчино, вернулась в августе и, побыв несколько дней, направилась с ребенком к матери. Где она сейчас, где Василий – неизвестно.
Выходило, что с этим одноэтажным, крытым белым рубероидом, опустевшим домом Алексею сейчас расстаться, проститься было во много раз легче, чем с шахтой, с Дворцом, с парком, со всей Нагоровкой…
…И все-таки, когда отпирал дверь, Алексею представилась дикой, невообразимой уже сама мысль, что вскоре в этот дом войдет не кто-то просто чужой, а ненавистный, подлый, войдет враг. И теперь, при взгляде на все такое знакомое в этих двух обжитых сердцем комнатах, Алексей, вопреки всему, что думал раньше, вспоминал только милое, хорошее – хорошие дни, хорошие часы… Ведь были же и они когда-то… Были, были!.. Еще сколько!
Он стоял в своей комнате, уже сожалея, что поддался порыву души и зашел сюда, что унесет в памяти заброшенность дома… Запыленный стол, высохшие чернила в чернильнице, пожелтевшие листья лилии на окне, холод… Написать и оставить отцу записку? Какой смысл? Не может, никак не может отец вернуться со своим паровозом из Тихорецкой после того, как сданы Таганрог, Иловайск… Все же он положил на стол в кухне свечу, коробку спичек…
Рассветало. Алексей торопливо вышел. И тут – он вначале даже не поверил, подумал, что обознался, – увидел на крыльце соседнего дома Серебрянского.
– Федор, а ты каким образом здесь?
Серебрянский несколько лет назад работал у отца помощником машиниста, а потом надолго ушел в кочевье по разным стройкам, призвали его в армию по первой же мобилизации. Месяц назад Серебрянская показывала Алексею полученное ею от мужа письмо. Очень уж непонятными были Нюське строки, которыми оно заканчивалось: «Если останусь жив, то очень скоро увидимся». Непонятными они остались и для Алексея, как непонятным было сейчас и появление в Нагоровке, дома, самого Федора.









