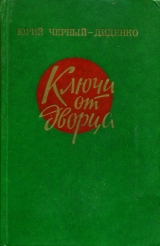
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1…И здесь снега, снега, стужи, грозово-хмурое небо. Иногда в какой-то особый переломный час короткого светового дня оно вдруг становилось зеленоватым – будто в низко свисающем подбое чугунных туч отражались древние боровые леса. И в бредовом ночном забытьи казалось, что по-прежнему неподалеку, рядом, обледенелые берега Ловати, окаймленные замерзшей кровью темные дымящиеся проруби, скрипуче стонущие мостики на дне окопов, звенящие на ветру спирали проволочных заграждений, сугробы, подернутые морозной сединой кочкарники. Но утром будил стук дров, сбрасываемых перед устьем остывшей печки, раздавались бесцеремонно крикливые голоса санитарок, звон посуды у кроватей, где лежали тяжелораненые. Начинался госпитальный день. И в нем, как в многожильном разветвленном дереве, сотни людских судеб переплетались всяко и вместе: вера и скорбь, надежды и утраты, терпеливость и отчаяние.
Второй месяц Алексей находился в Вологде. Долгое время лежал пласт пластом, с загипсованной, подвешенной на блоке ногой. Даже в ночной темноте она тревожно маячила перед глазами. На закаменевшем известково-сером лубке врач, наложивший повязку, написал химическим карандашом свою фамилию и дату, когда повязку надо снять. Самого врача уже в живых не было. Вскоре после этого он уехал с эвакопоездом на Северо-Западный фронт и погиб при бомбежке. Его подпись щетинилась колюче, занозисто, целиком соответствуя странной фамилии – Шершкович. Алексей видел его только один раз – запомнилось сосредоточенное, старчески-суховатое лицо с усталыми, напряженными глазами. Но от него, человека, который, по существу, остался незнакомым и теперь лежал где-то в братской могиле у Селигера, по-прежнему зависело все будущее Алексея. Что принесет назначенный старым хирургом день, когда повязку наконец-то рассекут? Вернется ли он, Алексей, на фронт, или пошлют его довоевывать куда-либо в тыл, в запасной полк, а то и вовсе спишут? То и дело перепархивало по палате пугающее слово «остеомиелит», и тем, кого подстерегало это осложнение, уже никогда не быть в строю. Возникнет ли и перед ним этот страшный барьер? С каждым днем ожидание становилось все тягостней, все мучительней. Подбадривал сосед по палате Кольчик, капитан из БАО [3]3
Батальон аэродромного обслуживания.
[Закрыть], пожилой, тучный и вместе с тем даже при своей нелегкой ране – осколочном поражении плечевого сустава – сохранявший неистощимую веселость и подвижность.
– У тебя, Алеша, впереди красное число, не унывай… Старик Шершкович, пусть ему будет земля пухом, все предусмотрел. Так что не хмурься, пошевеливай пятками, чтобы кровь не застоялась, готовься на праздник в пляс пуститься.
– Какой там праздник? Что ты плетешь, Матвей?
– А вот так оно и есть. На твоем лубке недаром написано пятнадцатое февраля. А в этот день что? Сретенье. Политсоставу это тоже знать полагается. Зима с летом встретятся. Выходит, все твои болячки останутся позади, начнешь отогреваться.
– Все равно до пляса еще далеко. Тут хотя бы до костылей добраться, – недоверчиво вздыхал Алексей.
Во множестве бередящих душу раздумий все беспокойней становилось и еще одно…
Валя!
…Может быть, он поступил глупо и оскорбительно для нее, не написав сразу же о своем ранении? Но слишком туманной, неясной представлялась собственная судьба! А вдруг полная инвалидность?! Не решался, страшился подвергнуть испытанию сблизившее их чувство. Любовь? «Любовь», – отвечал он сам себе. Но если впереди зловещий исход, то пусть она, эта любовь, останется в памяти, в сердце такой, какой сложилась и сбереглась до этих дней… И это уже немало, да, немало в такую войну, когда тысячам и тысячам встреч, привязанностей, случайным и не случайным, суждено затеряться в набегавших днях, остаться забытыми, неумолимо и безвозвратно отодвинутыми в прошлое. А он все равно сохранит, молчаливо и сокровенно сохранит в сердце то, что было перед Ловатью, – кибитку на Луначарской, тепло маленьких участливых рук, знойный ташкентский перрон, ее порывистый поцелуй… И письма, письма!.. Теперь для него достаточно и этого… Есть ли право рассчитывать на большее?
Но в один из дней санитарка принесла почту, и он, увидев на конверте знакомый почерк, вспыхнул, словно его ожгли пощечиной… Читал, и все смешалось – радость и стыд перед ней, стыд за то, что поступил не только жестоко, а подло. Как он мог поколебаться, усомниться в ней?
Три письма Вали, посланные на полевую почту части, остались безответными, прежде чем Костенецкий, который к тому времени уже знал адрес Алексея, написал ей… И теперь она не упрекала, ни о чем не спрашивала, а просто просила, чтобы Алексей подтвердил получение этого письма и ждал ее приезда.
Но, как ему ни хотелось увидеть ее поскорей, он все-таки в тот же день поспешил написать, чтобы раньше чем через две недели она не собиралась из дома, ждала его вызова. Выдумал для этого и правдоподобную причину, – возможно, будет переведен в другой госпиталь. У самого же в мыслях и надеждах только один, уже близкий день – пятнадцатое февраля.
Когда наконец-то сняли гипс и позволили встать на ноги, он походил на человека, измотанного в кораблекрушении штормом и теперь вместе с утлым, полуразбитым плотом плашмя кинутого волной на берег. Найдутся ли силы, чтобы подняться, устоять, уверенно ступить на желанную земную твердь? Вначале почувствовал боль, но сделал шаг, другой – и понял, что это была не сама боль, а последнее воспоминание о ней, свалившей его тогда у валуна. Ясеневые, отшлифованные руками других раненых костыли не должны были подвести и его, но надеялся не столько на них, сколько на то, что найдет, ощутит опору в самом себе.
Алексей стал самым беспокойным, непоседливым среди всех выздоравливающих. Опережая санитарок, спешил на каждый зов своих лежачих сопалатников, вскакивал по ночам и долго шуровал печку, порывался разносить почту, газеты, табак, судки едва ли не всему госпиталю.
Вскоре разрешили выходить и на воздух. Сестра-кастелянша вместо полушубка выдала подержанную английскую шинель. Одежка была явно не по вологодским холодам, но в ней ковылять на костылях оказалось легче. До приезда Вали оставалась неделя. Дальше откладывать задуманное нельзя было.
Однажды после врачебного обхода Алексей торопливо оделся и направился в город. Осторожно переставляя костыли по заснеженному деревянному тротуару, он с любопытством посматривал по сторонам. Старинные двухэтажные и одноэтажные деревянные домишки с флигельками и башенками, с резными наличниками, ставнями и коньками на крышах. Внутри, за низко посаженными окнами, возвышались такие исполинские, увенчанные горой подушек кровати, что, представлялось, кроме них ничто другое в комнате уже поместиться не может. Во дворах – голубятни, колодцы, поленницы дров, штабеля торфа.
В один из таких дворов, увидев там на крыльце женщину, вытряхивающую половичок, и направился Алексей.
– Добрый день, мамаша! Вы здесь хозяйка?
– Я, служилый, а что такое? Заходи, если ко мне.
– Да у меня разговор короткий. Нельзя ли у вас снять комнату?
Пожилая, но еще статная, круглолицая женщина окинула сострадательным взглядом Алексея с его костылями, с валенком на больной забинтованной ноге – другая была в сапоге.
– Ой, милый, я бы тебя с радостью пустила, да у меня ленинградцы… эвакуированные. Четверо детишек с матерью. И своих трое. Покотом спим. А как же так, неужели на улицу выписали тебя такого?
– Не для себя я… Жена приезжает проведать. На недельку…
– Только и всего? И отказывать тебе совестно. Разве уж потесниться, пустить? – Но по огорченному лицу и молчанию офицера она поняла, что такое предложение его не устраивает, и спохватилась: – Тогда вот что… Подойди через три двора к Савельевым… Их двое – мать и дочка. Отец, может, вот так, как и ты, где-то мыкается. Скажешь, что я послала. Петровна к Петровне. Люди хорошие, приветливые.
Поблагодарив за совет, он пошел по указанному адресу, и здесь все уладилось легко, быстро, без всяких помех. Деревянный домик Савельевых, казалось, был сооружен без топора и рубанка – выпилен лобзиком. Резной карниз, подзор вдоль чешуйчатой крыши, замысловатые фигурные наличники на окнах, флюгер с петушком.
– Что ж, если не пренебрегаете нашим скворечником, то милости просим, хоть завтра пусть приезжает, – притворно прибедняя свое жилье, сказала вторая Петровна.
– Скворечник? Да такой дом не грешно и на любую выставку, на первую премию потянет! – восхитился Алексей, пылко представляя будущую счастливую неделю здесь, под этой крышей.
– Сам хозяин мастерил, – довольная похвалой, пояснила Петровна. – Искусный он на это, выдумщик. По плотницкой части и на фронте. А что уж там строит – не знаю. Мосты, наверное? Давно не пишет что-то. Да чего мы с тобой сидим на кухне, идем посмотришь светличку. Правда, мала, да ведь не для гульбищ строилась. Зато теплая.
…Теперь он ждал Валю. Чтобы дни пролетали быстрей, участил вылазки в город. Половина прохожих на улицах – военные. В городе стоял штаб какого-то крупного воинского соединения. В госпитале поговаривали, что это сформировалась новая резервная армия. Алексей на обледеневшие дощатые мостки и тротуары посматривал с опаской, предпочитая переставлять костыли по обочинам проезжей части. Вологда вызывала любопытство своим необычным видом и нелегко постигаемыми крайностями. Повсюду, даже в центре, жались, ища друг у друга защиту от северных стуж, такие же легенькие деревянные дома, как и на госпитальной улице, и вдруг их шеренгу раздвигал какой-либо каменный голиаф с крепостными стенами, с окнами, похожими на бойницы. Старинный купеческий лабаз? Монастырь? Построенный еще в екатерининские времена институт благородных девиц? Или в самом деле какое-либо давнее крепостное сооружение? Так или иначе, но это тоже была его, Алексея, Родина, вместе с запомнившейся полянкой, и глиняными дувалами узбекских кишлаков, и привольем оренбургских степей, которыми он любовался из красноармейской теплушки… Алексея потянуло разыскать какой-либо заводской клуб. Но какая жизнь может в такую пору теплиться под его крышей? Нет, уж лучше себя не дразнить. И все-таки, когда он увидел издали подъезд, по бокам которого стояли фанерные щиты с объявлениями, он встрепенулся и заспешил к нему.
Да, и здесь все было так, как должно было быть сейчас… Оповещал о времени своей работы пункт сбора зимней одежды для фронта… Красный Крест объявлял о наборе на курсы медсестер… Афиша о кинофильме «Мы из Кронштадта». Но одно из объявлений вызвало у Алексея невольную усмешку. Через полчаса начиналась лекция «Что такое страх?». Имя лектора – громкое, известное. Профессор, москвич. В двадцать девятом году Алексей ходил на занятия комсомольской политшколы с его учебниками по диалектическому материализму. Разве послушать?
Зал был небольшой, холодный, и Алексей, стараясь не стучать костылями, уселся в самом последнем ряду. Хотелось остаться незамеченным. Еще, чего доброго, смутит профессора. Оттуда, где он, Алексей, находился два месяца назад, возвращаются, уже ответив себе на вопрос, над каким приглашал поразмыслить лектор. Ответил на него и Алексей. Политруку, пожалуй, страшно вдвойне. Естественный страх человека, когда до смерти, как поется в песне, четыре шага, знаком и ему, но такой же естественной была и боязнь каким-либо движением, взглядом, возгласом обнаружить перед другими этот страх. Иначе… иначе и полушки не стоят все твои призывные слова… Так этот второй страх, а вернее, постоянное внутреннее напоминание помогало начисто забывать тот, первый, оттесняло его.
На сцену, потирая зябнущие руки, вышел в кофейном пуловере и в гамашах кругленький, с благодушно розовеющим личиком старичок. В полупустой зал обильно посыпались цитаты из Фрейда, Ломброзо, Челпанова, Бехтерева. Алексей понял, что попал впросак и ничего интересного здесь не услышит.
Единственное, чем мог себя утешить Алексей, это тем, что потерянного времени особо жалеть не приходилось. И все же решил впредь тратить его разумней. Все остальные свободные вечера проводил теперь в областной библиотеке. Здесь привлекало многое. Основные фонды библиотеки составились из книжных собраний национализированных дворянских усадеб. Прижизненные издания Пушкина, Гоголя, Некрасова, Салтыкова-Щедрина. И, перечитывая знакомые строки, на этот раз с их старым правописанием – с ятями, фитами, твердыми знаками, Алексей вновь с волнением переживал прошлое Родины. «Записные книжки» Верещагина, изданные в конце прошлого столетия, оказались с неразрезанными страницами. На книге оттиснут экслибрис «Кабинет для чтения госпожи Семеновой». Алексей бережно разрезал перочинным ножиком эти втуне пролежавшие почти полвека, словно запечатанные забывчивостью современников и потомков, листы. Верещагин, умная художническая кисть которого поведала правду о войне. Страстные, язвительные строки, высмеивающие осененный державным скипетром академизм батальных живописцев. Старательно отутюженные ими складки на плащах легионеров, сверкание регалий, напомаженные волосы погибающих римлян… И тут же репродукции картин самого Верещагина… Его «Апофеоз войны». Пирамида черепов… Их пустые черные глазницы… Гневный, обличающий протест, пощечина человечеству, нет, не человечеству, а завоевателям, тем, кто попирает все человеческое…
Алексей возвращался в госпиталь поздно, иной раз не поспевал к ужину.
– Ты где бродишь, окаянный? Неужели приехала? Ты хоть покажи ее, – ворчал Кольчик, знавший о скором приезде Вали.
– Нет, жду на той неделе. А сейчас просто засиделся в библиотеке.
– И охота тебе? Да я, если уцелею, то десять лет книгу в руки брать не буду. Тысяча романов перед глазами прошла.
…Валя приехала в воскресенье. Алексей стоял на перроне и, не зная, в каком она вагоне, следил одновременно за несколькими. Все шинели, шинели, полушубки, ватники… Но вот вслед за ними в тамбуре крайнего вагона мелькнуло клетчатое пальтецо, белый пуховый платок. Хотел было рвануться навстречу, но будто покинули силы, мешковато обвис на костылях.
Сколько раз мысленно воображал эту минуту, а никогда не думал, что губы ее могут быть такими горячими, желанными.
– Ну чего, чего ты сюда пришел? Разве я тебя не нашла бы сама? – всхлипнула Валя.
– Так бы легко и сразу?
– Нашла бы, нашла… Всюду!.. – повторила она, как бы напоминая о всех своих посланных на полевую почту письмах. А он, первыми же нетерпеливыми взглядами обласкав ее лицо, теперь робел и смотреть на него – таким сказочно красивым оно казалось – и боялся задуматься над катившимися по ее щекам слезинками – над этим немым, нетаимым знаком сострадания. Однако, черт побери, не калека же он! Алексей даже потянулся рукой к той поклаже, какую она держала, – чемоданчику, узелкам. И Валя, шутливо увернувшись от его руки, засмеялась, как смеются нежданной мальчишеской выходке взрослого человека.
– Знаю, знаю, ты уже совсем богатырь.
– Не совсем, однако твоим носильщиком быть могу.
– Не хвастайся, лучше скажи, куда мы пойдем.
Дни, которые наступили вслед за этим морозным вокзальным днем, стали для них несказанно огромными, несказанно вместительными. Им вначале даже совестно было перед Петровной за переполнявшее их счастье.
Где ее плотник-то? Войдет ли в дом вот так, как вошли и встретились они? Петровна, до этого словоохотливо делившаяся с постояльцем не только своими заботами, но и заботами соседок, теперь, оставаясь такой же приветливой и гостеприимной, примолкла и словно всей тишиной, всем теплом и уютом своего скворечника охраняла их.
– Признайся откровенно, там, на фронте, ты верил, что мы когда-нибудь будем вот так, вместе? – спрашивала Валя. В залитой ранним солнцем горенке – знал же плотник, куда обратить окна! – ее светло-серые большие глаза казались совсем прозрачными, и только если близко всматриваться в них, замечался легенький, ликующе-веселый дымок поволоки.
– Там без веры нельзя, Валя. Ни одного дня. Она нужна с первого и до последнего. Я теперь точно знаю.
– А если б не Ташкент, одним словом, не я, во что бы ты верил тогда, для себя?
– Тогда… тогда, пожалуй, было бы худо. Хотя, наверное, поддерживала бы вера других… товарищей, всех тех, кто рядом… Ради этого тоже ведь стоит жить… Как бы тебе это объяснить?.. Понимаешь, красноармейская шинель делает человека в наше время каким-то особенным – душевно сильным, устойчивым, чутким. Не подумай, что это бахвальство фронтовика… В конце концов, в шинелях сейчас мы все…
– Ты мне не о всех, ты о себе…
А о себе можно было сказать куда проще, повторяя одно только не требующее никаких рассуждений и доказательств слово: люблю, люблю…
По утрам Петровна вносила в комнату самовар. На его самодовольно сияющей медной роже было оттиснуто множество медалей, полученных в бескровных схватках на всероссийских и международных ярмарках и выставках.
– Смотри-ка, награжден гран-при даже в Кенигсберге, – удивлялся Алексей. – Оказывается, немцы эту нашу технику издавна признавали. А я с ней, откровенно говоря, познакомился только в тридцать восьмом… До этого считал атрибутом мещанства… А в тридцать восьмом купил трехведерный для Дворца в комнату отдыха… А ну-ка, ну-ка покажи, как ты с ним управляешься…
Ему нравилось смотреть, как Валя неторопливо хозяйничает у затейливого фигурного краника, нравилось принимать из ее рук терпко дымящуюся чашку; вот только не понравилось в первый же день и непритворно рассердило его, что она вздумала привезти и угощать его домашней выпечки изделиями, наверняка выкроенными из скупых, полуголодных московских пайков.
– Я ведь тебе запретил что-либо привозить для меня. Писал я тебе об этом или не писал? Лучше б себе приберегла.
– В таком случае, если ты не будешь их есть, я… я откажусь от аттестата, – рассердилась в свою очередь Валя. – Это ж не карточки. Я муку покупала на рынке, стаканами…
– Не верю… Да можно было бы купить и здесь.
Алексей упрямился, спорил, но, по правде говоря, ему нравился и этот спор – в нем было что-то от мимолетных семейных раздоров, – значит, он и Валя уже семья…
Как-то вот так, по-семейному, они пошли на базар. В торговых рядах стояли и предлагали свой немудреный товар старушки с берестяными туесками, плетеными лукошками. Продавали клюкву, моченую бруснику, голубику, морошку, рябину, соленые грибы – все, чем богаты были вологодские леса… Валя и Алексей заглядывали в корзинки, где были ягоды и синеватого отлива, похожие на терн, и налитые морозным румянцем… Старушки насыпали их в свернутые из газет, кулечки, ненамного большие, чем козьи ножки солдатских цигарок. Алексей, собравшийся на рынок, чтобы тряхнуть мошной и потом устроить пир, пригласив на него Кольчика, понял, что из этой затеи ничего не получится.
Зато были полны очарования и новизны вечерние прогулки по городу. В сумерках скрадывалось, становилось незаметным многое из того, что днем так настойчиво на каждом шагу напоминало о военной поре. Вот разве только затемнение? Но здесь на улицах даже и затемненные окна старинных строений выглядели по-особому. Чудилось – вот-вот из-за угла лунно белевшего собора с гиканьем вымчат, погоняя коней, опричники Малюты Скуратова, или покажется пышный боярский выезд, или промелькнут тени, замерцают свечи монастырских послушниц…
Если они приходили домой позже «Последних известий», то Петровна уже на пороге спешила поведать им все сообщенные по радио новости.
– Берлин-то, слышь, опять бомбили!.. Триста самолетов!.. Ох, хоть бы один как следует прицелился да угодил в главного злодея… И у нас бои под Харьковом, на Кубани… А в наших-то северных краях – ничего, ничего…
О северных краях она упоминала явно успокаивающе: любитесь, мол, пока, милуйтесь. Словно бы и в самом деле никаких других дорог, кроме как туда же, в Старое Подгурье, у Алексея не было…
Однажды из госпиталя к ним в скворечник прибежала санитарка.
– Одевайтесь побыстрей, выздоравливающий. Начальник вас вызывает… Чтоб срочно явились… ругается.
– И напрасно. Сам же разрешил и знает, где я.
– Так ведь и на него тоже начальство есть. Еще повыше. Генерал приехал.
– Генерал? Что ж, именно я ему и нужен?
– Это уж не знаю… По всем палатам ходит с адъютантами своими. Видать, откуда-то издалека… С фронта, что ли…
Валя побледнела. А ведь знала, знала, когда ехала, что недолго им быть вместе, и все-таки тревога застигла врасплох. Оставалась еще неделя отпуска, и неужели жизнь окажется к ним такой скупой и несправедливой? Понимая ее волнение, да и взволновавшись сам, Алексей привлек ее к себе, поцеловал.
– Чего ты? Успокойся.
– Ты… ты вернешься?
– А как ты думаешь? В любом случае.
Он пришел домой через полтора часа. Вместе с Кольчиком. Не спеша, с загадочно улыбающимися глазами расстегивал шинель. А Валя смотрела на него вопрошающе и чуть ли не гневно: что томишь?
– Сейчас, сейчас, – проговорил он, стоя к ней спиной и неторопливо вешая шинель, пригладил волосы, повернулся и петушисто выпятил грудь, на которой сверкал новый орден. На плечах же – погоны капитана.
– Ну, как я тебе нравлюсь?
Она кинулась к нему на шею и, вот же чудачка, заплакала.
Получасом позже сидели за столом, отмечая награду и новое звание, к которому Осташко был представлен еще перед тем, последним боем. В этот праздник внес свой вклад и начальник госпиталя. Сам ли догадался, или распорядился генерал, заместитель командующего фронтом, но выдал четвертушку спирта.
Радость и гордость Вали была тем большей, что такого ордена она еще не видела ни у кого.
– Александр Невский, – разъяснял Кольчик. – Недаром тоже на Северо-Западном воевал. И против них же, крестоносцев, чтоб им ни дна ни покрышки. Я тоже его впервые вижу. У нас в авиации больше звездочки, Отечественные всех степеней, Красное Знамя. А Невский, выходит, пехоте? Так, Алексей? Что там пишется в статуте? Ты должен знать.
– От командира взвода и выше… – немногословно ответил Осташко.
– Эко неразговорчивый какой! Ну, со мной ладно уж, надоели друг другу и в палате, а перед женой? Рассказал бы…
Алексей пожал плечами, посмотрел на Валю взглядом, каким просят прощения. Ему и в самом деле трудно было рассказывать о Старом Подгурье здесь, в тепле этой комнаты, за этим застеленным чистой белой скатертью столом.
Не стал рассказывать и позже, когда они остались с Валей одни.
…Уже давно спала Валя. Алексей чувствовал на щеке ее чуть щекочущее дыхание, а сам, поначалу притворившись, что его тоже клонит ко сну, теперь лежал с открытыми глазами, раздумывал. То, что было пережито там, на Ловати, уже давно могло бы заслониться нудными госпитальными месяцами, госпитальными сомнениями, ожиданием, да и тем хорошим, что началось с первого, полученного здесь, в Вологде, Валиного письма… А вот же не заслонялось, не затуманивалось. Ни для него, ни для других… Когда генерал прикалывал ему к гимнастерке орден, хотелось спросить – а дальше, что было дальше в Подгурье? Но адъютант уже представлял генералу другого награждаемого… Да и, пожалуй, все равно бы не спросил… Мысленно повторяя услышанные слова реляции – «За проявленную инициативу во внезапном и стремительном нападении на противника…», – Алексей почувствовал, что сам-то произнести их никогда никому не сможет. Да и разве только он один был в таких случаях молчаливым? А его товарищи, его знакомые по палате? Лишь порой, в ночном кошмаре, в бреду, вырвется у кого-либо не контролируемый сознанием тревожный оклик, предостерегающий зов, слова исступленной команды. А утром сам же конфузливо улыбнется: «Ну, кажется, и повоевал я сегодня ночью». А скорее всего не скажет и этого, надолго замкнется в себе, вторично, на свежую голову разбираясь в том, что было сном, а что недавней явью. И тут Алексей снова вернулся к мыслям о красноармейской шинели. Те, кто носил ее, залегали под огнем, поднимались в атаку, ползли под проволокой, убивали и сами множество раз могли быть убитыми, но пока она не скинута, пока не достигнуто то, ради чего она надета, не тянет к громким исповедям и признаниям. Вот разве только в донесениях, в оперативных сводках, в штабных обзорах строчка за строчкой, страница за страницей копится и копится добытый кровью опыт всего содеянного и пережитого… И не крупинкой, не малозаметной частицей, а полновесной людской жизнью, дороже которой нет ничего на свете, войдет туда судьба каждого, кто носил эту делающую человека большим шинель… Борисова и Киселева, Фомина и Салтиева… Всех, всех…
Через неделю Алексей проводил Валю. Возвращаться с вокзала в приютивший их на две недели домик не стал – было бы тяжело, пришел прямо в госпиталь. Там, на вокзале, у ступенек вагона, в тамбуре которого стояла Валя, словно бы оставил радужную беспечность этих двух так быстро пролетевших недель. Был снова сосредоточен, угрюм. Не затянулось ли его пребывание здесь, под пропахшими камфорой и карболкой сводами? Чувствовал себя уже готовым к выписке, томился в ее ожидании. Давно поговаривал о выписке и Кольчик, но не столько от него самого, сколько от врачей Алексей знал, что у товарища дела хуже – появилось осложнение, какой-то воспалительный процесс в легких. Кольчик, однако, храбрился, доказывал, что здоров, спорил с врачами, неоднократно требовал переосвидетельствования. Он и Алексея встретил весь сияющий, возбужденный, чем-то очень обрадованный.
– Уехала Валя?
– Да. Только что.
– Ну, а что ты на станции видел?
– А что бы там могло быть?
– Эх ты, ничего, наверное, и не замечал, кроме своей зазнобушки?..
– Да что такое? – недоуменно спросил Алексей. Он и в самом деле, будучи на вокзале, не обращал внимания на то, что делается вокруг.
– Говорят, что резервная армия снялась, уехала.
– Куда?
– Об этом нам не докладывают. Но есть слушок, что туда, откуда мы с тобой прибыли…
– На Северо-Западный?
– Снова тебе повторяю, что об этом не говорят, но что-то похоже…
– Думаешь, что весной начнем оттуда?..
– Весной! Тоже мне сказал! Весной там только комаров бить, а не фрицев. А вот сейчас, пока еще снежок держится, можно что-либо и сообразить. Я вот над картой сидел, кумекал… Посмотри сам…
Кольчик достал из-под подушки затрепанную, вырезанную из газеты карту фронтов, точно такую же, с какой приехал в роту Алексей и оставил там, в землянке.
– Ну-ка, прикинь мыслишкой, кавалер ордена Александра Невского… Какого поворота событий ждать? На юге фронт пока стабилизировался. Там сейчас чего-либо нового не будет. А вот если тут, на Северо-Западном, шугануть по-настоящему, то, во-первых, подмога Ленинграду… А во-вторых, северным Сталинградом может для немцев запахнуть…
– Это ж каким образом?
– А вот таким! – Кольчик с генеральской размашистостью черканул карандашом по карте, направляя острие намеченной стрелы к Балтике.
…Когда через несколько дней Алексей пришел в военкомат, ему дали предписание ехать в Кащубу и предупредили, чтобы он не задерживался в городе, спешил…








