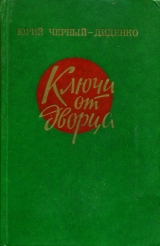
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц)
– Здравствуй, Алеша… Видишь, пофартило заскочить домой… Через Нагоровку отступаем. Командир отпустил проститься… А ты что, уже с чемоданом?
Спросил вроде бы сочувственно, без подковырки. Сам в замызганной красноармейской робе, небритый, исхудавший, и все же пробегали по лицу то ли смущение, то ли досада. Алексей молча и недоверчиво смотрел на него.
– Что уставился? Дивно?
Алексей пожал плечами.
– По правде сказать, не ждал.
– Думаешь, что дезертир? – усмехнувшись, напрямик рубанул Федор. – Если подумал так, то напрасно. Мне с трибуналом связываться нет интереса, сиротить семью не собираюсь… Лучше уж от немецкой пули упасть, чем от своей… Это и командиру сказал, когда отпрашивался. Так что давай, Алеша, простимся – ты, я вижу, торопишься, и меня время поджимает.
Он шагнул к забору, разделявшему их дворы, протянул руку.
– А что ж семья остается? Еще не поздно. Есть еще один эшелон… Жена красноармейца… Не откажут.
– Э-э, разве ж всем уехать? Да и куда с мальцом?.. Авось остановим гада… Как ты считаешь?
– Я на авось не считаю, говорю тебе про дело… Наверное, «авось» и в армии не в чести.
– Ну, вот ты уже и рассердиться готов. Береги нервы, Алеша, они еще пригодятся… Дай лучше закурить.
Алексей вынул из кармана папиросы.
– Ишь какие куришь!.. «Казбек»!.. А я еще не раздобыл… Ну, так что, пожмем руки, может, напоследок?
Алексей протянул руку. И все же, отходя от дома, уносил странное, неприятное чувство после этой встречи. Шевельнулись сомнения в искренности Федора, и он попытался подавить их. Сам-то он, в своем штатском пиджачишке и плаще, направляется на станцию с чемоданчиком в руке, а Федор, может быть, уже не раз глядел смерти в глаза, отшагал, наверное, с боями не одну сотню километров… И все-таки неприятное чувство не развеивалось…
С моста он в последний раз посмотрел на белеющие изморозью крыши города, на поднимающиеся из холодного туманного рассвета стены Дома Советов, горпромуча, Дворца и свернул к станции.
3…Этого уже не мог знать Осташко. Темно-серые стены Дворца едва ли не первыми встали, пусть и на короткий срок, преградой перед чужаками. Было это ранним утром.
Гитлеровцы входили в город с юга, со стороны Сталино. Объезжая подорванные, разбитые бомбежкой грузовики и повозки, мотоциклисты неслись по шоссе. Свежими, недавно насыпанными холмиками могил бугрилось перед въездом в город кладбище. Горело здание новой, принимавшей ток с Днепра подстанции – выломанными суставами свисали почерневшие от копоти чашки гигантских изоляторов, провода. Окраина глянула на пришельцев угрюмыми глазницами выбитых окон. Мотоциклы перескочили через переезд и затряслись по выбоинам Изотовской улицы, в конце которой высился Дворец. Белые домики за палисадниками притаились, молчали, казалось, ни единой живой души нет и там, впереди… Офицер обернулся, взмахом руки отдал команду, и три мотоциклиста отделились от хвоста колонны, помчались назад – сообщить, что город оставлен. Продолжая путь, остальные въехали на безлюдный бульвар, что просторно тянулся влево, к синевшим в низинке терриконам, и вправо, к железнодорожной насыпи. Почти в самом начале бульвара безмолвно стоял Дворец. Офицер окинул его довольным взглядом. Хорошо! Здесь может разместиться на постой целый полк. Или на это здание наложит руку кто-либо другой? Штаб? Фельдкомендатура? Гестапо? Все слезли с мотоциклов и разминались, притопывая озябшими ногами.
И вдруг безмолвие проспекта нарушила короткая пулеметная очередь. Откуда стреляли – никто не понял. Но пули, рикошетируя о камни мостовой, противно взвыли рядом, в лица игольчато брызнуло каменное крошево. Солдаты заметались, вскочили на мотоциклы. Те из них, кто сумел сразу завести мотор, круто развернулись, чтобы укрыться за стенами ближайших домов. Но у нескольких то ли отказало зажигание, то ли просто от растерянности и страха они не могли сдвинуть машин – спрыгнули наземь, побежали… Новая очередь настигла двух из них у забора. А между тем в устье Изотовской уже показались легкие бронетранспортеры и грузовики с пехотой. Солдаты пели, и это помешало им расслышать выстрелы. Головная машина выехала на проспект, и тут снова зло и яростно отозвался невидимый пулемет. Одна из пуль попала в ветровое стекло: дыра с расходящимися от нее звездчатыми трещинами забелела наискосок от водителя, но сам он уцелел и, понимая, что назад не повернуть – мешали едущие следом, – рывком вывел машину на площадку перед подъездом Дворца. Солдаты посыпались из кузова, вбежали под портал.
А пулемет не умолкал.
Дворец, всего несколько минут назад вызывавший у гитлеровцев самодовольную ухмылку своей целостью и добротностью, теперь выглядел отчужденно, неприязненно, враждебной крепостью. Но окна на всех его этажах были плотно закрыты, показавшееся солнце отражалось в них слепым оловянным блеском, никого не было видно и на балконе, что тянулся вдоль центральной части фасада. Значит, стреляли не оттуда? Кто-то из немцев вскрикнул, указал рукой на крышу. Все увидели перебегавшего по ее скатам красноармейца. Он пригнулся, исчез за гребешком водосточной трубы и снова открыл огонь. Отсюда, с крыши Дворца, которая главенствовала над всем западным сектором города, пулемет, вероятно ручной, мог доставать своим огнем даже далекий железнодорожный переезд. Но стрелявший, наверное, экономил патроны и предпочитал выбирать более близкие цели. Грузовики, загромоздившие улицу, опустели, в кузовах остались только трупы. Те немцы, что успели скопиться у портала, были в непростреливаемом пространстве и пробовали выломать дверь центрального входа, но, массивная, дубовая, она не поддавалась ни дюжим плечам, ни прикладам. Тогда кто-то подтянулся к высокому окну первого этажа. Зазвенело разбитое стекло, затрещала фрамуга. Путь внутрь Дворца был открыт. По коридорам гулко загромыхали подкованные железными набойками сапоги. Где-то ведь должен находиться люк на чердак? Солдаты пробежали через читальный зал, потом по коврам Большой гостиной, потом поднялись на второй этаж, где тянулась анфилада комнат детской музыкальной студии. Мимо углисто мерцавших роялей, на откинутых крышках которых мутным неправдоподобным отражением возникли разъяренные лица пришельцев, мимо пюпитров, на которых заброшенно пылились оставленные ноты, мимо домр и бандур, откликнувшихся на топот сапог легким дребезжанием металлических струн… Дальше, дальше! Лучи вынутых из карманов фонарей воровато зашарили в театральном зале, в темной глубине сцены, где так и остались неубранными декорации последнего спектакля – холст с нарисованной на нем поймой большой реки, синие дали, за лугами рощи, селения, золотистые макушки церквей… Обрыв, с которого Катерина бросилась в Волгу…
Солдаты, путаясь в свисавших падугах, опрокидывая мешавшую им мебель реквизита, разыскивали дорогу наверх. Но, опережая тех, кто проник внутрь Дворца, уже ловко лез по узкой пожарной лестнице, приделанной к зданию со стороны заднего двора, какой-то блондинистый разбитной ефрейтор. Снизу, с земли, за ним следили сотни глаз, слышались подбадривающие возгласы… Он подлез к карнизу и, одной рукой держась за верхнюю перекладину лестницы, уже снимал болтавшийся на шее автомат… Но в эту минуту сухо прозвучал одиночный выстрел, и ефрейтор, судорожно взмахнув руками и вскрикнув, полетел вниз.
После этого надолго наступила тишина. Пулемет замолчал. Возможно, что у стрелявшего кончились патроны. Правда, никто больше не решался подняться на крышу по пожарной лестнице, понимая, что, с патронами или без патронов, красноармеец теперь следит за ней. А позже сверху послышались глухие удары. Те, кто проник внутрь здания, подобрались к чердачному люку и вот-вот могли его взломать. Солдаты, укрывшиеся под стенами Дворца, стали один за другим выходить на асфальт перед подъездом – ведь красноармейцу теперь было не до них, – и они задрали головы, надеясь увидеть приближавшуюся развязку.
– Рус… Плен… Плен!
– Есть жизнь!
И вдруг, будто отзываясь на эти возгласы, на узенький бетонный козырек, нависавший над крыльцом, вышел он. Солдаты вначале испуганным стадом шарахнулись под надежную защиту стен, но, в какой-то миг рассмотрев, что их противник на этот раз безоружен, снова вернулись и столпились перед крыльцом.
Красноармеец стоял, чуть пошатываясь, с забинтованным лбом, с заложенными назад руками. Пожалуй, только давно не бритое лицо старило его, а так – юношеская худоба плеч, неокрепшая тонкая шея подростка в расстегнутом воротнике гимнастерки. Ветер пошевелил и разбросал пряди волос над грязной окровавленной повязкой, и он откинул их назад резким движением головы, не вынимая рук из-за спины, всматриваясь в толпившихся внизу солдат с презрительной, словно бы вопрошающей усмешкой…
Город так и не узнал, кто он был, этот парнишка. Может быть, случайно отстал от своего полка или же добровольно вызвался в этот смертный заслон? Может быть, забегал на соседний рудник, чтобы проститься с матерью, и не успел уйти? Может быть, если не в этом, так в другом шахтерском Дворце встречался с товарищами, с подругой? Брал в библиотеке книги? Играл на мандолине или на гармошке? После работы стучал костяшками домино или полководил на шахматной доске? Крутил «солнце» на турнике спортивного зала или с волнением стоял за кулисами, ожидая знака режиссера, сигнала к выходу? Выбрал ли он это здание лишь потому, что оно было выше всех других, или, пристраивая к карнизу пулемет, вспомнил когда-то полнившиеся смехом, музыкой и светом коридоры, тишину читальни, размеренный шелест страниц?
За его спиной все громче гремели удары прикладов, слышался треск ломаемого дерева… Он помедлил, выждал еще несколько минут и вдруг широко, порывисто, будто крыльями перед полетом в бессмертие, взмахнул руками, в которых все стоявшие у крыльца увидели черневшие гранаты, и кинулся вниз…
4Уже три недели Игнат Кузьмич находился в Тихорецкой и с каждым днем становился все угрюмей, злей, а то и совсем падал духом. Его некогда светло-серый, а теперь измаранный, мятый пиджачишко то и дело мелькал в цеховых конторах паровозоремонтного завода. А паровоз, тот самый старенький, рудничный маневровый паровоз, над которым давно посмеивались все стрелочники и сцепщики станции, но преданность которому непоколебимо и упрямо хранил Игнат Кузьмич, продолжал стоять в депо, по-сиротски заброшенный, бездыханный. Его доставили сюда за месяц до войны, и по заключенному тогда же договору завод обязался закончить ремонт к пятнадцатому июля. Началась война, и в Тихорецкую полетели телеграммы с просьбой (да что там с просьбой – с настоятельным требованием!) ускорить ремонт. Станционных паровозов, которые прежде выручали рудник, теперь заполучить стало невозможно, а у Игната Кузьмича, начальника тяги шахтоуправления, кроме этого пышно звучащего титула, не было ничего схожего с тягловой силой, если не считать совсем обшарпанной «кукушки». А под эстакадами росли и росли штабеля, пирамиды невывезенного угля.
Тихорецкая долго не откликалась. Потом наконец ответили, что по обстоятельствам военного времени сроки ремонта переносятся.
И Игнат Кузьмич вместе со своим помощником Санькой рванулся в Тихорецкую.
Ехал с твердым и яростным намерением учинить полный разгром на заводе, но на всякий случай прихватил из последних запасов деповской кладовой и литр спирта – для другого, мягкого разговора.
Но еще в дороге, увидев на запасных путях станций недвижно замершие, захолонувшие «ФД» и «СУ» с котлами и тендерами, в которых зловеще зияли рваные раны, он понял, что его беда – только горькая капля в море беды народной.
Пришлось сразу начинать с того доверительно-мягкого разговора, хотя и он ничего обнадеживающего не сулил.
– Выпить я с тобой, Игнат Кузьмич, охотно выпью, – говорил хорошо знакомый ему Кондюшин, – сейчас сколько ни пей, все равно не опьянеешь. Как оглянешься, что вокруг делается, любой хмель слетает. Поэтому наливай себе и мне смело, не стесняйся. По старой памяти… А вот дела у нас с тобой никакого не получится. Нет у нас с тобой и не может быть общего языка…
Дверь в конторку кузнечного цеха была изнутри заперта. На столе завлекающе лоснился и истекал жиром рыбец, выменянный Осташко в Марцино на зажигалку собственного изготовления. Игнат Кузьмич с отчаянной мольбой вперял в сухие неподкупные глаза начальника кузнечного цеха свой, кажется, просверливающий всю душу взгляд.
– Да ты вникни, вникни, Кондюшин, ведь ремонтно-комплектовочный уже потрудился, свою долю вложил, подлатал, починил, теперь вся закавыка в кузнечном… Много ли возни ползунок отковать?
– Э, что ты меня ремонтно-комплектовочным укоряешь… Они когда латали? Весной? До войны? А сейчас и они с тобой разговаривать не стали бы… Тут «ФД» в очереди стоят…
– А уголь, уголь твоим «ФД» нужен, или они водичкой живут? Уголь с шахты вывозить надо?
– Дорогой ты мой, тут «Ростсельмаш» на колеса поднимаем, а ты про уголь… Уголь и в Кузбассе есть…
– Ну, коль так… коль до этого дошло, то, что ж ты думаешь, нам свое рудничное хозяйство и вывозить незачем? Подъемную, компрессоры, насосы?.. Снова же дело упрется в паровоз, – проговорил Игнат Кузьмич, холодея от мысли: неужто и впрямь такое может случиться и придется рушить шахту?
– Ну, твоей старушке такой груз не по плечу… Ее саму на буксире надо тащить…
Начальник тяги, оскорбленный, встал.
– Ладно, на буксире или не на буксире, об этом сейчас толковать не станем. Я только об одном дружески тебя прошу. Ты мне в своем цеху преград не чини…
Теперь Осташко обходил стороной конторки начальников, поняв, что все равно ничего там не добиться. Но его можно было увидеть то в одном, то в другом цеху – лазил, копался среди разного заводского хлама и старья, присматривался к снятым с паровозов частям, отыскивал единственно ему нужную. Благо, что никто с заводской территории не гнал: как-никак старый заказчик. На второй день поисков облюбовал где-то аж на седьмом, заросшем лебедой пути искалеченный бомбежкой паровозик своей же серии… Он стоял без тендера, с разбитым котлом, но часть, позарез нужная старому машинисту, к счастью, уцелела… Игнат Кузьмич раздобыл тали, тележку, снял и перетащил к своей «овечке» недостающую деталь. Вот тут и помог лишь початый тогда в конторке Кондюшина и прибереженный литр… Ночью двое слесарей подсобили поставить недостающую часть на место. Еще несколько дней ушло на то, чтобы привести в порядок остальное – наладить тормоза, проверить жаровые трубы, почистить и смазать все узлы.
Одним октябрьским утром он пришел к Кондюшину.
– Заряжай паровоз.
Кондюшин не удивился, знал, что не напрасно толчется на заводе приятель, однако посмотрел на него жалостливо, сочувственно.
– Куда ж ты теперь, Игнат Кузьмич, поедешь? Слышал сегодня сводку? Бои под Мариуполем…
– Ты панику не распускай и не спеши петь Донбассу заупокойную. Лучше скомандуй насчет зарядки… Чтобы не терять лишнего дня.
На заводе зарядка паровозов горячей водой и паром производилась сразу, с последующим разведением огня, и Игнат Кузьмич, действительно сэкономив время, пустился в свой нелегкий, отчаянный путь.
Бумаги в его потертом, многоскладчатом, как гармошка, портмоне лежали надежные, одну из них подписал даже Никита Изотов, строивший оборонительный рубеж по левому берегу Днепра, чтобы попытаться прикрыть Донбасс. В эти бумаги, пусть и хмуро, и раздраженно, но, все-таки не отказывая в некотором уважении, заглядывали даже уполномоченные управления военных сообщений. Да ведь и поезда шли в основном по одной колее, той, что тянулась на юг, а на север – на север все меньше и реже. И хотя зеленой улицы не получалось, не могло бы в эти дни получиться, Игнат Кузьмич после изрядных мытарств, перебранок, просьб все же проскочил Ростов, затем Таганрог. И вскоре на одном из перегонов, ожидая, когда перед полустанком поднимется семафор, Игнат Кузьмич впервые услышал доносившиеся откуда-то издалека протяжные орудийные раскаты. Справа на откосе насыпи лежал перевернутый вверх колесами четырехосный пульман, и всю широкую выемку вблизи него заполнили выкатившиеся из пульмана крупные полосатые арбузы. На траве со скибками в руках сидели два подростка-ремесленника и лузгали семечки. Игнат Кузьмич спустился с паровоза и подошел к ним.
– Где это гремит, ребята?
– А кто его знает… Мы нездешние. С утра будто тихо было, а сейчас началось… Слышите?
– А вы что здесь делаете? Стережете?
– Не-э, – засмеялся один из сидевших, – мы тикаем. От кого же стеречь? От немцев разве? Так от них не устережешь. Вот и присели подзаправиться. Да и вы, дядь, берите. Все равно пропадет…
– Откуда ж тикаете?
– Из Мелитополя.
Дальше парнишек расспрашивать было бесполезно, да и в дороге они находились пятый день и теперь сами питались слухами. Игнат Кузьмич, разостлав на тендере брезент, поставил Саньку и ремесленников цепочкой, они, передавая арбузы из рук в руки, грузили их на паровоз, пока не вздернулось вверх крыло семафора. Открыт был и выходной. Игнат Кузьмич, чуть замедлив ход паровоза, проехал мимо безлюдного перрона, только удивился, что не показалась, не выглянула даже красная фуражка дежурного. Неужели так и ехать без разрешения на занятие перегона? Но ведь семафор-то поднят?!
Заходило солнце; предвечерняя степь лежала тихой и умиротворенной, придорожные рощицы манили уютными, по-осеннему золотистыми лужайками, в небе стаились перед скорым отлетом грачи. Осташко высунулся из окошка паровозной будки и, прислушиваясь к ровному дыханию машины, ощущая боком жаркую топку, у которой орудовал Санька, невольно перенесся мыслью в далекое минувшее. Тогда, двенадцать лет назад, еще никто не посмел бы назвать железной клячей его «ОВ-285». Шахтеры добыли к Первомаю сверхплановый эшелон и доставить его в Москву поручили Игнату Кузьмичу. Паровоз был украшен так, словно и сам приглашался присутствовать на праздничном параде. В пути, на одной из узловых станций, машинисту передали газету, где были напечатаны стихи известного поэта.
…Где теперь ты мчишься по горам, по склонам,
На какой далекой, сказочной версте?
Сорокавагонный, красный эшелон мой,
Звонкими гудками пробуждаешь степь.
Добрая приветственная улыбка поэта, посланная вдогонку! Да и потом, после этого памятного маршрута, сколько бы сотен других эшелонов набралось, если бы составить все вагоны, что были вывезены маневровым паровозом из ворот рудника!
Сейчас «ОВ» вышел на закруглявшуюся высокую насыпь, посередине которой синели фермы двухпролетного моста. Он тоже был хорошо знаком Игнату Кузьмичу, как были памятны и эта обранная сохлыми камышами речушка, и кочковатый пойменный луг. Обычно, вскоре после того как он переезжал этот мост, потихоньку начинал укладывать в сундучок все свои пожитки, явственно ощущая близость дома, А сейчас тревожно замерло сердце – на рельсах перед мостом чернела шпала, за ней стоял и махал рукой, показывая, что путь закрыт, красноармеец.
Осташко затормозил. К паровозу подбежал лейтенант с черными петлицами.
– Ты куда прешь? – закричал он и заматерился, но, рассмотрев машиниста, который годился бы ему в деды, уже другим тоном спросил: – Кто вас выпустил? Взбеленились?
Игнат Кузьмич стал объяснять, что выходной семафор был открыт.
– Ну и что из этого? Да там ни одной живой души нет… И связи нет, понимаете? Связи нет, ни влево, ни вправо. – Лейтенант все же решил не посчитаться с сединой машиниста и резко приказал: – А ну, документы!
Игнат Кузьмич вынул свое портмоне, первой протянул ту бумагу, которая до сих пор действовала почти наверняка.
– Движение здесь остановлено, папаша. В Нагоровку вам не доехать, – прочитал и вернул бумагу лейтенант, но все же прозвучали в его голосе некоторая неуверенность, колебание, и Осташко это почуял.
– А вдруг да проскочу, товарищ лейтенант?.. Я ведь налегке, без груза… Да и сам лезть фашисту в пасть не собираюсь, – взмолился он, – мне бы хоть до Иловайска.
Лейтенант, ничего не ответив, отошел к вырытому неподалеку от моста окопчику, где, вероятно, стоял телефон. Дозвонился он или не дозвонился – осталось неизвестным, но лейтенант вскоре снова подошел к паровозу.
– Ну вот что, папаша… На твою ответственность… Езжай. Колодуб, убери шпалу.
Ох, если бы предчувствовал в эту минуту машинист, какую ответственность примет он на свои стариковские плечи спустя несколько часов!
Они выехали на другую сторону закругления, и Игнат Кузьмич задумчиво проводил взглядом оставшийся позади мост. В перистых, собравшихся у горизонта облаках кумачево пылала вечерняя заря, и на темно-вишневом небе резко и отчетливо прочерчивались красивые решетчатые фермы. Навстречу шел состав, и это ободрило бы, если бы не синий свет, отбрасываемый прожектором локомотива… Осташко мгновенно вспомнил о своем: все предусмотрел, готовя паровоз в дорогу, а вот закрасить фары позабыл. Машинист локомотива, высунувшись из будки, что-то прокричал, взмахнул рукой, и Игнат Кузьмич подумал, что и он напоминает об этом, о фарах… Месяц назад, по дороге на Тихорецкую, Игнат Кузьмич выскакивал на этой станции и покупал на небольшом базарчике малосольные огурцы, да и вся она была ему хорошо знакома – со своим пыльным садиком, с Доской почета на перроне, с колоколом, праздничное медное напутствие которого, казалось, и теперь зазвучало в ушах. В сгустившихся сумерках Игнат Кузьмич сперва не мог рассмотреть, что именно изменилось на станции, однако почувствовал, что все неотвратимо и отчужденно изменилось. Из безлюдной темноты и тишины несло гарью, и, хотя огня видно не было, что-то дотлевало, дымилось.
– Эй, есть кто? – кричал в распахнутые темные окна вокзала Игнат Кузьмич. Безмолвие. Только хрустело под ногами битое стекло да путались, позванивая, провода. Станцию, очевидно, еще днем разбомбили.
Если бы и рискнул ехать дальше, то все равно невозможно: первый путь загромождали сорванные с перрона глыбы камней, второй, по которому недавно прошел встречный, оставался свободным, по крайней мере в расположении станции, и Игнат Кузьмич, рассудив, что, может быть, по нему появится оттуда еще какой-либо состав, решил ждать…
Он приказал Саньке лечь спать, и тот примостился на уголь, натянул на голову дерюжку, но когда Осташко открывал топку и лязгал кочергой, то Санька просыпался, ворочался, и машинист чувствовал на своей спине испуганный взгляд. Не раз в течение этой томительной ночи Игнату Кузьмичу слышались отдаленные крики в степи, скрип колес, приглушенные гудки и шум машин. Тянуло пойти на степной большак, расспросить, разведать, но оставить паровоз опасался. Нет, уж лучше подождать рассвета.
А перед рассветом плотный пласт ночи встряхнуло взрывом. Он прогремел далеко, но был такой силы, что гул его пронесся по рельсам, отозвался во всем железном туловище паровоза. Санька вскочил:
– Где это, Игнат Кузьмич?
Машинист высунулся из окошка и посмотрел назад, в сторону долины, которую они проехали днем. В небе дрожало и затухало малиновое зарево.
– Это же… это же… мост взорвали!.. – пристукнув зубами, выкрикнул Санька ту догадку, которая в эти минуты больно сжала сердце и Игнату Кузьмичу. В памяти встало лицо лейтенанта с черными петлицами, его мрачные прощальные слова.
Рассветало.. Прояснились очертания обрушенной водокачки, зданий вокзала, на которых вздыбились сорванные крыши, покинутые всеми домики станционных служащих, на огородах обгорелый фюзеляж самолета со скорченной свастикой. На подъездных путях и в степи – ни души.
Игнат Кузьмич повернул реверс, дал паровозу задний ход, остановил его перед стрелкой, от которой отходил вверх по насыпи старый тупиковый путь.
– Ну, Сань, считай, что мы приехали, – сдавленным голосом сказал он кочегару. – Нагоняй пар, а я немного пройдусь.
Санька лихорадочно стал журавить в топке, изредка поглядывая в окошко. Игнат Кузьмич шагал в самый тупик, где в землю были вкопаны и скреплены железными скобами шпалы. Тупиком не пользовались, шпалы подгнили, отрухлявели, но это как раз и устраивало машиниста, как устраивало и то, что сразу за шпалами насыпь круто обрывалась.
Он вернулся, поднялся в будку.
– Так, Сань, забирай манатки и сматывайся отсюда, – распорядился он, кинул взгляд на манометр.
– А вы как? – трясущимися губами спросил Санька.
– Не бойся, одного тебя не оставлю… Мне еще надо с сынами встретиться…
– Так, может… может, еще подождем?.. Может, все обойдется?.. Выберемся?..
– Да слазь же, я тебе говорю! – свирепо закричал Осташко. – Не трави душу!.. «Подождем»! Этак можно, сам знаешь, кого дождаться…
Санька спустился с сундучком на землю. Игнат Кузьмич протянул ему и свой, потом выкатил из тендера и передал Саньке два арбуза.
…Паровоз, разнося по степи вопль гудка, плавно набирал скорость. До тупика оставалось полсотни метров.
Осташко еще минуту стоял на приступках, держась за поручни, потом спрыгнул, круто повернулся и зашагал к Саньке, боясь оглянуться туда, где вслед за сильным, потрясшим всю насыпь ударом затрещало дерево, заскрежетало железо, послышался грохот взорвавшегося котла.








