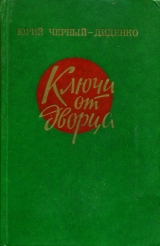
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
8
В этот день первому взводу выпал черед баниться. Болтушкин заранее, с утра, послал к реке Нечипуренко и Злобина, чтобы они натаскали воды да пожарче натопили баню, а спустя два часа повел туда всех своих людей, оставив в окопах дежурным лишь одно отделение.
Если бы с поймы не тянуло знобким, с запахами молодого ледка ветром, можно было бы подумать, что река еще не стала и продолжает свое течение. По верхнюю кромку некрутых берегов налитая морозным маревом, она словно непомерно разлилась, казалась больше, чем обычно, и паровала совсем так, как парует и дымится на ранней июльской зорьке. К этому времени солнце еще не успело отогнать туман в глухие протоки, в прибрежные лески и овраги, и струи даже на стрежне скользили матово-голубые, зыбкие… Сейчас на реке только кое-где темнели не затянувшиеся льдом промоины – следы недавней бомбежки, да у самого берега виднелись проруби, вырубленные саперами для хозяйственных нужд.
У одной из таких прорубей, по краям которой неисчислимым множеством игольчатых граней искрился снег, хлопотали Злобин и Нечипуренко.
– Ну и знатная же баня будет, товарищ сержант! – воодушевленно воскликнул Нечипуренко, завидев Болтушкина.
Красноармеец лихо рванул из проруби пудовое ведро, вода в котором дымилась, как кипяток, рукавом шинели смахнул с лица пот, шагнул к берегу.
– Да вы что же взвод подводите, не наносили еще, что ли? – озлился Болтушкин.
– Полный порядок, товарищ сержант!.. Это мы уже про запас… для любителей студеной. А горячей уже столько, что дюжину кабанов можно шпарить.
В просторной землянке, где находилась баня батальона, действительно было натоплено на славу. Под двумя железными ребристыми бочками из-под бензина, вделанными в приземистую плиту, пожирая валежник, бешено гудело белое пламя. Его залили, приоткрыли дверь, чтобы выветрился угар, и лишь потом стали раздеваться. Андрей Аркадьевич даже пошевелил ноздрями, жадно ловя запахи сухого пара и ржаной соломы, которой щедро был устлан пол землянки.
– Вот это удружили, вот это по-нашему, по-нижегородскому, – приговаривал он, сбрасывая в предбаннике шинель, ватник и прочую солдатскую одежку.
И через минуту, словно бы не поредевший взвод, а по крайней мере рота в полном составе оказалась в землянке, таким шумом она наполнилась.
– Хлестнем еще, а? Еще ведрышко, братцы! – попеременно, с упоенным восторгом кричали то Болтушкин, то Злобин и добавляли еще и еще воды на накаленные каменья печи. И они оба, и Скворцов, и Грудинин норовили побольше хватить легкими того огненно-натомленного воздуха, что был у самого верха, у задымленных черных бревен. А Бабаджян и Исхаков, не привыкшие к таким баням, боялись приподняться с соломы, плескались внизу, где холодным током бродил приятный сквознячок, и только посмеивались над сослуживцами. Злобин озорно распахнул дверь, выскочил наружу в чем мать родила и, исступленно вскрикнув, набрал в пригоршни снега, стал им растираться. Глаза Бабаджяна расширились в неподдельном ужасе.
– Товарищ помкомвзвода, да что же вы смотрите? – не выдержал и закричал он.
– Слышь, Яков, в самом деле, прекрати баловство! – пригрозил Болтушкин расходившемуся Злобину. – Не так уж велика честь в санроту попасть. Закрой дверь.
– Да пусть немец снега боится, а нам он только на пользу.
– Закрой, я тебе говорю, – еще строже прикрикнул Александр Павлович.
Уже кончали баниться, и тут в припертую дверь кто-то постучался.
– Эй, там, скоро ли? Это вам не гарнизонная.
– Потише, потише, тебе-то какое дело, – ответил Болтушкин, зная, что он привел взвод в точно отведенные для него часы.
– Давай, давай живее! – послышался уже и другой голос – грубоватый густой бас. – Нечего других задерживать. Что, женки там с вами, что ли?
– Да кто вы такие? – рассердился на назойливых, раньше времени явившихся сменщиков Александр Павлович.
– Кто? Первый взвод, вот кто!.. Наш черед! – проговорил уже другой, спокойный и деловитый, голос.
– Какой роты? Первых взводов в полку много.
– Восьмой, стрелковой… Да нечего нам допрос устраивать. Не чужие, открывай!
– Вот же шалопуты, вот же нахалы! – не выдержал и возмутился Скворцов тем, что кто-то столь бесцеремонно присваивает имя первого взвода и щеголяет им. – Дурницы захотелось? На натопленное, на готовенькое?
Но подошедших, видимо, не смутить было этим упреком. Дверь затрещала под натиском чьих-то могучих плеч.
– Товарищи, да это ж, мабуть, пополнение, – сам обрадовавшись своей догадке, воскликнул Вернигора.
Это предположение оживило всех.
– А и точно, не они ли?
– Ждем ведь.
– Говорят же, что не чужие.
Не кончили одеваться, открыли дверь. В завихрившихся клубах пара неясно обозначились, наполняя предбанник, кряжистые фигуры. Но вот пар стал опадать, пошел колечками низом. Болтушкин только что собрался натянуть на ногу сапог, а всмотрелся в стоявшего впереди солдата и растерянно выпустил сапог из рук, медленно, сам не веря своим глазам, приподнялся.
– Сергей Григорьевич! Дорогой мой!
– Ну, а не пускал ведь, не пускал, чертова кукла! – узнал и широко, всем своим зарумянившимся на холоде лицом осклабился Зимин.
В короткий миг перед глазами обоих встало их оказавшееся не последним прощание у Яхромы в дни зимней битвы за Москву. Привязав раненого Зимина к спаренным лыжам, четыре километра тащил его Болтушкин по глубокому снегу.
Уже в санроте, когда Зимин был переложен на нарты, запряженные веселыми, шумными лайками, наклонился к помкомвзвода – удастся ли еще свидеться? – крепко приник губами к запекшимся, зачугуневшим от боли губам Зимина. И долго затем смотрел, как по заснеженной равнине со звонким лаем и повизгиванием, с трудом различимая на блестевшем снегу, катилась диковинная упряжка.
– Ну и далече они тебя затащили, собачонки, коль через год только пришлось встретиться, – проговорил Болтушкин после паузы, наступившей вслед за первыми, как обычно, несвязными восклицаниями.
– Тогда-то? Эге, милый мой, да я тогда уже через месяц был на ногах. После того еще в два госпиталя заглядывал.
– Ну, извини, а я думал, что просто припозднился, залежался где-то.
– Где ж человеку нынче залежаться, Александр Павлович? – Разговаривая, Зимин между тем раздевался и сейчас похлопал по икре ноги, где багровел рубчатый шрам, кивнул на него: – Видишь? Это уже последний раз в Сталинграде отметился.
– И там был?
– Пришлось. Да вот и еще сталинградец со мной… – взглядом повел на Букаева. – Одним словом, все ребята хоть куда… Орлы! Как видишь, не теряются.
Орлы и в самом деле не терялись. То и дело хлопала дверь. Чертенков и Торопов уже дважды сбегали на реку за водой. Седых притащил охапку хвороста, и вновь загудело длинноязыкое жаркое пламя.
Обратно возвращались все вместе. С неба срывался сухой, вихлястый снежок, крутыми завитками ввинчивался в придорожные впадины, дымчато стелился по оголенным почерневшим тропинкам, курился и ластился у блиндажных накатов. И без того разгоряченные баней лица красноармейцев зарумянились на ветру еще больше. Но и ветер, и снежок сейчас только бодрили людей, и они шагали неторопко, весело, словно каждого впереди ждало тепло дома, а не пронизывающий до костей холод застуженных окопов.
Зимин и Болтушкин шли рядом.
– Ну, Сергей Григорьевич, отдохни с дороги да и готовься опять принимать взвод.
– Что он, снова без офицера?
– Да, командира нашего еще на переправе убило. А так взвод в полном порядке. Поговаривают, что скоро и автоматы дадут. В общем, бери дела в свои руки. – Болтушкин оглянулся назад на растянувшуюся по склону цепочку бойцов и затем перевел уважительный взгляд на погоны товарища. Старшина! Знать, изрядно поварила его в своем котле война и нелегкие суровые дороги пришлось пройти, если за год трижды повышали в звании!.. А Зимин словно бы отмахнулся от этих преждевременных выводов друга.
– Э, Александр Павлович, такое не нам с тобой решать. Да и что из того взвода, который под Москвой был, осталось? Номер да мы с тобой?
– Обновился, слов нет, обновился. Но не к худшему, я тебе скажу.
– Конечно, не к худшему. Этим-то мы и сильны.
И оба заговорили о давних общих друзьях, о том, кого и куда кинула судьба, вспомнили и тех, кто навеки заснул под могильными холмами в деревнях Подмосковья, и тех, от кого и сейчас нет-нет да и залетит случайная весточка.
Позади Зимина и Болтушкина валко и молча мерили неширокую тропу Чертенков и Вернигора. Для Чертенкова, впервые попавшего на передний край, все было здесь новым, незнакомым: и бережно прикрытый маскировочной сеткой штабель снарядных ящиков, приткнутый у пригорка; и словно завязшие в земле в своих укрытиях автомашины; и провода, множество проводов, подвешенных то прямо на ветках деревьев, то на раскачиваемых ветром легких шестах. И Чертенков осматривался вокруг не столько настороженным, сколько любопытствующим взглядом, тем взглядом, который еще не может отличить, насколько страшна для проходившего по этой тропинке была мина, чей свежий когтистый след виднелся чуть поодаль, насколько опасен был переход через этот увал, дорога по которому в ясную погоду просматривалась и простреливалась пулеметами фашистов.
– Откуда сам, браток? – скосив на Чертенкова глаза, поинтересовался Вернигора.
– Из Улан-Удэ! – охотно откликнулся Чертенков.
– Откуда-откуда? – подивился незнакомому для него названию города Вернигора.
– Из Улан-Удэ… Это за Алтаем, товарищ сержант!
– Улан-Удэ! Ишь ты! – повторил Вернигора и бесхитростно, словно размышляя сам с собой, расписался в том, что отнюдь не всегда у него были пятерки по географии. – Ну подумайте, и такой город, оказывается, есть!
В недавнее мирное время Вернигора не раз мысленно сетовал, что так неладно получилось у него с учебой. Успел закончить всего шесть классов. Надолго и тяжело заболел отец, и пришлось бросить школу, пойти работать в колхоз учетчиком. А позже только собрался ехать на курсы механизаторов, так призвали в армию. Три года, проведенные в ней до войны, и стали первой, по-настоящему серьезной школой. А еще большей житейской школой явилась армия в войну. Из тысяч прошедших перед ним людей, из тысяч знакомств в запасных полках, в госпиталях и комендатурах, в обогревательных и питательных пунктах и, наконец, в окопах вставал тот одушевленный живой облик Родины, который не разглядеть с одной только школьной парты. В огне боев была его Украина, а из глубины страны шли и шли на фронт новые полки, маршевые роты и батальоны – волжане и тамбовцы, уральские и тульские люди, москвичи и казанцы, поморы и сибиряки, казахи и пензенцы, шли с Лены и Енисея, шли с берегов Байкала и Тихого океана… А вот еще и новое – Улан-Удэ!..
– Что за люди там у вас? – спросил Вернигора, присматриваясь к скуластому, словно литому лицу Чертенкова, к чуть раскосым быстрым глазам, над которыми бугрились тяжелые веки.
Чертенкова не обидело это изумление, настолько простодушным оно было.
– Бурят-монголы… Скот разводим, лес валим, зверя бьем, паровозы строим, золото добываем, – усмехнулся и залпом выпалил Чертенков.
– Ты смотри! – восхитился Вернигора. – Главное ж гарно, що зверя бьете. Для цього ты сюда, браток, и послан!
Пригибаясь, бойцы миновали ходы сообщения и соскочили в окоп.
9
И еще в этот день была одна встреча. Но о ней в первом взводе не знали.
Когда взвод возвращался с реки, Грудинин и Торопов шли в конце колонны, замыкали строй. Иной раз трудно и объяснить, что толкает двух порой совершенно разных людей к дружбе. Что могло понравиться Грудинину, чуть ли не по-девичьи застенчивому и скупому на слова и любящему оставаться наедине со своими мыслями, что ему могло понравиться в балагуре Торопове? И что могло понравиться Торопову в замкнутом Грудинине, с которым и шуткой переброситься неловко: вдруг да обидится?! А вот же сблизились за какой-нибудь час. Может быть, Грудинин и сам тяготился своей замкнутостью и не хватало ему рядом приятелей, которые бы беззаботней, повеселей глядели вокруг? Может быть, и Торопов понимал, что не одна «легкость на язык» красит человека. И вот уже называли они друг друга по именам, и уже знали, кто из них откуда и какой путь прошел после тех памятных дней, когда одного в Иваново, а другого в Рыбинске, в общежитии машиностроительного завода, позвали и круто повернули их судьбы повестки военкомата.
– Ты мне скажи, Вася, и долго ж нам тут придется загорать? Страсть такого не люблю. Не по мне это! – порывисто признавался Торопов, чуть опережая Грудинина на узкой, косо заскользившей по склону дорожке.
– Может, уже и недолго… Вас ведь, пополнения, только и дожидались.
– В разведчики просился, когда роту рассортировали, так не послали. У нас, говорят, и без тебя их полный комплект. А в разведке бы лучше было. А? Как ты считаешь?
– Ну это ты зря. Им тоже настоящего дела иной раз месяц приходится дожидаться.
Взвод спустился в балку и проходил по дороге, как бы зажатой близко подступившим лесом. В глубине его меж картинно-пышными узорчатыми елями курились голубоватые и сизые дымки. Порыв ветра донес оттуда сладковатый на морозном воздухе запах какого-то варева, стук швейной машинки. Там шла неторопливая, размеренная жизнь полковых тылов.
– Вася, а Вася, а где у вас санрота? – неожиданно, точно спохватившись, спросил Торопов.
Дивясь такому мгновенному переходу в мыслях Торопова – от лихой разведки к санроте, – Грудинин посмотрел на пышущее здоровьем лицо товарища:
– А тебе на что она?
Тот по-свойски – догадывайся, мол, сам, – лукаво подмигнул глазом, заговорщически толкнул локтем.
– У нас с маршем сестричка шла, всю дорогу с ней болтал. Теперь ее куда-то в санроту направили.
– Вот оно что! – деланно усмехнулся Грудинин.
– Хотелось не потерять след, свидеться. Очень уж хорошая дивчина. Между прочим, она, по-моему, землячка твоя, ивановская. Сама на фронт упросилась. Мать ее вначале отговаривала: разве на фабрике ты не нужна, куда, мол, ты, Валюша. Так нет, настояла на своем…
Под ноги Грудинина словно что-то упало. На секунду он остановился.
– Валюша?.. – проговорил оторопело, недоверчиво, будто сомневаясь, да в самом ли деле сейчас, здесь, рядом с ним прозвучало это имя.
– Валюша! – мечтательно повторил Торопов. – И ты скажи, Васька, крепкая какая! Мы по тридцать – тридцать пять километров в день делали, и она с нами как ни в чем не бывало. Только на привалах все шутя просила – еще бы минуточку, еще бы минуточку посидеть, а потом поднимется, разойдется – и словно самый заправский солдат. Никак не удавалось на ночевках в одну избу попасть, больно уж строг старшина насчет этого, да и она сама… Да постой, ты куда?
Но Василий кинул на приятеля какой-то странно текучий, отсутствующий взгляд, прибавил шагу, обогнал полвзвода и, поравнявшись с Вернигорой, обратился к нему, командиру своего отделения.
– Мне бы на полчаса отлучиться, в санчасть надо.
– Чого це тоби вздумалось? Ну иди, когда треба, – разрешил Вернигора, зная, что кто другой, а Грудинин никогда не попросит лишнего. И через секунду шинель Грудинина мелькнула и скрылась среди заснеженных елей.
Он вернулся в окопы не через полчаса, а уже перед сумерками. Вернигора собирался было его пожурить, но увидел, как в глазах Грудинина плескался какой-то лихорадочный огонь, и смягчился.
– Да ты что, и в самом деле прихворнул? Иди полежи. Сменить нужно будет, вызову.
И вот Грудинин лежит на устланных ветвями сосны нарах. В утлую скрипучую дверь тянет ветер-сиверик. Холод ползет на нары и с земляного пола, на который сапогами нанесены плотно сбившиеся ошметки снега. Холодом веет от заиндевевших, покрытых изморозью бревен наката. Грудинину хочется половчее укрыться шинелью. Он то натягивает ее полы на голову, то подтыкает воротник шинели под спину, точно боится, чтобы вместе с теплом тела не улетучилось и другое, самое дорогое тепло – тепло от только что пережитой встречи. Он заново переживал ее, заново осмысливал всем сердцем…
А было так. Он подошел к землянкам, где размещалась санрота, и в волнении замедлил шаги.
– Мне бы тут одну землячку отыскать, – проговорил он, когда на его стук дверь блиндажа открыла женщина с погонами лейтенанта медицинской службы, в черных роговых очках.
– Землячку? Какую? – переспросила женщина низким строгим голосом.
– Из Иваново… Сказали, что здесь она.
– Из Иваново? Будто бы у нас такой нет.
– Она новенькая. Сегодня только что прибыла.
– Ах, Валя! Так она рядом, вон в том блиндаже.
Сюда Грудинин уже не стучал, а рывком распахнул дверь, шагнул и мгновенно вобрал ищущим взором всю землянку… и ее, сидевшую у единственного оконца… Крохотное, непротертое, оно – да оно ли! – казалось, сейчас залило солнечным светом все вокруг.
Валя растерянно качнулась, привстала, вновь села. А он, даже не посмотрев, есть ли кто еще в землянке, бросился к ней, молча целовал и целовал ее губы, глаза, щеки, обнимал ее плечи, сжимал ее маленькие горячие руки.
– И ничего не написала, злая, ни слова же! – наконец проговорил он, не выпуская из своего взора ее счастливый, увлажненный взор.
– Васенька! Да как же ты можешь такое сказать!.. Это я на тебя обижена, а ты вздумал меня упрекать. Сам почему молчал? Как на курсы ушла, так и ни одного письма. Только и вся надежда, что похоронной не было.
– Ну, так у тебя хоть эта была надежда, а у меня? У меня что?..
Но долго ли можно вспоминать о посланных и недошедших письмах, о старых и новых адресах, о недоразумениях и случайностях, порожденных войной, что перевернула, встряхнула не только их жизни, а и миллионы других!
Валя смотрела мужу в лицо. Ветры и стужи кинули на него не загар, а какой-то темно-красный сургучный оттенок, отчего еще ярче обозначились и голубизна глаз, и светлые, словно поредевшие брови. Еще больше углубилась впадинка на давно не бритом, худом подбородке. Стал тоньше и оттого будто загорбился нос. Неужели милей были теперь эти черты после полутора лет разлуки? «Милей, милей», – признавалось сердце. «Милей, милей», – повторял сам себе и Василий, не отводя ласкающего взгляда от Валиного лица.
Дверь блиндажа распахнулась. В офицерской шинели внакидку вошла женщина в черных роговых очках. Увидев, что Валины руки лежат на плечах красноармейца, она недоуменно поправила очки. Не слишком ли увлеклись земляки?
– Сестра, подойдите помогите Власенко. У нее раненый, – сухо сказала она.
– Виктория Львовна, – Валя поднялась, не снимая рук с плеч Василия и будто опираясь на него. – Это мой муж! Нашелся! В этом же полку!
…И три, и четыре, и пять дней назад Грудинин, как и все на плацдарме, жил думами о предстоящем наступлении, нетерпеливо ожидал его. А между тем только сейчас он в полной мере почувствовал себя душевно готовым к нему. До этого смутно тяготила мысль о том, что оставалось недосказанным между ним и Валей, недосказанным в их судьбах, в их жизни. И это томило, как томит человека, собравшегося в большую дорогу, неясное сознание чего-то незавершенного. А дорога, в которую вот-вот должен был позвать его властный голос командира, – триста метров, отделявших наш передний край от вражеского, – была самой непостижимо дальней и неизведанной из всех дорог.
10
Части, сосредоточенные на плацдармах в верхнем течении Дона, в том числе и в районе Сторожева, перешли к активным боевым действиям в середине января. Это совпало с тем временем, когда командование окруженной под Сталинградом группировки противника отклонило наш ультиматум и советские войска повели бои по ее уничтожению.
Подставляя свою обреченную группировку под тяжкий молот танковых и артиллерийских ударов и ударов с воздуха, страшась дальнейшего продвижения наших войск на запад, на Украину, гитлеровцы прилагали лихорадочные усилия, чтобы удержать за собой рубеж Воронеж – верхнее течение Дона – нижнее течение Северного Донца. С этой целью спешно перебрасывались из Западной Европы резервы, сколачивались подвижные ударные группы. Но советское командование не склонно было давать оккупантам ни дня, ни часа передышки. И Воронежский фронт начал наступление.
…12 января, еще задолго до рассвета, Зимин, Болтушкин и Скворцов были вызваны в штаб батальона. Уже один тот факт, что они – три коммуниста – одновременно понадобились так внезапно и в такое неурочное время, позволял догадываться, что долгожданный час настал.
Рассвет рождался в зимней ночи томительно медленно. Над окопами долго не рассеивалась сумеречная, схожая с поздним вечером мгла, а едва только тускло обозначилась и стала подниматься чуть повыше темно-серая парусина неба, как трое отлучившихся вновь были в окопах.
Казалось, что все трое они пришли не из такой же зябкой, пронизанной сырыми туманами ночи, какая склонялась над окопами, а спустились с близкого крутого перевала, по ту сторону которого над обрезом горизонта уже заискрился бодрящий краешек солнца, забрезжило раннее утро. Его первые отблески словно бы и сейчас лежали на разрумянившемся лице Зимина, придавая ему торжественную значительность, воодушевленность. Такой же трудно скрываемой значительностью узнанного светились и глаза Болтушкина, Андрея Аркадьевича…
Это заметили все.
– Сегодня? – не выдержал и, знобко, взволнованно прищелкнув зубами, воскликнул Нечипуренко и тут же, смутившись – не приняли бы это за трусость – переспросил уже спокойно и почти утвердительно: – Наверное, сегодня, товарищ старшина?
– Сегодня, товарищи! – словно освобождаясь от ожидаемой всеми и лежащей на его плечах ноши, выдохнул Зимин.
Трое коммунистов сразу же разошлись в разные стороны по крыльям окопа, как люди, уже заранее обдумавшие, что именно велит им делать это коротко прозвучавшее «сегодня».
Недавно Зимин принял от Болтушкина первый взвод. Правда, перед этим, размышляя, кому из них какое место отвести во взводе, и командир роты, и командир батальона оказались в некотором затруднении. И это было естественно. И Сергей Григорьевич и Александр Павлович – хоть первый был моложе на три года – выглядели, как близнецы, вскормленные одной мамкиной грудью, выросшие в одной семье, воспитанные в одной и той же определившей их характеры и натуры среде. И тот, и другой председатели колхозов имели уже немалый опыт в руководстве людьми. Этот опыт терпеливо и настойчиво прививала им, в прошлом батракам, партия. Она, партия, научила их, как сплачивать людей в их движении к поставленной цели, научила считаться с большим и малым в этом движении, научила находить те простые правдивые слова, которые всегда трогают и волнуют душу человека своей бескорыстной и бесхитростной прямотой. Почти одинаков был и их военный опыт. Болтушкин даже имел в смысле солдатского стажа некоторое превосходство. Он с начала до конца прошел всю финскую кампанию, вызвавшись в армию добровольцем, благо, что начало той кампании застало его на курсах, откуда отпустить человека на фронт было легче, чем с поста председателя колхоза.
Над всем этим, взвешивая биографии обоих, и задумались командир роты и комбат. Решили – раз Зимин все-таки был званием повыше и – главное – прошел самую к тому времени высшую ратную школу – школу Сталинграда, – накануне наступления исполняющим обязанности командира взвода, до присылки на эту должность офицера, назначить Зимина, а Болтушкина – его помощником.
В короткий срок Зимин быстро познакомился со всеми людьми. Лично пережитое подсказывало ему, что своей самой существенной стороной они предстанут не в окопном затишье, а потом, в наступающем горячем деле. Сейчас, после партийного собрания, шагая по устланной хворостом траншее, Зимин поочередно передавал бойцам в окопах столь знаменательную для каждого из них весть, а она неведомыми путями уже обогнала его, катилась впереди.
– Так, значит, сегодня, товарищ старшина? – тем же вопросом встретил его Вернигора и, форсисто закатив обшлаг шинели, глянул на свои пятнадцатикамневые, доставшиеся еще в битве под Москвой трофейные часы. – Без двадцати девять, наверное, в девять начнем, а?
Зимин тоже вынул часы, старинные, еще отцовские, с пожелтевшим циферблатом, те, над которыми не раз посмеивались на совещаниях в районе и которые были хорошо известны своей точностью во всех бригадах усовского колхоза.
– Твои отстают, Вернигора, поставь по моим, сверенные…
– Ну, чертова ж трофейщина, никак не выдрессирую их по нашему времени, – обозлился Вернигора, снял варежку, желтыми протабаченными пальцами завертел шляпку часов, – а ведь в девять, чует мое сердце, что в девять.
Зимин и сам точно не знал, когда начнется наступление, знал только, что ему будет предшествовать длительная артиллерийская подготовка.
– Нам тогда сигнал дадут, такой сигнал, что хоть уши затыкай, все равно услышишь.
– Так это уж я знаю! – восторженно подхватил Вернигора. – Не впервые такой сигнал слышать. Недаром ребята жалуются, что позади нас нигде и под куст не присядешь, куда ни сунешься – или пушка, или миномет… сгоняют нашего брата… А мне, товарищ старшина, и сон сегодня в руку приснился. Повез я будто из своей Михайловки в Николаев кавуны продавать, крупные, херсонской породы, большие. И вот еду через мосточек, а доски под колесами так гуркотят, так гуркотят…
– Ну ладно, Вернигора, ладно, – засмеялся Зимин, – ты лучше скажи, как твое отделение, готово?
– Как штык, товарищ старшина. Когда узнали, вчера трижды проверил.
– Что узнали?
– Да про наступление…
– Откуда же ты узнал строжайшую военную тайну?
Вернигора посмотрел на Зимина несколько растерянно: что он, шутит, хочет ввести в заблуждение или говорит серьезно?
– Да дело ж солдатское, товарищ старшина. Саперы ведь еще с вечера на передний край пошли работать. Разминировали проходы… Тайна тайной, а нашему брату догадаться можно… Потому и мы с ночи начали готовиться. Потому и говорю, что все, как штык!..
Зимин усмехнулся, махнул рукой – что уж тут толковать…
– Ну что «как штык» – это главное. Украину ведь идем освобождать. Немцы ее легко не сдадут… Дай бог, чтобы про арбузы ты завтра досказал и чтобы я завтра тебя дослушал.
Зимин пошел дальше. Ему, конечно же, надо сейчас свидеться не с Вернигорой, под шинелью которого на груди уже давно была приколота медаль «За отвагу», а с Чертенковым, Павловым, Злобиным, Фаждеевым, людьми еще не обстрелянными.
– Постой, погоди! – крикнул он, увидев впереди Павлова.
Правда, Павлов никуда и не порывался идти; он сидел на корточках в витке окопа и, только что старательно отерев пальцем внутренние стенки раскромсанной тесаками консервной банки, собирался отправить остатки ее содержимого в рот.
– Куда спешишь? Погоди, говорю, – сказал, подходя, Зимин.
Лицо Павлова – как яблоко, и розовое и округленное, – выразило недоумение. Недоуменно, словно призывая к вниманию, замер и палец с белым, как снег, лярдом.
– Так ведь, товарищ старшина, не я один, все ребята сейчас съестное подбирают, здесь солому только и оставим. Сытому идти теплее…
– Эко ты о каком тепле думаешь. А еще вологодский. Небось зимой не раз на охоту ходил, – дружески журя красноармейца, Зимин чуть ковырнул ногтем лярд, размазал его на ладонях и энергичными движениями стал втирать в щеки, – вот что надо с ним делать…
– Да вроде бы мороз небольшой, – оправдывался красноармеец.
– В лесу небольшой, в окопе тоже, а в степи, как ветерок потянет, сразу побелеешь. Ты знаешь, сколько, может быть, сегодня придется нам километров отмахать? Не знаешь? То-то!
Пока красноармеец обеими руками втирал в свое еще более раскрасневшееся лицо смалец, Зимин взял его винтовку, цепким и приметливым взглядом осмотрел ее, проверил, исправно ли действует затвор, хорошо ли закреплен штык, а под конец обеими руками поднес ее плашмя к губам – словно собирался поцеловать, – бережно сдунул какую-то соринку и с секунду смотрел, как ожила и матово замерцала согретая теплым дыханием сталь.
– Винтовка у тебя ладная, Павлов, – сдержанно похвалил Зимин не то красноармейца, не то его оружие. – Зачем идешь и куда идешь – тоже знаешь, говорили не раз. И силенка у тебя, я вижу, есть, сноровки только не хватает. Мой тебе, друг, совет, когда начнется, держись за нами, посматривай на Вернигору, на Букаева, на Болтушкина. Тебя в обиду не дадут, ну и в… в остальном будь счастлив.
Будничная, обычная взыскательность, с которой Зимин осмотрел винтовку, а затем подсумок, лопату, подвешенные к поясу гранаты, не могли не внушать спокойствия. Спокойствием веяло и от всей осанки старшины. Истончившееся сукно старой шинели так плотно, без единой складки, обтягивало его чуть выпяченную вперед грудь, что, казалось, под ним был не ватник, а кольчуга, в какой в старину ходили в бой его земляки – нижегородские люди. Все это, и слова старшины, и его полный деловитого достоинства вид, вызвало у Павлова то нужное перед атакой состояние духа, при котором человеку сопутствует пусть не хладнокровие – его не может быть в такие минуты, – но известная выдержка, ясность мысли.
– Спасибо за доброе слово, – просто сказал он Зимину, своему однолетку.
…Уже пошел одиннадцатый час, уже вернулись на свои места и Скворцов, и Болтушкин, так же как и Зимин, беседовавшие с бойцами, а ничто пока не нарушало тишины и размеренного хода дня. Восточный низовой ветер погнал дальше туманы, пришедшие из-за Дона, и открывавшаяся взору снежная равнина выглядела мирной, спокойной, и даже частокол проволочных заграждений, будучи полузанесен сугробами, казался просто-напросто бодыльями подсолнечника, оставленными в поле.
Вернигора то и дело посматривал на часы. Стрелка подходила к одиннадцати.
– Ну, братцы, если и в одиннадцать не начнется, значит, отложено, – с отчаянием выкрикнул он, глядя, как сходятся обе – большая и маленькая – стрелки.
Но вот они плотно сомкнулись и будто тут же, мгновенно, силой возникшего контакта привели в действие гигантский часовой механизм. Рвущийся залп сотен, а может, и тысяч орудий тяжело сотряс небо и землю, гулкой, урчащей волной покатился по склонам балок и оврагов, и еще впереди не обозначилось ни одного разрыва, как второй, еще более могучий залп на миг качнул все, что охватывал взор, и сумрачная, зубчатая гряда леса со сказочной внезапностью поднялась и зачернела на снежной пустыне. Словно отдаляясь, она, эта гряда, изменила свои очертания, осела книзу и затем вновь, как в стеклах бинокля, приблизилась. Взметнулись косматые черные султаны, вот их больше и больше, они теснятся, громоздятся, становятся выше и выше. Их тени стремительно скользнули повсюду по снежному полю, и оно стало схожим с тем, каким бывает, когда яркое зимнее солнце неожиданно заволакивается тучей и уже не солнечные лучи, а их отраженный, мертвенно-серый, зыбкий свет ложится на белые просторы.
– Глядите-ка, глядите-ка, что-то там у них взорвалось, – не услышанный никем, крикнул Шкодин.








