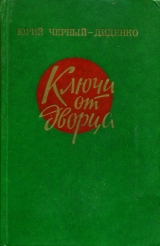
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 42 страниц)
К тому времени, когда над степью стало рассветать, все уже знали обо всем. Знали час начала артиллерийской подготовки и час начала атаки, знали, где именно и какой ширины проделаны проходы в своих и чужих минных полях и чем эти проходы обозначены, знали, из обращения Военного совета, куда поведет их нынешнее утро. И оттого, что все наконец-то стало известным, время томительно растягивалось, и то хотелось поторопить медленно разгорающуюся зарю, то, наоборот, чуть попридержать ее, чтобы в лишние минуты окончательно утвердить свою душевную готовность к этому дню. Оглянуться на прожитое, на хорошее в нем и плохое, вспомнить близких, письма, полученные и посланные, сказанное и недосказанное в них… А недосказанного… ох, его всегда больше.
Никто не спал.
Только саперы, для которых первые поединки со смертью остались уже позади, в истаивающей душной ночи, теперь, вернувшись с ничейной полосы в окопы, прикорнули кто где в неодолимой дремоте. Один из них, пожилой, костлявый, разбросался прямо поперек траншеи… Алексей, проходя мимо, хотел было оттянуть его в сторону или разбудить, но пожалел. Очень уж многозначительно выглядела лежащая в нише, рядом с сапером, его выгоревшая пилотка, полная немецких капсюлей, в каждом из которых ранее таился чей-то зловещий, но отведенный умелой рукой жребий.
Небо бледнело все сильнее, стали заметны мраморные разводы реденьких облаков у горизонта, вскоре они зарозовели, огнисто затеплились. И едва над землей приподнялся расплющенный, малиновый краешек солнца, как вся степь дрогнула, сотряслась, будто пробудились, вырвались наружу из подземных глубин какие-то невиданно могучие силы, и, умножаясь близким и далеким эхом, шквально накатился первый, отсчитанный сотнями сверенных часов орудийный залп. Алексей посмотрел на свои наручные… Четыре ноль-ноль… Все точно, и секундная стрелка не успела обойти свой круг, как внезапно там, где ветвились вражеские окопы и ходы сообщения, зачернела, закурилась нескончаемая гряда огнедышащих, извергающих пепел и лаву вулканов. Дым, всклубившийся было над их невидимыми кратерами, ветер стал сметать в сторону, но вновь содрогнулась степь, и теперь разрывы снарядов встали плотной, зубчатой стеной, в основании которой змеились, исчезали, снова появлялись огненные разломы, просверки, вспышки, молниевые зигзаги.
– Вот это зорька! – выкрикнул кто-то над ухом Осташко.
Он оглянулся, увидел Сорокина. Степан снял и протирал очки, в глазах восторг. Он пришел в батальон еще с вечера, и Алексей посоветовал ему не отходить от командного пункта, держать связь с Трилисским. Какого же черта он здесь, в роте? Не хватало того, чтобы увязался за ним, за Алексеем, отвечай тогда за него. Да и не в этом дело, просто будет мешать. Со своим болтающимся на боку пистолетом, из которого, наверное, ни разу не пришлось стрелять. Со своей близорукостью и расспросами, какие уместны в любое другое время, но только не сейчас, не в эти горячие минуты.
– Ты почему ушел с капэ?
Алексей разозлился так, будто Сорокин самовольно покинул заранее предназначенное ему в боевых порядках батальона и обусловленное строгим приказом место. Во всяком случае, именно так показалось Сорокину.
– А что? – растерянно, с глупейшей улыбкой спросил он.
Объяснять ему что-либо или уговаривать было бы еще глупее.
– На КП, приказываю – немедленно на КП и будешь передвигаться вместе с ним.
Видя неуступчивое, разгневанное лицо земляка, Степан попятился, нехотя побрел ходом сообщения к штабному блиндажу.
Артиллерийское наступление, развернувшееся по всему фасу орловского выступа, нарастало, становилось все ожесточеннее, яростнее, и порой можно было подумать, что забушевавшие в степи смерчи вырвались из-под умного и расчетливого людского контроля и теперь уже неуправляемы. Но стоило внимательно прислушаться к разноголосому реву орудийных стволов, стоило пристальнее приглядеться к тому, что творилось там, впереди, и становились заметными продуманность и мудрая спланированность наносимого удара. В то время как полковая и дивизионная артиллерия обрабатывала передний край немцев – рвала, разметывала проволочные заграждения, сминала и засыпала окопы, взламывала бункера и другие убежища, дробила укрытые в стальных колпаках пулеметные гнезда, в это же время полки артпрорыва, гаубичные, дальнобойные, подтянутые, переброшенные сюда из резерва Верховного Главнокомандования, обрушили огонь на все живое, двигающееся, способное к последующему сопротивлению в глубинах вражеской обороны.
Для Алексея прежде вершиной артиллерийской мощи были огневые налеты и контрбатарейная борьба на Ловати, а сейчас они представились чуть ли не каким-то воробьиным чириканьем… Оказывается, что слова Сталина, назвавшего артиллерию «богом войны», слова, повторяемые ныне во множестве газетных заголовков, он до сих пор осознавал чисто умозрительно, а вот он; бог-то, всамделишный – грозный, суровый, всесильный, с разметавшимися дымчатыми космами, с неумолимо карающей огненной десницей.
Очевидно, так же в эти минуты воспринимали происходившее и все другие в батальоне, во всяком случае большинство. И Маковка, который в своей лесной глуши только слышал о Магнитке, а вот и увидел ее разгневанную силу, и Солодовников, для которого после полученной скорбной вести этот час был часом возмездия…
Солнце уже круглилось над Новосилем и било бы немцам прямо в глаза, если бы могло проникнуть сквозь плотную пелену стелящегося в их сторону дыма. Солдаты, смелея и смелея с каждой минутой продолжающейся, незатихающей канонады, приподнялись на штурмовые ступеньки, а Спасов выбрался наверх и полулежал на бруствере.
– Во дает моя «Аграфена»! Узнаю! Разошлась! – азартно выкрикнул он, оборачиваясь к стоявшему у стереотрубы Осташко. – Товарищ капитан, что видите? Может, там и писарей уже не осталось?
– Ох, больно ты скор.
– Так я же вполне серьезно. Гляньте, какая преисподняя заварилась. Все кувырком пошло. Неужели уцелеет какой-либо гад?
– Каблуком, каблуком надо придавить, Адам… Иначе дела не будет, – отходя от стереотрубы, Алексей хлопнул по свисавшему в окоп обтоптанному, с побуревшим голенищем сапогу Спасова.
– Считайте, что мое отделение уже там… Наши кирзовые назад хода не знают. Пусть только прояснится. Знамо, пехота – она все…
Пора было и себе выбрать те ступеньки, что поведут, поднимут в атаку. В полночь, после того как в ротах зачитали обращение Военсовета, Осташко и Замостин сразу поделили между собой предуготованные им в это утро места. И сейчас Замостин находился во второй роте, а Алексей направился на правый фланг – в роту Литвинова, к Зинько.
– Ну, ты поосмотрительнее будь, не зарывайся… Здесь, под Орлом, наша земля не кончается, еще шагать да шагать, – час назад на КП напутствовал своего замполита Фещук.
Все это были слова лишние, а не лишними, обязательными были только те, которые изо дня в день слышали от Алексея все, кто служил с ним в батальоне, и, значит, именно эти, его же собственные, слова были и для него самого единственно настоящим напутствием. Даже прежде, чем для других, для него первого…
Зинько тоже стоял на верхней ступеньке. Не отводил взгляда от черно-бурой тучи, нависшей над немецкими окопами, наверное, мысленно уже добегал до них. Оглянулся на Осташко и, позабыв, не поправляя своего чуба, разметанного ветром над изуродованным лбом, нетерпеливо спросил:
– Сколько на ваших, товарищ капитан?
– Сейчас…
Алексей не договорил… Вдруг, заглушив гул орудий, в небе пронеслись колесницы, заскрипели, завизжали ободьями, покатились дальше, дальше, закончили свой страшный полет разорванным на секундные промежутки перекатистым грохотом. Всех, кто сидел на бруствере, будто смахнуло ветром. Осташко и Зинько тоже в первые секунды невольно втянули голову в плечи. Они посмотрели друг на друга взывающими к снисходительности глазами.
– Ну и ведьмочка! Третий раз слушаю, а не могу привыкнуть, – укорил сам себя Зинько. – А ведь своя ж, в доску своя!.. Что ж, теперь вот-вот и сигнал…
Оба знали, что залпами «катюш» завершается более чем полуторачасовая артиллерийская подготовка. Там, где разорвались реактивные снаряды, дым стал жирней, смолистей. Все снова кинулись к брустверу. Алексей увидел в изгибе окопа свободные ступеньки, заторопился к ним.
Было пять часов сорок минут утра. Когда началась артподготовка, наверное, не одному Алексею почудилось, что приход этого июльского утра затянется, отодвинется в темно-серой пороховой тусклости, но, вопреки ей, рассвело стремительно, и, не запаздывая, явилась сотням, тысячам глаз вся огромность степи и огромность вставшего над ней, рассеявшего мглу солнца. Взлетела на тонком шероховатом стебле и беззвучно набухшей, вызревшей почкой лопнула и расцвела красная ракета… Такие же справа, слева, у соседей и еще дальше, дальше по всему переднему краю… В последний раз вбирая в себя широко открытыми глазами это быстро разгорающееся утро, отрешаясь, освобождаясь от всего постыдно-сковывающего, Алексей вновь ощутил на сердце ту легкость и проясненность, которые пережил как-то весной, на марше к Лебедяни. И это дивное своей нерастраченностью, молодостью и давностью чувство словно бы само взнесло его на бруствер:
– Дружно, товарищи, дружно… Вперед! За нашу Родину!..
Неподалеку кто-то отрывисто, призывно закричал, еще и еще… Литвинов? Золотарев? Зинько? Командиры отделений? После громыхания гвардейских минометов тишина степи казалась неестественной, обманчивой, и людские возгласы врезались в нее сбивчиво, вразброд… Но уже одно то, что они громко зазвучали здесь, где ранее недвижимо и безмолвно таились секреты, а этой ночью скрытно ползали саперы, уже в этом чуялась сила начатого дела… Взглядом, наспех брошенным по сторонам, Алексей увидел высыпавших на ничейную полосу стрелков, их изогнутую, неравномерную по густоте цепь, но различить лица так быстро не мог… Рядом глухой топот ног. Чье-то надсадное дыхание. Звяканье чьей-то лопаты… Три сотни метров надо было пробежать расчетливо, так, чтобы не выдохнуться, сохранить себя, свои силы не только для последнего броска, но и для боя в траншее… Если немцы еще там… Но они пока молчали. Над их окопами еще не развеялась и медленно оседала клочковатая темно-бурая завеса дыма. Оттуда вести прицельный огонь было невозможно. И первыми открыли его по пристрелянным площадям ничейной земли где-то еще устоявшие, выжившие в смерчах артподготовки минометные батареи… Шлепнулись мины. Но цепь стрелков уже подбегала к проходам в проволочных заграждениях. Здесь пришлось скучиться. Панков, пригнувшись, катил станковый пулемет и намеревался было проскользнуть, опередить…
– Стой, куда ты? – остановил его за плечо Осташко.
Пулеметчики должны были залечь перед проволокой и своим фланговым огнем прикрыть продвижение стрелков.
– Так молчат же, товарищ капитан, – вскинул блестевшее в испарине лицо Панков. – Вместе можно…
– Ложись в сторону… как приказано. Изготовьтесь!..
Панков поспешно откатил пулемет в сторону от прохода, развернул его, стал вставлять ленту, задергал затвором. Оказалось, как раз вовремя. Над яично-желтой насыпью, к которой приближалась рота, учащенно запульсировали вспышки выстрелов. Выручая своих, застучал пулемет Панкова. Насыпь вспылилась. Теперь немцы стреляли только из укрытых, почти незаметных бойниц, из-за врытых в землю щитов. Несколько таких стальных щитов разрывами снарядов выбросило из окопов, и чьи-то сапоги прогремели по ним гулко, как по кровельной жести… Здесь траншея прерывалась саженной воронкой. К ней в несколько прыжков подбежал Алексей, скатился на дно, перевернулся, выполз вверх к рыхлому, зернистому краю… Полузасыпанная траншея была пустой, но в ее ответвлениях мелькнули каски. Перекинув автомат в левую руку, Алексей вытащил из кармана и метнул туда гранату, ткнулся лицом в землю… Разрыв. И хотел было уже поднять голову, когда кто-то сзади снова прижал его лицо к земле, и раздался еще один взрыв… Повернулся, увидел покрытое грязным потом лицо Янчонка.
– Это я, товарищ капитан, и свою добавил…
Сколько времени прошло после красных ракет? Четверть часа? Час? Спросил бы кто-либо об этом у Алексея – он бы не смог ответить. А воронку уже обживали. Плюхнулся на ее дно и потянул за собой провод какой-то незнакомый, очевидно, артиллерийский связист. Санитар волоком втаскивал в нее раненого, а тот отгонял своего спасителя руганью.
– Сам, я сам… уйди… что ты меня… как бревно?.. Не цепляйся…
В тем ответвлении окопа, куда бросили свои гранаты Осташко и Янчонок, лежали сваленные осколками три немца; рука одного из них еще тянулась к кобуре пистолета, но пальцы сводило судорогой.
В воронку, неведомо откуда и взявшись, вдруг скатился Сорокин. Алексей взбешенно повернулся к нему:
– Послушай, ты отстанешь или нет? Сматывайся отсюда…
– К черту? Опять? Не имеешь права… Я буду жаловаться Каретникову… Мне через час надо быть на ПСД [4]4
Пункт сбора донесений.
[Закрыть].
– Так и спеши туда, чего ж ты ко мне привязался?..
– Хорошо, уйду… Ты только скажи, кто первым ворвался в траншею?
Но Алексей зло махнул рукой, выскочил из воронки.
Из-за угла окопа выбежал Зинько. Разодранная штанина… Без пилотки… Глянул на Осташко, на Янчонка, на немцев…
– Там тоже никто не ушел… Теперь во вторую. Полундра! Во второй полегче.
А по второй, по третьей линиям траншей уже били и выкатившиеся в степь орудия прямой наводкой, и те, которым отдавал целеуказания артиллерист из воронки, и еще неисчислимое множество других, что не замолкали, продолжали сотрясать степь.
Очистительный огневой вал двигался на запад, к Орлу; шел туда, дробя, перемалывая и вскидывая вверх обшивку траншей, обломки бетона и железа; разную окопную утварь, комья и проволоку заграждений, все неживое и живое, что враждебно и злобно таило в себе смерть и теперь само подлежало смерти…
13И двадцать – а их было всего двадцать – задыхающихся, распаленных минут атаки, о которых Алексей вначале думал как о самых вершинных испытаниях для батальона («Миновали бы они, а там за ними пойдут полегче»), вдруг плотно сомкнулись с другими, тоже гремящими, словно ввергаемыми в исполинскую камнедробилку, и к ним, перешагивая через слепящий степной полдень, стали прибавляться такие же еще и еще…
Из-за укрытий с облегчением, что наконец-то ожидание кончилось, вывернулись и, поторапливаемые командирскими рациями, лязгая и урча, понеслись вперед танки… Обгоняя пехотинцев, на ходу переняли с их плеч на окованные броней свои какую-то немерено тяжкую часть боя, его разгоравшегося ожесточения. Но только часть… Алексей пока не отставал от вращающихся перед ним гусениц. Ручьисто льющийся блеск металла… Душное, обвевающее лицо машинное тепло… Подсохшая в корку и сорванная траками измельченная в пыль земля… Гулко лопающиеся выстрелы башенного орудия, и при каждом из них тридцатьчетверка будто оседала для упора на днище… Все это какое-то время оберегало и Алексея, и бежавших вместе с ним пехотинцев. Но надо было видеть, что и как с остальными… Он чуть замедлил шаг… На холмистой степи, что час назад казалась столь загадочной, обманчиво безлюдной, теперь не оставалось ни единой пяди, которую бы не порушило шквалом наступления – колесами перемещающихся дивизионов, гусеницами самоходок, катками станковых пулеметов, тысячами сорвавших дерн саперных лопат. А позади, над переправами через Зушу, уже метали вниз свое черно-сорное, разбухающее на лету семя пикирующие бомбардировщики, запоздало пытались сдержать выхлестнувшуюся на западный берег высокую, взбурлившуюся волну. Над ними густо кружились, перехватывали, жалили, отгоняли их прочь, свергали вниз на приречные луга наши истребители. Но новые и новые десятки «юнкерсов» мелкой сыпью проступали на горизонте, а спустя несколько минут укрупнялись так, что можно было рассмотреть кресты на их крыльях, и плыли дальше, туда, откуда подтягивались вторые эшелоны войск…
Близкие разрывы мин – один и сразу же второй – заставили Алексея припасть к земле. Упали и два бежавших в нескольких шагах от него красноармейца.
– Гляди, иконостас какой в небе летит, – приподнял голову один из них. – Где ты, Маковка? Крестись!..
– Что пужаешь? Эти будто мимо…
– Все они мимо, пока на башку не свалятся.
– Не пужай, говорю…
– «Не пужай, не пужай!..» Тогда не залеживайся, пень таежный! Давай вперед!..
Однако и в самом деле, тех, кто наступал в первом эшелоне, немецкие бомбардировщики страшить не могли. Слишком изломанным, обоюдно вклиненным стал передвигавшийся, почти ежеминутно меняющий свои очертания передний край. Страшило другое. Уже несколько тридцатьчетверок пылало, и от них, начиненных неизрасходованными боекомплектами, разбегались красноармейцы. В полном безветрии жаркого полдня дым не расстилался, а вился над машинами черным штопором, плотной, только высоко вверху расплывающейся спиралью. В люке ближней загоревшейся машины показался танкист и уже вылез, собрался прыгнуть и вдруг обессиленно обмяк, сполз, скатился с брони… Из-за прикрытой усохшим кустом шиповника бойницы вел огонь пулемет. И другой танк, за которым бежало отделение Спасова, свернул туда, влево, на этот сотрясаемый исступленной дрожью выстрелов куст.
– Сюда, за мной! – выкрикнул Спасов.
Алексей тоже было вслед за танком метнулся влево, в спасительный заслон его брони, но увидел, что автоматчики, не сворачивая, продолжают бежать прямо, и понял, что сейчас это было вернее. Вал немецкой траншеи круглился всего в десяти – пятнадцати шагах. Нет, теперь уже не шагах, а в прыжках… Теперь только в прыжках… И этот рывок отделения Спасова решил все дело… В изгибах траншеи разорвались гранаты, ожесточились, перебивая друг друга, автоматные очереди. И Алексей, спрыгивая с бруствера вниз, тоже опередил вскинутый перед ним задрожавшей рукой пистолет, на секунду раньше нажал спусковую скобу. Отпрянув от упавшего под ноги тела, готов был стрелять еще, но там, в оплетенных хворостом ответвлениях, уже мелькали зеленовато-желтые гимнастерки с в о и х. Он не заметил, как перед этим танк наискосок, вгрузая правой гусеницей в обваленный окоп, подмял пулеметное гнездо; лишь чуть позже, когда и эта траншея была занята, увидел, что машина покачивается далеко впереди, а куст шиповника после пронесшейся над ним громадины пружинисто распрямлял ветки.
Облегченно распрямиться хотелось и самому. Но еще сильнее был другой, изнурявший все тело позыв – пить, пить!.. Без глотка воды, кажется, он не способен больше ни на один шаг, не сможет произнести ни одного слова. Горло и рот будто набило сухой, распирающей изнутри щепой.
На дне окопа сидел Зинько и, переложив автомат в левую руку, правую занес за спину, ощупывал себя. Алексей подбежал, хотел было спросить, что с ним, но пересохшая гортань выдавила только невнятный шепот. Так же невнятно прошептал что-то и Зинько, продолжая елозить рукой позади себя, и вдруг постаревшее, измученное лицо его разгладилось в улыбке – вытащил сбившуюся на спину флягу… Протянул ее Алексею, и он, благодарный, не стыдясь своей нетерпеливости, поспешно схватил ее. Металлическое горлышко было теплым, теплой была и вода, и, однако, какое блаженство – почувствовать на губах, во рту влагу… Разрешил себе два глотка. Сам же накануне напоминал всем, что с водой сегодня быть осмотрительней, не жадничать… Не больше позволил себе и Зинько. Подбежал Янчонок, пригубил и он.
– Прорвали, товарищ капитан… Гоним!..
Янчонок выговорил это слово так охотно и просто, что оно словно освободилось от всего митингового, многократно повторяющегося, засверкало с давно жданной новизной. Самое дорогое и важное слово – «гоним»! Не отдаленный зов в будущее – изгонять, гнать врага! – а то, чем они были заняты сейчас, здесь… Гонят!..
После той минуты, когда батальон поднялся в атаку, прошло уже четыре часа. Все это время Алексей только на отдалении чувствовал направляющую командную руку Фещука. Увидел его лишь после того, как дважды был сменен КП батальона.
Фещук сидел на камне за полуобваленной стеной избы, одной из тех, в фундаменте которых немцы устроили пулеметные гнезда, и разговаривал по телефону со Стученко. И хотя, как ожидал Осташко, ему, комбату, полагалось бы сейчас быть довольным – прорвали, отштурмовали и третью траншею, – лицо комбата оставалось злым, в багровых пятнах.
– Правей, правей разворачивайтесь, на высоту! Что фланг? Фланг сейчас не ваша забота, туда выходит новый сосед… Новый, понимаешь или нет? Уплотняйся… Выдюжишь?
Положив трубку, напустился и на Осташко.
– Ты, капитан, свои старые замашки забудь.
– Какие? Что ты, майор? – спросил Алексей, отлично зная, о чем идет речь.
– Какие? Это тебе не Северо-Западный… Что на рожон лезешь? Мне замполит нужен, а не политрук… Или, может, и Фещуку в отделение, в цепь, а батальоном пусть командует Новожилов?
– Ну, оставь, пожалуйста, про это… Все ведь хорошо. – Под этим Алексей подразумевал, что он жив, цел, а хотелось сказать и другое, что старые замашки не стали лишними и не так уж плохи… Но вовремя удержался, не сказал.
– Хорошо, по-твоему? А откуда ты знаешь: хорошо или нехорошо, если только ногами меряешь?
И на это не следовало обижаться. Лучше промолчать. В конце-то концов прав он, Фещук, который из-за этой полуобваленной стены видит все же весь батальон, отвечает за все, что в нем и с ним…
– А где Замостин? – спросил Алексей.
– Во второй, – чуть остывая, проговорил Фещук. – Им досталось, попали под шестиствольные… Добро, что все ж проскочили… Успели схлестнуться с немцами, отсиделись в их же окопах…
Связист, до этого, казалось, оцепенело дремавший, вдруг открыл глаза, подал Фещуку трубку телефона. Фещук слушал, и снова на щеках, на лбу разгорелись багровые пятна.
– Почему залегли? Там же, сам говорил, сотня метров осталась. Ну полторы, так что же? «Бьет, бьет!» А если залегли, так, думаешь, он вас целовать станет? Солохи! Постой, не отходи от трубки… Скажешь артиллеристу… Лейтенант, где ты там?
Из пролома в стене просунулась и взяла трубку чья-то рука. Пока артиллерист уточнял цель, которую ему сообщали из залегшей роты, Фещук развернул на коленях карту, ткнул пальцем в один из ее квадратов.
– Давай-ка быстренько вот сюда, Алексей, в третью.
И тут Осташко, вспоминая только что говоренное, не мог не усмехнуться.
– Со старыми замашками или с новыми?
– Что язвишь? Выполняй! Да кликни, возьми с собой связного.








