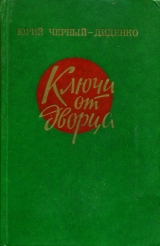
Текст книги "Ключи от дворца"
Автор книги: Юрий Черный-Диденко
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 42 страниц)
30
Зимин погиб на глазах у Павлова. Окоп Павлова располагался наискосок от зиминского, отходил уступом метров десять назад. Когда начался и стал все сильней и сильней ожесточаться бой, то даже в те выпадавшие немногие минуты, в которые можно было перевести дух, снять с автомата руку и сунуть ее за отворот шинели, чтобы она, рука, не закоченела, сохранила подвижность, не подвела, даже в эти короткие интервалы Павлов не смотрел по сторонам на других соседствующих с ним товарищей. Ему достаточно было видеть впереди себя, левей, Сергея Григорьевича, собственно, лишь его приподнимавшуюся над бермой, знакомо сдвинутую на затылок ушанку, изредка его плечи. Да, этого было достаточно, чтобы в пылу нарастающей схватки с врагом верить, что ты находишься на предопределенном тебе, умно и расчетливо выбранном месте, что рядышком, тоже на своих местах, все твои однокашники, и этой солдатской верой перебарывать, гнать прочь ту противную слабость, которая нет-нет да и подступала к сердцу в этой вскипевшей адовой буче…
Осколки снаряда, накрывшего прямым попаданием окоп Зимина, пролетели над головой Павлова, как иззубренный, но все еще страшный клинок, и посвист был такой же, как у клинка при сильном замахе, он не успел и зажмуриться… А потом, оглушенный, задыхающийся, чувствуя во рту чужой и отвратный железистый привкус, еще шире раскрыл глаза, чтобы различить, разобраться в том, что же произошло… На него сыпалась сверху, с неба, измельченная земля, понизу волочился удушливый, перехватывающий горло дым. Павлов судорожным движением рук нащупал на бруствере неостывший, горячий автомат… Вдруг ветер сгонит эту плотную, затемнившую все вокруг пелену, и он окажется лицом к лицу с подкравшимися немцами? Но вот растуманилось, посветлело. Там, где только что промелькнула ушанка Зимина, разверзлась и могильно чернела саженная воронка… Из-за танка, подбитого Алешей Крайко, выскочили и, не пригибаясь, пружинистыми прыжками устремились к этому уступу окопов немцы. Человек пять – самые, видать, отчаянные, оголтелые… Впереди какой-то старший с пистолетом в руке и с болтающейся на боку треугольной кобурой… Соблазненная этим остервенелым рывком, убыстрила шаг и накатывалась ломаным валом орава других, числом куда большая…
И вот теперь Павлов не выдержал и невольно глянул по сторонам, влево от себя, вправо… Сейчас, когда Зимин убит, кто же с ним, с Павловым, еще?.. И не увидел никого, верней, и не мог бы увидеть при этом поспешно кинутом, оторопелом взгляде.
Накануне, когда взвод оборудовал свои позиции, Павлова, человека, любящего все делать аккуратно, исправно, с крестьянской прилежностью и хозяйственностью, от души порадовало то, как искусно и хитро они распорядились этой доверенной им полоской степи у переезда. Сейчас же от вчерашнего порядка не осталось и следа. Все было смято, сдвинуто, искромсано, раздавлено. Над трижды перепаханной, перемешанной со снегом землей, над развороченными окопами и ходами сообщения плыли к железнодорожной насыпи и таяли темно-лиловые клочья дыма. У подножия насыпи продолжала гореть подорванная Скворцовым самоходка, бензин из ее бака выхлестнулся на разбросанный штабель шпал, и они тоже занялись жадным, смолистым огнем. На пруду, где Болтушкин, Кирьянов и Фаждеев насыпали ложные окопы, торчмя громоздились зеленоватые и словно бы притрушенные пеплом льдины. Вдоль берега желтел гладким срезом пласт глины, будто вывороченный наружу из глубин земли каким-то сатанинским плугом. Только обгорелая коробка метеостанции стояла неразрушенной, но все равно Павлов не мог бы разглядеть, жив ли Широнин, командует ли боем. Все, кто еще не погиб, кто уцелел, старались оставаться незаметными, вжаться в землю, слиться с ней, сохранить жизнь, а значит, сохранить силу для противоборства, для отпора врагу… Павлов же, мимолетно бросив по сторонам взгляд, решил – он теперь остался один, уже безмолвны все его товарищи, и перед этой подбегающей цепью гитлеровцев лишь он и есть то, что в боевом и строевом расписании, в расчетах и надеждах батальона и полка покуда еще именуется первым взводом.
Всю свою жизнь, с тех пор как из деревенского постреленка Павлов стал взрослым человеком, он строил дороги, незамысловатые грейдерки, проселки или лежневки, которые, если и были помечены на картах, то лишь на тех, что висели в правлениях колхозов, в райкоме партии, в райисполкоме, – короче говоря, дороги районного значения; меньшего же значения, как известно, и не существовало. А всего больше ему нравилось строить на этих дорогах мосты. Опять-таки это были не те большие многопролетные мосты или виадуки, на которых грохотали скорые, почтово-пассажирские и товарные поезда, а легенькие, деревянные, с веселыми, из неокоренной березы перильцами, перекинутые через тихие лесные речушки, ручьи, овраги, через мелиоративные каналы. По настилу этих мосточков бойко тарахтели колеса бричек, тракторов, полуторок с луговым сеном, бидонами молока, зерном, коноплей, лесом. Здесь, у мостков, по вечерам назначались свидания, ребятишки удили плотву. Если перед началом весенне-полевых работ в Краснополянске созывалось совещание, то на него непременно приглашали из Верхнего Рыстюка и Павлова.
– А как у нас с дорогами, товарищи? – спрашивал председатель сельсовета. – Люди жалуются, что после дождей через Медвежий Лог не проедешь. Надо бы тебе, Василий Михайлович, навести там мосток.
И Павлов запрягал лошадь доротдела, брал топор, пилу, рубанок и ехал в Медвежий Лог. Бывало, он не управлялся там за один день. Анна приносила ему из дому обед и могла долго смотреть, как плотничал муж, как в его руках топор, обтесывая бревна, словно бы играл, пел…
И только в войну, когда Павлов ехал в запасной полк, а потом на фронт и еще позже, эвакуируясь с фронта в далекий тыл, в госпиталь, а оттуда возвращаясь снова на передний край, он впервые увидел и большие широкие мосты своей Родины. Их неохватные, гранитной крепости опоры, исполинские шаги пролетов, кружевные фермы, узорчатые арки, поднявшиеся над полноводными реками и долинами… «Ох, красота ж какая!…». Красноармейская теплушка, казалось, отделилась от рельсов, вспарила в высоту и неслась сказочным ковром-самолетом над необозримой, просторно раскинувшейся внизу поймой с ее темно-зелеными дубравами, прибрежными озерами, лугами, затоками, причалами, с мускулистым стрежнем великой реки…
Когда позавчера в подвальчике метеостанции Широнин заговорил о их воинском долге перед народом, о Родине, то слушавшему его Павлову почему-то прежде всего и представились эти большие гулкие мосты…
Возможно, он бы вспомнил о них, будь для этого время, и сейчас, но сейчас у него оставалось на счету только несколько скупых, как гаснущие искры, секунд… Длинной, на полдиска, очередью автомата он срезал пятерых, тех, что вырвались вперед… Старший упал прямо у окопа, будто споткнулся о бруствер, и его слетевшая с головы каска лязгнула у ног Павлова. Быстрый, прицельно ищущий взгляд Павлова теперь уперся в спину свалившегося на бок немца. Стрелять невозможно. А вот-вот подбегут остальные, отставшие. Василий Михайлович оперся руками о берму и выметнулся наверх. Он порывисто вскочил и, прижимая локтем приклад, стреляя на ходу, ринулся навстречу цепи. Хрипло закричал что-то яростное, устрашающее, гневное, будто кричал за всех тех, кто замолк в этой степи навеки… Но вдруг то тягостное, скорбное безмолвие, которое после гибели Зимина мнилось за спиной, оборвалось… Из-за рытвин, из-за желтевшего пласта глины, из-за кочек, из обвалившихся траншей дружно и напористо ударили по цепи выстрелы.
– Падай, черт, ложись! – оберегающе настиг его чей-то властный и знакомый голос. Букаева? Вернигоры? Самого Широнина?
Павлов кубарем скатился в слегка курившуюся воронку, но еще успел подползти к ее краю и огнем почти в упор встретить дрогнувшую, разрозненно набегавшую цепь.
31
Командование четвертой немецкой танковой армии, осуществляя контрнаступление в районе Харькова, бросило в бой, чтобы пробить себе дорогу через беспаловский переезд, свыше двадцати танков и самоходных орудий – тысячу тонн стали! Но этот броневой смертоносный таран, направляемый отборными гитлеровскими панцирниками, безнадежно завяз в изрытой окопами и воронками земле перед малоприметным железнодорожным переездом, затерявшимся в безбрежной украинской степи.
Первый взвод – двадцать пять советских людей, которых сплотила великая присяга, данная народу, оказался неизмеримо крепче вражеского тысячетонного тарана.
А как нужны, позарез нужны были гитлеровским генералам эти необратимо ускользавшие от них, нет, вырванные у них часы! Недаром на Тарановку нацеливалась только что срочно переброшенная из Бельгии, усиленная другими мобильными подразделениями дивизия «Мертвая голова». Каждый час равнялся на картах оперативных отделов пятнадцати-двадцати километрам. Четыре часа означали шестьдесят-восемьдесят километров… Сокрушительный клин, глубоко с разгона рассекающий фронт… Это (по плану задуманной операции) настигнутые танками на марше, не развернувшиеся в боевой порядок наши дивизии, это – не изготовленные к огню, захваченные врасплох артиллерийские полки, это – не успевшие отойти и укрепиться на новом рубеже армии… Это – с ходу взятые Змиев, Чугуев, Каменная Яруга и дальше, дальше… Вожделенно начертанные разноцветными карандашами стрелы своим острием упирались в южные и восточные пригороды Харькова, захлестывали его. Вот он заманчиво мерещится, желанный и долгожданный котел! Окружение! Харьковская группировка советских войск в кольце! После зловещих дней траура, которыми Германия отметила гибель своей шестой армии, наконец-то рейху будет преподнесен блистательный первый подарок. Реванш за Сталинград! Пусть и неравноценный, далеко не равноценный, но остальное доделает Геббельс со своей машиной пропаганды, раздует, раструбит…
Однако стрелы, которыми самоуверенно тешили себя те, кто планировал контрудар, и те, кто его одобрил, утвердил, так и оставались на бумаге, точнее, сразу, вначале же притупились… Потому что у самого основания этих стрел, если от штабных схем обратиться к действительности, нерушимо пролегли окопы гвардейцев – семьдесят восьмого полка, его левых и правых соседей.
Время шло к полудню, а бой у переезда не стихал. К первому ранению Широнина вскоре добавились новые. Пуля вторично попала в ту же правую руку, чуть пониже наложенной Болтушкиным перевязки.
– Товарищ лейтенант… Петр Николаевич, да вы же так не высовывайтесь, когда командуете, – взволнованно ронял слова вернувшийся из штаба Петя Шкодин, перевязывая Широнина. – Лучше мне скажите, я куда угодно проползу и все, что надо, передам.
– Петро, Петро.. Должен бы знать, что командиру взвода принято управлять сигналами руки, – скривился от боли и, с трудом превозмогая ее, чуть усмехнулся Широнин. – Тут уж мне твоя прыть не нужна, а вот за то, что хорошую весть принес, тебе спасибо.
– Через час поможем, так и сказал, – повторил Петя. – У полковника, сами знаете, слово твердое, гвардейское. Да, товарищ лейтенант, я и позабыл вам сказать… Мотоциклиста по дороге встретил, чеха… Мчался к нашему полковнику…
– И что ж он? Видать, и им нелегко?
– Как я понял, вышли на рубеж… Окапываются…
– Эх, выдюжили бы!
За все эти часы, хотя Широнин всем своим существом сосредоточился на управлении боем, все-таки не раз жарко вспыхивала в его сознании мысль о правом соседе. Выстоит ли он? Справится ли со своей задачей? Когда Широнин увидел, какую силу бросили гитлеровцы против первого взвода, то он в этой грозной опасности для себя, для своих бойцов усмотрел, как это ни странно, и обнадеживающий признак. Ведь если бы немцы с ходу, во встречном бою, смяли чехов и прорвались бы на соседнем участке, то незачем было бы так остервенело штурмовать беспаловский переезд. Просто обошли бы его и ударили с тыла, в спину. Этого не произошло. А вот и Шкодин подтверждал, что чехословаки вышли и твердо стоят на порученном им рубеже, пожалуй, к этому времени уже вошли и в соприкосновение с противником. И коль немцы с удвоенной злобой рвутся в Тарановку, то, значит, и там, в Соколове, не нашли слабого, уязвимого места. Широнину не под силу было охватить мысленным взором весь протянувшийся на десятки километров фронт сражения, как его охватывали в высоких штабах дивизии, армии. Он отчетливо осознавал одно: немцы рвутся через беспаловский переезд на оперативный простор и во что бы то ни стало надо перекрыть им этот путь… Правый сосед не подводит, не подведет и первый взвод!..
Широнин приподнялся из окопа как раз в то время, когда фашистские танки вырвались на правый фланг к окопам отделения Седых… Только хотел крикнуть Вернигоре, чтобы тот поддержал огнем напарника, как ощутил внезапную боль в груди, покачнулся… Дышать стало тяжело, очевидно, пуля задела легкое, и ранение было сквозным – по спине побежала теплая струйка крови. Широнин схватился рукой за сердце.
– В грудь? – вскрикнул Шкодин, подхватывая вот-вот готового упасть лейтенанта. Но тот слабым движением руки отстранил Шкодина и несколько секунд стоял пошатываясь, с закрытыми глазами, словно по частице собирая усилие, нужное, чтобы устоять на ногах. С трудом открыл глаза, услышал голос Болтушкина:
– Товарищ лейтенант, подползают, берегитесь.
Гитлеровцы воспользовались тем, что подбитые взводом семь танков затрудняли красноармейцам обзор и обстрел, стали скапливаться за броней неподвижно замерших машин и теперь поползли к окопам. Над землей чуть виднелись тускло поблескивающие каски.
– Рус, плен!..
– Зачем кров?
– Давай-давай белый плат!..
– Нас много, – донеслись издалека картавые выкрики.
В груди у Петра Николаевича горело, страшила мысль, что потеряет сознание, упадет. Он захватил горстью комок перемешанного с грязью снега, сунул его за пазуху. Посмотрел на часы. Оставалось еще сорок минут до обещанного Билютиным подкрепления. А если оно задержится? В памяти встал вчерашний вечер, разговор с генералом… «Большие армии выигрывают большие победы. Но бывает, что и взвод…»
Да только взвод ли сейчас остался у переезда? Не стало уже Скворцова, Грудинина, Нечипуренко, Кирьянова. Убиты и трое из пополнения, много раненых.
– Болтушкин! – окликнул Широнин старшего сержанта. – Что с Зиминым?
– Убит, по-моему… Прямое попадание в окоп… Вместе с Крайко.
Вот и эти двое. Чувствуя, как нестерпимым становится жжение в груди и в гортани, Широнин еще сгреб с бермы снегу, положил в рот. Стало чуть легче.
– А это ж кто такой лихой один в контратаку поднялся?
– Павлов…
– Что ж он так, опрометью?
– Сгоряча, видать.
Широнин смотрел на Болтушкина.
– Александр Павлович, в случае чего примешь команду взводом на себя.
– Есть принять команду… в случае чего.
– А сейчас прижать фашистов пулеметами, остальным открывать огонь только по команде.
Гитлеровцы были совсем близко. Раздались пулеметные очереди, и ползущие ускорили движение, чтобы поскорее сблизиться с обороняющимися и подавить их сопротивление своим численным превосходством.
Но Торопов и Исхаков, чуть привстав над окопами и маскируясь за вывороченными глыбами земли, так умело направляли огонь пулеметов, что то один, то другой из ползущих распластывался на снегу. Немцы поняли, что потерь все равно не избежать. В цепи раздались слова команды, гитлеровцы встали, устремились к окопам.
– Огонь! – с силой крикнул Широнин и сам приник к ложе автомата.
Но каким губительным ни был огонь гвардейцев, встречи с врагом лицом к лицу, в неравной рукопашной схватке предотвратить не удалось. Широнин видел, как серо-зеленые шинели замелькали справа в окопах отделения Седых, над брустверами взметнулись приклады автоматов, всклубились разрывы гранат.
В это время из-за садов вырвалась самоходка, облепленная стрелявшими на ходу автоматчиками. Машина неслась прямо к развалинам метеостанции. Широнин дал по ней длинную очередь – она была последняя: диск кончился. Трое автоматчиков кувырком скатились с трясущейся брони. Широнин завозился, сменяя диск, а когда вновь повел огонь, то заметил, что навстречу самоходке, ящерицей извиваясь меж обрушенными камнями, ползет Шкодин.
Вражеская самоходка была совсем близко. Автоматчики соскочили с нее, тоже залегли меж камнями, бросили гранаты в метеостанцию. Несколько их разорвалось позади Широнина. Осколок ударил в пятку, другой рассек губу, выбил два зуба. Широнин не успел и выплюнуть их. Он увидел, как Шкодин привстал на колени, метнул гранату под гусеницу самоходки и сам, сраженный автоматной очередью, мягко, ничком упал на землю.
Самоходка остановилась. И тут в сознание Широнина неотвратимой опасностью вошли два темных зрачка. Один из них большой – дуло самоходного орудия – в упор наводился на метеостанцию, другой маленький, но не менее опасный… Выбежавший из-за самоходки гитлеровский офицер целился в Широнина. Петр Николаевич опередил его двумя слитно прозвучавшими выстрелами. Но прогремел выстрел орудия… «Цел», – в первую минуту подумал Широнин, когда осколки просвистели над головой и зашипели на снегу. Но стена метеостанции заколебалась, сдвинулась, Широнин не успел сделать и шага в сторону, как она тяжело рухнула на него.
32
Если бы год-два назад кто-либо сказал Фаждееву, что он – здесь ли, в украинской степи, или где-то на другом участке тысячеверстного фронта – предрешит исход такого боя и выйдет из такого поединка победителем, он бы сам рассмеялся, не принял бы всерьез этих слов.
Думается, что нет ничего более значительного и более заслуживающего внимания в жизни человека, чем те преображения, которые день за днем делают его отличным от того, каким он был прежде. Но сколько нужно таких дней? Какие из них всего весомей? Кто ответит точно?
Мы привыкаем видеть у себя во дворе посаженное нами же маленькое деревцо, и незаметно летит время, пока в какое-то весеннее утро, бросив на него случайный взгляд, искренне удивляемся и восклицаем: «А смотрите-ка, вот молодчага, дубок, как пошел в рост!»
Не так ли с человеком? Мы свыкаемся с ним, видим его рядом с собой будто бы одинаковым, но рано или поздно подходит час, и от всей души восхищенно дивимся: «Эге, да он ли это?!»
Когда же преображались, вырастали дубок, человек, о которых речь? Когда вырастал гвардии красноармеец Фаждеев? Наверняка значительно раньше, чем тогда, когда повестка военкомата позвала его в армию и привела в запасной полк, а затем во фронтовую часть. Здесь он прошел только шлифовку. А в какую бы обработку ни попадал металл, он не меняет полученных ранее коренных, первичных свойств. Человеческие же свойства Фаждеева слагались одновременно с обновляющейся жизнью его народа. За одним незримым пластом другой. За годом год. И когда из заброшенного в горах кишлака он, подпасок байских отар, впервые спустился вниз, пришел в шумный, лежащий на берегах Сырдарьи Ленинабад, сел за школьную парту. И когда он, подросток, закончив школу, бродил с партией присланных из Москвы ирригаторов от аула к аулу, от такыра к такыру, открывал путь воде, а с ней и новой жизни на полях дехкан. И когда позже он сам трудился на этих полях не с кетменем, нет, не с кетменем, который полвека не выпускали из рук отец и мать, а ведя трактор, властвуя над дивными силами, каких не знала прежде таджикская земля.
Но назвать ли все то, что желанной, светлой новизной входило в биографию паренька с Алтайских гор, что растило его и стояло у истоков его возмужания?! Добрый же ратный путь воину, которого окрыляет гордость за содеянное им и который со справедливым достоинством может оглянуться на прожитое!..
…Фаждеев в бою у переезда находился на правом крыле окопа, вторым от Скворцова, как бы замыкавшего траншею своей ячейкой. Левым соседом был Исхаков, ручной пулеметчик. При налете «юнкерсов» разрывы бомб густо окаймили эту часть окопов – вывороченная земля валом легла и впереди и сзади, – но ни одна из бомб не причинила никому никакого вреда. Начался бой, и только лишь в первые его минуты Фаждеев испытал тягостное замешательство, тревожную смятенность. Взволновала мысль: а что, если он в горячей схватке не разглядит или не услышит сигнала командира, а вдруг да он неправильно поймет его? Простит ли он, Фаждеев, себе это? Первый взвод всегда представлялся Фаждееву как нечто цельное, нераздельное, любая часть которого должна действовать в лад со всеми другими частями.
Но вот Широнин вскинул обе руки в стороны – дал команду открыть огонь. Фаждеев вначале чуть поспешно, даже как следует не прицелившись, нажал спусковой крючок. То ли его выстрелы, то ли выстрелы товарищей вырвали из цели атакующих и бросили на снег нескольких гитлеровцев. Еще очередь, еще!.. И, ободренный, он уже чувствовал свою слитность с теми, кто был справа и слева от него, свою волю в единой воле всех. Словно бы рукой сняло замешательство и суетливость.
После первой неудачи гитлеровцы поднимались в новые атаки. Редели ряды обороняющихся. На глазах у Фаждеева погиб, выручая взвод, Скворцов. Теперь он, Фаждеев, был крайним на правом фланге, и все более расчетливыми и точными становились его выстрелы. Как косарь, идущий позади другого косаря, подбирает огрехи напарника, так Фаждеев то одиночным выстрелом, то короткой очередью автомата завершал то, что пропускал пулеметчик Исхаков, увлеченный широким размахом своей свинцовой косы.
В начале шестой атаки близкий разрыв снаряда взметнул и обрушил на Фаждеева чуть ли не с воз земли. Присыпанный, он едва не задохнулся под земляной плитой, что придавила его плашмя ко дну траншеи. Но напружинился, с неимоверным трудом подобрал под себя колени и скинул плиту, вывернулся наверх. Едва отдышался, кинул взгляд по сторонам. В первую секунду даже не понял, что же именно изменилось у переезда, а чувствовал: изменилось. Присмотрелся: на месте метеостанции, откуда командовал Широнин, лежали развалины. Позади них в окопы первого отделения спрыгивали немцы. Слышались разрозненные выстрелы, разъяренные крики бойцов, завязавших рукопашную схватку. Фаждеев разглядел, как кто-то – кажется, Чертенков – прикладом автомата сбил наземь наскочившего на него гитлеровца; разглядел в полыхнувшем дымке гранатного разрыва почерневшее, искаженное лицо Вернигоры.
Издали на окопы, уже предвкушая свою победу, набегала с улюлюканьем и криками вторая цепь гитлеровцев, с которой было бы невозможно совладать оставшимся бойцам. Пулемет Исхакова молчал. Не видно было и его самого.
Фаждеев не выпустил из рук автомата и будучи заваленным, землей. Сейчас он первым делом инстинктивно потянул к себе рукоятку затвора: исправно ли оружие? Однако затвор не дошел до переднего положения. «Засорилось!»
Фаждеев оглянулся и – как же он раньше этого не заметил? – увидел далеко позади себя на пригорке отброшенный разрывом снаряда пулемет Исхакова. Красноармеец выскочил из окопа и, петляя меж воронками, вгрузая в снег, побежал к пригорку.
Никогда еще так не страшила мысль о смерти, как в эти минуты. Вот-вот свалит его посланная вдогонку или просто шальная пуля. И кто тогда узнает, зачем он покинул окоп? «Жалкий трус… Предатель… Убежал даже без оружия, бросил оружие». Разве не вправе так подумать каждый, кто останется в живых? Да и главное – останется ли кто? Свистнула пуля. Не своя ли?
Упал у пригорка, подполз к пулемету, лихорадочно ощупал его. Диск стоял на месте. Ни на затворе, ни на стволе видимых повреждений как будто не было. Прижал предохранитель…
Цепь фашистских автоматчиков уже была в двух десятках метров от окопов, когда сбоку внезапно заговорил пулемет. Словно кегли, падение каждой из которых вызывает падение следующей – с края и дальше, дальше по цепи, – стали валиться гитлеровцы. Кинжальный огонь, направляемый с пригорка, разил их в упор. И изломалась цепь, дрогнула, немногие оставшиеся побежали назад…








