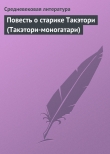Текст книги "Классическая проза Дальнего Востока"
Автор книги: Юань-мин Тао
Соавторы: Сайкаку Ихара,Гань Бао,Сикибу Мурасаки,Тун-чжи Юй,Сянь Го,Сигён Отшельник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 58 (всего у книги 64 страниц)
Сменился год, наступил второй год эры Дзисё. В первый день нового года во дворце государя-отца, как обычно, был праздник – придворные приносили свои поздравления. На четвертый день поздравить державного отца прибыл сам император. Все шло раз заведенным порядком. Но с тех пор, как минувшим летом погиб дайнагон Наритика и многие другие верные слуги Го-Сирака-ва, гнев неотступно терзал его душу, управление страной было в тягость. Мрачен был государь. В свой черед и Правитель-Инок с того самого дня, как Юкицуна донес ему о заговоре придворных, с подозрением относился к государю и, хотя делал вид, будто ничего не случилось, в глубине души считал, что надо его остерегаться.
На седьмые сутки первой луны в небе, на востоке, появилась комета; в восемнадцатый день засветилась она особенно ярким блеском.
Между тем дочь Правителя-Инока, государыня Кэнрэймонъин захворала. Все – и благородные и низкорожденные, – печалились о ее недуге. Во всех буддийских храмах читали священные сутры за здравие государыни. Всем храмам, где почитали японских богов, от имени императорской семьи разослали щедрые подношения. Врачи предлагали все лекарства, какие только существуют на свете, чародеи, владеющие тайной законов Инь-Ян, прилагали все старания, все искусство. Священники провозглашали все молитвы, общеизвестные и самые сокровенные. Вскоре, однако, разнеслась весть, что болезнь сия необычна – государыня ждет ребенка. Государю исполнилось восемнадцать лет, государыне – двадцать два, но до сих пор не было у них ни сына, ни дочери. "Если родится наследник-мальчик, вот будет счастье!" – заранее ликовали все отпрыски дома Тайра, словно этот мальчик уже родился; прочие же шептались: "Тайра процветают все больше. Счастье и на сей раз им не изменит, – несомненно, родится мальчик!"
Когда весть о беременности государыни подтвердилась, немедленно приказали священнослужителям самых высоких рангов служить молебны, молиться звездам, всем буддам и бодхисатвам о рождении наследника-принца. Во дворец прибыл настоятель храма Нинвадзи, принц крови, преподобный Сюкаку; он читал сутру Фазана, отводящую всякую беду и болезни. Прибыл также глава секты Тэндай, принц крови, преподобный Каккай, чтобы силою молитвы плод во чреве императрицы, если паче чаяния понесла она девочку, непременно превратился бы в младенца мужского пола.
Но по мере того как луна сменялась луною, здоровье государыни ухудшалось. Так страдала, наверное, на ложе болезни во дворце Чжао-Ян госпожа Ли из Ханьского царства, та, о которой сказано: "Кинет взгляд, улыбнется и сразу пленит обаянием родившихся чар... " Так грустила, верно, сама Ян Гуй-фэй из Тан-ского царства, – "груши свежая ветка в весеннем цвету", что поникла от капель дождя... Лотос, сломленный ветром, цветок оми-наэси, поникший от росы долу... Но государыня Кэнрэймонъин казалась еще печальнее и слабее. А в это время вокруг теснились чародеи и заклинатели, во весь голос читали заклятья, призывали божество Фудо-мёо, силою своих чар усмиряя злых духов, и те, повинуясь молитвам, вещали устами отрока-ясновидца, называя свои имена и звания.
То были духи живых и мертвых – дух покойного государя Са-нуки, сосланного в смутные годы Хэйдзи в землю Сануки и похороненного у кручи Сираминэ; скорбный дух князя Фудзивара Ёри-нага, погибшего в ту же смуту; дух убитого дайнагона Наритика; злобный дух монаха Сайко; живые духи изгнанников, томившихся на острове Демонов...
Тогда повелел Правитель-Инок успокоить духов, живых и мертвых; и тотчас же покойному государю Сануки посмертно присвоили высокий титул императора Сютоку. Покойного князя Фудзивара Ёринага повысили в звании, посмертно пожаловав ранг Главного министра. Посланником, везущим эти указы, назначили младшего придворного летописца Корэмото. Могила князя Ёринага находилась в краю Ямато, в уезде Соноками, на кладбище, неподалеку от селения Каваками. Осенью в один из годов смуты Хогэн могилу раскопали и выбросили останки. С тех пор непогребенные кости так и валялись на дороге. "Годы шли, и лишь густые травы весною шумели над разрытой могилой... " Как же обрадовался, должно быть, дух усопшего князя, когда прибыл императорский посланец и прочитал указ, дарующий ему новое звание!
Да, недаром страшатся люди гнева усопших! Оттого-то и про-возгласили посмертно императором ссыльного наследника-принца Савара, а принцессу Игами, умершую в заточении, посмертно вновь провозгласили императрицей. Некогда государь Рэйдзэн помешался в рассудке, а государь Кадзан сам отрекся от трона, и все это натворил мстительный дух князя Мотоката! А дух покойного Кандзан, священника, служившего при дворе, отнял зрение у государя Сандзё.
Услышав об умиротворении покойных, тесть Нарицунэ, младший брат Правителя-Инока, сказал князю Сигэмори, своему племяннику:
– Каких только молитв не возносят, чтобы государыня выздоровела и благополучно разрешилась от бремени... А только сдается мне, нет лучшего средства снискать благословение богов, чем объявить внеочередное помилование всем осужденным. И, что ни говори, ничто не будет так угодно богам, чем возвращение в столицу ссыльных с острова Демонов!
Представ пред отцом своим, Правителем-Иноком, князь Сигэмори сказал:
– Князь Норимори молит о зяте своем Нарицунэ – больно глядеть, как он горюет! Слышал я, – и молва толкует о том же, – что порчу на государыню наслал скорбный дух покойного дайнагона Наритика. Если вы решили утешить и успокоить дух покойного дайнагона, верните же в столицу его старшего сына, еще живого! Утолите чужие печали – сбудутся ваши собственные стремления, прислушайтесь к чужим мольбам – и ваши собственные молитвы обретут силу: государыня родит сына, и род наш будет процветать, как никогда!
И откликнулся Правитель-Инок необычно мягко и тихо:
– А как же тогда Сюнкан и Ясуёри?..
– Их тоже верните обратно! Великий грех оставить на острове хотя бы одного человека! – сказал князь Сигэмори, но Правитель-Инок не согласился:
– Ясуёри можно простить, а Сюнкана я сам некогда вывел в люди, столько для него сделал! И вот благодарность – устроил у себя, в Оленьей долине, настоящую крепость, во всем показал себя дерзким ослушником! Нет, о Сюнкане и слышать не желаю!
Возвратившись в свою усадьбу, князь Сигэмори сказал дяде:
– Успокойтесь, считайте, что Нарицунэ уже прощен!
Норимори так обрадовался, что, сложив руки, готов был чуть ли не молиться на Сигэмори.
– Когда Нарицунэ уезжал в дальнюю ссылку, – сказал он, – мне все казалось, в душе он меня упрекает – отчего я не добился, чтобы его оставили у меня, не вымолил для него прощение.
Несчастный! Бывало, как посмотрит на меня, так на глазах слезы... Как вспомню, сердце замирает от жалости!
И ответил ему князь Сигэмори:
– Да, поистине, вы правы – дети дороже всего на свете! Не тревожьтесь, я еще и еще раз напомню отцу о Нарицунэ! – И, сказав это, он удалился во внутренние покои.
Итак, решено было возвратить двух ссыльных с острова Демонов. Правитель-Инок велел снарядить посольство и выдал грамоту о помиловании. Посланец уже готов был отправиться в дальний путь. Князь Норимори на радостях отправил вместе с ним и своего человека. "Не медлить, торопиться и днем и ночью!" – гласил приказ. Но морские пути не подвластны человеческой воле; прошло немалое время в борьбе с волнами и ветром. В конце седьмой луны покинул столицу посланец, но лишь на двадцатый день девятой луны добрался он наконец до острова Демонов.
Посланцем назначили Мотоясу Тандзаэмона. Сойдя с корабля на сушу, он провозгласил: «Где тут ссыльные из столицы – вельможа Фудзивара Нарицунэ и монах Сёсё?» Так громко возглашал он несколько раз. Но Ясуёри и Нарицунэ, как обычно, отправились молиться в свой «храм Кумано», и не было их на месте. Оставался один лишь Сюнкан. Услышав голос посланца, пришел он в смятение. "Я неотступно думаю о столице, и потому, наверное, мне просто чудится чей-то голос... Уж не демон ли Хадзюн смущает мне душу? Нет, не может быть, чтобы то была правда!.. " Так безотчетно твердил он, а сам тем временем в великом смятении, падая, спотыкаясь, бегом подбежал к посланцу и назвал свое имя: «Я и есть тот самый сосланный из столицы Сюнкан!» Тогда посланец достал из сумки, висевшей у пажа на шее, грамоту Правителя-Инока и подал Сюнкану. Тот развернул, взглянул там стояло:
"Тяжкую вину, за которую вы были сосланы, настоящим объявляем прощенной. По случаю молебствий во здравие императрицы и дабы благополучно разрешилась она от бремени, объявляем внеочередное помилование. А посему сосланных на остров Демонов Нарицунэ и Ясуёри прощаем". Вот и все, что написано было в грамоте, имени же Сюнкана упомянуто не было. "Может быть, на обертке?.. " – со всех сторон осмотрел он бумагу, но своего имени не нашел. Снова и снова читал он грамоту с первых строк до последних, потом еще раз с конца к началу, но все напрасно: упомянуты были двое, о третьем же не говорилось ни слова.
Тем временем вернулись Нарицунэ и Ясуёри. Взял грамоту Нарицунэ, прочитал, за ним прочел Ясуёри, но все напрасно – упомянуты были двое, о третьем не говорилось ни слова. В страшных снах такое бывает... И Сюнкан невольно думал: "Может быть, мне это снится?.. " Увы, то была явь, а не сон. Но слишком невероятной казалась такая явь, и снова думалось: "Нет, это сон!.. " Мало того, обоим его товарищам привезли из столицы много писем, Сюнкану же не было ни единой весточки, никто не справлялся, как он и что с ним... "Выходит, никого из моих родных и близких уже не осталось в столице!" – думал он, и эта мысль нестерпимой болью давила сердце.
"Но ведь мы, все трое, наказаны за одну и ту же провинность, все трое сосланы одновременно и в одно место. Отчего же двоих прощают, а третьего нет? Может быть, Тайра просто забыли обо мне, а может быть, писец ошибся при переписке? Как же так?" Так горевал он и плакал, припадая к земле, взывая к небу, но, увы, все напрасно...
– Эта горькая участь постигла меня по вине вашего отца, покойного дайнагона Наритика, – говорил Сюнкан, то хватаясь за рукав Нарицунэ, то ломая в отчаянии руки. – А значит, вы не можете остаться безразличны ко мне, как к постороннему. Если уж нет мне прощения и нельзя вам взять меня с собою, то позвольте хотя бы сесть в эту лодку, доставьте меня хотя бы до Кюсю. Пока вы оба жили здесь, само собой получалось, что и до меня долетали какие-то вести из родимого края, словно ласточки по весне, словно дикие гуси осенней порой... А теперь как же я их услышу?
– Поистине, мне понятно, что у вас на душе, – отвечал Нарицунэ, – вся радость возвращения отравлена вашим горем. Будь моя воля, я взял бы вас в лодку, но посланец ни за что не даст своего позволения. Вдобавок, если пройдет слух, что мы покинули остров втроем, это может, напротив, повредить вам в дальнейшем. Лучше сначала я возвращусь в столицу, посоветуюсь там с нужными людьми, разузнаю, в каком настроении Правитель-Инок, и пришлю за вами. А до тех пор крепитесь, ожидайте и живите, как прежде! Что ни говорите, жизнь – вот что дороже всего на свете! Пусть на сей раз помилование вас не коснулось, но в конце концов вы обязательно дождетесь прощения, не сомневайтесь! – Так утешал он Сюнкана, но тот в отчаянии ломал руки и, не стыдясь людей, плакал.
"Готовьте судно!" – раздался приказ, и началась предотъездная суматоха. Сюнкан то входил в лодку, то снова выходил из нее на берег. Он так жаждал уехать со всеми! Но что было делать?
Нарицунэ подарил ему на память свое покрывало, Ясуёри оставил несколько свитков священной сутры.
Вот наконец подняли парус, столкнули лодку в воду, но Сюнкан все не отпускал канат, вцепившись в него руками. Уже вода доходила ему до пояса, а потом и до шеи, а он все тащился за лодкой. Когда же глубина стала больше роста и ноги уже не касались дна, он обеими руками уцепился за борт.
– Так вот как поступаете со мною вы оба! Значит, все-таки бросаете меня здесь! Не думал я, что и тот и другой, вы окажетесь столь вероломны! Значит, долгая дружба ваша на поверку – всего лишь личина, притворство! Возьмите же и меня, пусть нельзя, а возьмите, молю вас! Отвезите хотя бы до Цукуси! – Так просил он, не умолкая, но посланник сказал: "Никак невозможно!" – оторвал его руки, цеплявшиеся за борт лодки, и гребцы налегли на весла.
Сюнкан вышел на сушу, ибо ничего другого ему больше не оставалось, упал на землю у самой кромки воды, там, где волны разбивались о берег, и в отчаянии стал колотить оземь ногами, как малый ребенок, в исступлении зовущий мать или няньку. Он вопил, надрывая голос:
– Эй, возьмите же меня с собой, негодяи! Заберите и меня, говорю вам!
Но лодка уплывала все дальше, и за нею, как всегда, шумели лишь белопенные волны. Лодка была еще близко, но слезы застилали взор, мешая видеть. Сюнкан бегом взбежал на пригорок и оттуда махал руками, обратившись к открытому морю. Поистине, сама Саёхимэ, махавшая шелковым шарфом с берега Мацура вслед отплывавшей в Силлу ладье, горевала не больше, чем Сюнкан в эти мгновенья...
Вскоре лодка скрылась из виду, настали сумерки, а Сюнкан, не возвращаясь под жалкий кров свой, всю ночь пролежал неподвижно на морском побережье, не чувствуя даже, что волны лижут ему босые ноги и ночная роса насквозь пропитала одежду... И если в тот час он не бросился в море, не утопился, то лишь потому, что в душе все-таки уповал на доброту Нарицунэ и верил -а вдруг тот и в самом деле поможет ему вернуться, – напрасная, несбыточная надежда! Вот когда в полной мере познал он горе братьев Сори и Сокури, покинутых мачехой на скалистом морском берегу, в Индии, в древние времена!
И снова сменился год, наступил новый, третий год эры Дзисё. В конце первой луны Нарицунэ покинул Касэ, имение своего тестя в краю Хидзэн, торопясь поскорее прибыть в столицу. Но сильный холод еще держался, море было неспокойно; пробираясь вдоль побережья от бухты к бухте, от островка к островку, лишь к середине второй луны добрался он до острова Кодзима. Здесь отыскал Нарицунэ хижину, где жил ссыльный его отец, и увидел на бамбуковых столбах, на старых бумажных перегородках след кисти, оставленный дайнагоном.
– Вот лучшая память, которая остается по человеку! Если бы не эти письмена, как узнали бы мы обо всем, что здесь было?
Вдвоем с Ясуёри читали они надписи, сделанные дайнагоном, и плакали; плакали и снова читали...
"В двадцатый день седьмой луны третьего года эры Ангэн принял постриг".
"На двадцать шестой день той же луны прибыл Нобутоси..." – увидели они среди других такую надпись. Из нее узнали они, что Гэндзаэмон Нобутоси навестил дайнагона. Рядом на стенке виднелась другая надпись: "Три великих божества – Амида, Каннон, Сэйси – встретят истинно верующего на пороге райских чертогов! Верую без сомнений и с радостью ожидаю возрождения к новой жизни в Обители вечного блаженства!"
"Значит, несмотря на все муки, отец все-таки уповал на вечную жизнь в раю!" – подумал Нарицунэ, прочитав эту надпись, и эта мысль немного утешила его сердце.
Посетили они и 'могилу дайнагона, увидали посреди небольшой сосновой рощи не то чтобы настоящее надгробие, а просто небольшой холмик. Обратившись к нему и молитвенно сложив руки, Нарицунэ со слезами на глазах сказал так, словно говорил с живым человеком:
– Отец, смутные вести о вашей кончине дошли до меня еще в то время, когда я находился на острове, в ссылке. Но я не мог сразу же поспешить к вам, ибо был не волен в своих поступках. Конечно, я радуюсь тому, что, несмотря на два года ссылки, сохранил жизнь, непрочную, как росинка. Но что моя жизнь, если вас нет в живых?! Ныне я возвращаюсь в столицу, но что толку, если вас уже нет там? Только надежда на встречу с вами побуждала меня спешить в эти края; теперь же мне больше некуда торопиться! – Так горевал он и плакал.
Будь дайнагон жив, наверное, он сказал бы в ответ: "Здравствуй, сын! Ну, как ты, здоров?" Но безжалостна смерть, человек уходит туда, где нет ни света, ни мрака! Никто не отзовется из-под одетой мхами могилы, слышен лишь неумолчный шум сосен, шелестящих под порывами бури...
Эту ночь вдвоем с Ясуёри они провели возле могилы, ходили вокруг, читая молитвы, а когда рассвело, заново насыпали холм, окружили оградой, рядом соорудили хижину и в течение семи дней
и семи ночей молились и переписывали священную сутру. Когда же исполнился положенный срок молитвы, они выдолбили большую ступу и на ней написали: "Благородный дух почившего здесь да покинет сей мир, где жизнь неизбежно сменяется смертью! Да обретет он великое просветление!" Обозначив год, луну, день, они внизу поставили подпись: "Преданный сын Нарицунэ". При виде сего даже темные простолюдины, обитавшие в этом глухом горном селении, говорили: "Нет сокровища дороже родного сына!" И не было среди них ни одного человека, кто не прослезился бы в умилении.
Нет, никогда не угаснет память об отце-благодетеле, лелеявшем тебя с детства, сколько бы лун, сколько бы лет ни прошло! Давно миновали детские годы, словно сон, словно призрак... Но слезы по умершему отцу все льются и льются, и нет сил сдержать их! Будды и бодхисатвы всех трех миров с состраданием взирали на доброе сердце Нарицунэ, а уж как обрадовался, верно, дух его отца дайнагона!
– Хотел бы я остаться здесь и молиться, дабы мои молитвы обрели благую силу, но и там, в столице, тоже, наверное, ждут меня не дождутся! Сюда я еще приеду! – И, попрощавшись с отцом, Нарицунэ в слезах покинул могилу. А там, в глубине могилы, под покровом травы и листьев, дух умершего тоже, наверное, скорбел о разлуке с сыном.
Шел шестнадцатый день третьей луны, и солнце уже клонилось к закату, когда Нарицунэ прибыл в Тоба. Здесь, в Тоба, находилась усадьба Сухама, имение покойного дайнагона. Прошли годы с тех пор, как обитатели внезапно покинули усадьбу. Ограда еще держалась, но черепичные навесы упали; ворота еще стояли, но створки исчезли. Войдя во двор, увидали они, что давно уже не ступала тут нога человека, все вокруг заросло густыми мхами. Над Осенней горкой, устроенной посреди пруда, веял весенний ветерок, морща водную гладь, и тихо плавали взад-вперед бесприютные, никому не нужные более, яркие мандаринские утки и белые чайки. "Покойный отец так любил этот вид!" – подумал Нарицунэ, и из глаз его снова хлынули слезы. Дом еще не разрушился, но узорные решетки прогнили, ставни и раздвижные двери бесследно исчезли.
– Здесь он сидел, бывало...
– В эти двери, бывало, входил...
– Это дерево посадил своими руками...
Так говорил Нарицунэ, и в каждом слове звучала любовь и неутешная скорбь. Стояла середина третьей луны, еще благоухали цветы сакуры.
Кусты и деревья, персик и слива, словно встречая приход весны, обильно цвели цветами множества оттенков. Пусть прежнего хозяина давно нет на свете – забудут ли цветы о приходе весны!
"Персик и слива молчат
О том, сколько минуло весен.
Не скажет бесследная дымка
О том, кто здесь прежде жил".
"О, если бы цветы
Селения родного
Могли заговорить?!
Я расспросил бы их
Про давнее былое... " -
вспомнил Нарицунэ старинные китайские и японские стихи, и монах Ясуёри, тоже взволнованный до глубины души, невольно утер слезы. Они решили повременить с отъездом до вечера, но остались далеко за полночь, – так жаль было покидать это место. Чем глубже спускалась ночь, тем ярче озарял все кругом лунный свет, проникая сквозь щели обветшавшей кровли террасы, как бывает всегда в разрушенном, опустевшем жилище. И вот уже рассвет озарил «гору Цзилоушань», а им все еще не хотелось уходить... Но всему приходит конец: «Ведь нас ждут в столице, навстречу высланы кареты, заставлять их томиться ожиданием тоже жестоко!» – подумал Нарицунэ; и, с грустью покинув усадьбу Сухама, направились они в столицу.
Монаха Ясуёри тоже встречала карета, но он не сел в нее, а доехал в одной карете с Нарицунэ до Седьмой дороги; там их пути расходились, и долгим было прощание – так не хотелось им расставаться.
Разлука всегда печальна, кто бы ни расставался, – люди, всего полдня гулявшие вместе под цветущею сакурой, или друзья, вместе скоротавшие ночь, любуясь луною; или случайные спутники, вместе ожидавшие, пока прошумит легкий весенний дождик, на короткие мгновения укрывшись под сенью одного дерева. Что же говорить о Нарицунэ и Ясуёри! Они вместе страдали, влача тяжкую жизнь изгнанников, вместе изведали тяготы долгого, трудного плавания; один рок судил им обоим одинаковый приговор. Их связали прочные узы, уходящие в глубокое прошлое; нерасторжимую силу этих уз ощутили они теперь в полной мере!
Нарицунэ прибыл в усадьбу тестя, князя Норимори Тайра. Мать Нарицунэ жила в Васиноо, близ горы Хигасияма, но в ожидании сына еще накануне прибыла в усадьбу князя. Увидев входящего во двор Нарицунэ, она воскликнула только:
– Я дожила, слава богам! – и, закрыв лицо покрывалом, залилась слезами.
Служанка и самураи, все, кто был в усадьбе, окружили Нарицунэ, плача от радости. А уж радость госпожи его супруги и кормилицы Рокудзё тем более нетрудно себе представить! Волосы Рокудзё, некогда черные, от неизбывного горя совсем поседели, а супруга, некогда прекрасная, как цветок, за эти годы так похудела и осунулась, что почти невозможно было узнать в ней прежнюю женщину. Младенец, с которым Нарицунэ расстался, когда тому было три года, вырос и уже достиг возраста, когда волосы пора собирать в прическу. А рядом с ним стоял трехлетний мальчик. "Кто это?" – спросил Нарицунэ, и кормилица Рокудзё, вымолвив только: "Это... это... " – прижала рукав к лицу и залилась слезами.
– Уезжая в ссылку, я оставил жену едва живую... -произнес Нарицунэ. – Значит, все обошлось благополучно, мой ребенок вырос! – И печаль охватила его при воспоминании о той поре.
Нарицунэ стал по-прежнему служить во дворце государя и вскоре продвинулся в звании.
У Ясуёри близ горы Хигасияма было поместье Сориндзи; там он и поселился, и заветные свои думы прежде всего поверил песне:
"О, как замшела кровля
Здесь, в старом доме моем,
Высоко в горах!
А в изгнанье казалось мне: ярче
Льется в щели сиянье луны".
Здесь, в своей усадьбе, вел он уединенную жизнь, вспоминая горести прошлого; передают, что он написал сочинение под названьем «Изборник сокровища».