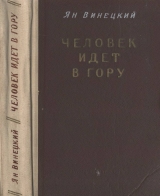
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
в руках.
– Алешка! – весело крикнул он.
Алешка на мгновение застыл, будто его пригвоздил к
земле этот неповторимо родной голос, потом бросил
корзину и удочки, перелетел через плетень с сумасшедшими
от радости глазами.
– Задавишь, ядреный пескарь, – ласково отбивался
Степан. – Чую: силы набрался.
– Мы с маманей... много о те'бе думок передумали, —
ломким голосом проговорил Алешка.
– Чего обо мне думать-то! Ты, Алексей, о себе мозгой
пораскинь. Время нынче строгое: не в ту сторону
шагнешь – увязнешь, ровно теленок в болоте.
– Я с тобой, тятя, – твердо сказал сын. —
Заплутаюсь я тут возле Старшипова-то. Возьми на посудину.
– Посудину!—обиженно передразнил Степан.—
Боевой корабль Волжской флотилии – вот это что, если
хочешь знать!
Но в глазах светлела улыбка: он был доволен
решением сына. Степан привлек к себе жену.
– Слышь, Стеша, правильный курс проложил
Алешка! Не перечишь?
Стеша не стерпела, припав к плечу мужа, громко
зарыдала.
– Ну, пошла бабья канитель! Мы, чай, ее на
японскую войну идем, а здесь, на Волге, рядышком.
– В горницу даже не зашел... будто немил тебе дом
родной, – давясь слезами, простонала Стеша.
– Так я на самую малость... повидаться только... —
смущенно оправдывался Степан. Он ласково гладил
волосы Стеши, утирал ладонью с ее лица слезы. Целовать
жену при сыне он стеснялся.
– На самую малость... – незлобиво укоряла
Стеша, – а Алешку отобрать успел.
– Кто же его отбирал? Он сам по доброй своей воле.
Так стояли они втроем, тесно прислонясь друг к другу,
пока снова не заревел гудок – требовательно и
нетерпеливо.
Стеша проводила мужа и сына до буксира. Потом
долго стояла на высоком берегу – задумчиво-печальная,
137
стройная, под молодой березой, прощально махавшей
тонкими ветвями...
Снова отбирала у нее Степана жестокая судьба. И
Алешка увязался с отцом...
Но на этот раз Степан уходил со спокойной и светлой
решимостью отстоять что-то такое, что больше и
значительнее самой его жизни...
Алексей воевал рядом с отцом. Их принимали за
братьев, так быстро ширился и крепчал в плечах сын, гго
росту уже догнав Степана.
В двадцатом году Степана тяжело ранило в грудь из
пулемета. Алексей привез отца в Рыбаково, а сам,
получив назначение на курсы красных командиров, уехал в
Москву. Так вместе с боями отгремела и его суровая
юность.
Мать писала вскоре, что отец умер через две недели
после отъезда Алексея. Его похоронили на берегу Волги
у молодой березки.
Алексей приезжал к матери часто, едв-а ли не каждое
лето. Он любил родные места, и особенно Волгу, любил
слушать рассказы матери о переменах на селе и сам с
восхищением смотрел на все новое, что беспрестанно
нарождалось в Рыбакове.
Но за год до финской войны его наезды к матери
прекратились: работы было так много, что командование
отпуск Чардынцева перенесло на следующее лето. Затем
начались боевые действия по защите Ленинграда от
белофиннов.
С тех пор военная служба водила его по фронтовым
дорогам, и к матери он смог приехать только после
окончания Отечественной войны.
Выйдя в отставку, Алексей поначалу растерялся. Все
его молодые годы прошли в армии и теперь предстояло
овладевать «новым участком» жизни.
Он решил поехать к матери, отдохнуть,
поразмыслить – куда себя теперь определить, но уже
вознамерившись купить билет на пароход, передумал и пошел в
областной комитет партии.
Секретарь обкома Булатов принял его поздно вечером.
Невысокий, очень широкий в плечах мужчина, с густой
шевелюрой седых волос и прямодушным выражением
лица, протянул Алексею руку.
138
– Здравствуйте, товарищ Чардынцев.
Алексея смутило, что его назвали по фамилии, будто
уже известного здесь человека. Он собирался сделать
длинное вступление о причинах, побудивших его прийти
на прием к секретарю обкома, но почему-то просто
сказал:
– Я из здешних мест. Рыбаковский.
– Знаю, – кивнул Булатов. – Отец ваш здесь
прославился в гражданскую войну.
– Хотел бы посоветоваться насчет работы, —
продолжал Алексей.– Из армии я ушел по состоянию здоровья.
– Работу мы вам найдем, а вот со здоровьем дело
сложнее. Чем болеете?
–• Пуля в легких. Но она мне нисколько не мешает.
– Нисколько? – переспросил Булатов и почему-то
повеселел: —Вы, кажется, из той породы людей, для
которых труд – самое верное лекарство! Ну, что ж,
подумаем... Вы не хотите ли на партийную работу?
Алексей помолчал, потом улыбнулся:
– Для меня, товарищ Булатов, любая работа —
партийная.
– Верно! Образователь «Семнадцатой республики»
должен быть хорошим организатором.
– Откуда вы знаете? – спросил Алексей.
– Вопрос праздный. Я думаю, что вам надо все-таки
отдохнуть. Наберитесь терпения. Потом мы дадим вам
работу.
И вот он снова в родном селе. Вон за оврагом Шай-
танка, где Чардынцев любил ловить с дружками раков.
В гущине орешника сверкнула лисица-огневка, и у
Алексея азартно перехватило дыхание. Мягкий ветер
доносил ароматы пчелиных сотов, пряного укропа... Тихо
шептались неугомонные сплетницы-осины, а вокруг них
толпились любопытные березы.
Чардынцев искал глазами могилу отца. Слева над
обрывом белела высокая береза. Он прошел к берегу.
Среди алых цветов мака темнела латунная пластинка
с вычеканенной надписью:
«Здесь покоится Чардынцев Степан – красный
командир и защитник справедливой жизни».
Алексей глянул вверх – вечным нескончаемым
фонтаном били в небо и сбегали вниз тонкие серебряные
струи ветвей...
139
Г л а в а вторая
Степанида была на крыльце, собираясь идти с
ведерком по воду, когда скрипнула калитка (этот с детства
знакомый и не изменившийся звук отозвался в сердце
Чардыицева острой и сладкой болью), и во двор вошел
плечистый военный.
Сквозь туман нежданных слез увидала она лучистую
Степанову улыбку на смуглом лице, услышала
срывающимся голосом произнесенное:
– Мама!.. Родная моя!..
Он целовал ее желтое морщинистое лицо, выцветшие
глаза, гладил редкие пряди седьих волос и с немой тоской
повторял про себя: «Что сделало с тобой время, мама!»
– Алешенька!.. Я уж не чаяла повидаться... – певуче
шецтала мать.
Алексей вошел в горницу. Из каждого угла глядело
на него бесконечно родное, овеянное романтикой
воспоминаний»..
Та же висячая лампа с жестяным кругом, та же
стародавняя лавка у стола и, кажется, те же тараканы, что
задумчиво шуршат в щелях стены.
–¦ Алешенька, ты бы с женой приехал, с
ребятишками... До каких годов' дожила, а внучонков на руках не
держала, – растроганно проговорила мать.
– Знаешь, мама, былину русскую, – усмехнулся
Алексей.– «Оберегал землю родную Илья Муромец, ни
дома себе не построил, ни семьи не завел».
– Господи!
И, заглядывая ему в глаза, робко спросила:
– Что ж ты так, Алешенька, а? Бобьмем-то... Аль
человека не нашел по душе?
– Не нашел, мама.
Мать завозилась с самоваром, беззвучно шевеля
губами...
Весть о приезде Чардынцева мигом облетела Рыбако-
во, и вечером изба бабки Степаниды уже была полна
народу.
Слушая рассказы Алексея Степановича о войне,
парни и девушки с уважением поглядывали на его золотые
погоны с тремя большими белыми звездами.
140
В разгаре беседы пришли три старика. По могучей
еще фигуре и какому-то орлиному выражению лица Чар-
дынцев узнал в одном из них некогда знаменитого
сплавщика Никифора.
– Ну, чистый Степан, срази меня гром! И статью, и
лицом, и удальством в глазах. С приездом, Лексей Степа-
ныч! – с густой певучей силой проговорил дед Никифор.—
До какой высоты хлопец дошел! А, кажись, давно ли у
меня яблоки из сада таскал. И, помню, как за уши тебя
дравши, я правое ухо твое маленько того... попортил...
Чардынцев тронул рукой правое ухо, и все разлившего
рассмеялись.
– Жизнь, она нынче шибко мельтешит. Ух, шибко! —
продолжал дед Никифор. – Мы, старые хрычи, будто в
заводи шевырялись, а молодежь, она на самой быстрине.
Вот по-гляди, Лексей Степаныч, давно ли на губах
мамкино молоко обсохло, – он показал на прислонившегося
к печке высокого кудрявого паренька со строгими
глазами,.—а головастый, что пророк Илья!
Лицо паренька залилось краской.
– Давеча он доклад делал в клубе... Поверишь,
Америку так на обе лопатки положил, что там, за окияном,
главным буржуям, верно, весь день икалось, срази меня
гром! И все растолкует – где какой народ живет, где
какой делец воду мутит... Сиди себе, ума набирайся,
добрый человек.– Дед хитровато потрогал свою дремучую
бороду и перевел взгляд на молоденькую девушку с
карими улыбающимися глазами. – Погляди на девку,
Лексей Степаныч. Ей бы только с парнями в переглядки
играть, а она – ни-ни... бригадир! Слово-то какое
начальственное, в старину, кажись, генералы так
прозывались.
– У вас, дед Никифор, у самого борода
генеральская! – бойко отпарировала девушка.
– Видал, как стрижет? Без огрехов! А в бригаде дело
повела все чисто по науке: тут фосфор, тут калий, тут
чорт те что!
– И с парнями так-таки и не переглядывается? —•
спросил Чардынцев-.
– Ни в какую! – засвидетельствовал дед.
– Будет вам, дедушка, смеяться-то!—обиженно
надула губы девушка. – Товарищу полковнику вовсе это
неинтересно.
141
– Нет, напротив, мне очень интересно познакомиться
с вашей жизнью, – заметил Чардынцев.
– Тогда приходите завтра на Шайтанку. Не забыли,
верно, ее? – глядя на него в упор своими озорными
глазами, еще громче сказала девушка.
– Не забыл. Приду, – ответил Чардынцев, и
светлая улыбка озарила его лицо.
Дед Никифор, видимо, кого-то поджидал: он то и дело
выглядывал в окно на потонувшую в сумерках улицу,
весело балагурил, потом, заметив чью-то приземистую
фигуру, громко сказал:
– Луна-то как вырядилась, – будто девка к венцу.
Но так как это замечание не возымело никакого
действия на молодежь, он с укором покачал головой:
– А все ж таки не выветрился еще из нас
несознательный элемент! Лексей Степаныч, поди, устал с
дороги-то...
Не успел Чардынцев возразить, как дед Никифор
выпроводил молодежь из избы.
– Это кто такая, солнечная больно? – спросил
Чардынцев, не переставая улыбаться милому облику девушки.
– Танюшка, Селиверстова вяучкг... Помнишь, был
такой бородач в Степановой артели?
В горницу вошел невысокий, смуглый мужчина лет
около пятидесяти.
– Наш председатель, Потап Митрич, – представил
словоохотливый дед Никифор. – Разговор у нас к тебе
сурьезный, Лексей Степаныч. Главный... как бы складней
сказать... интерес у нашего колхоза нынче —
электричество1. Хотим электрическую станцию завесть. Да вот
Митрич тебе толковей обскажет.
– Ты уже все рассказал, Никифор, – улыбнулся
председатель колхоза, потом улыбку сменила озабоченная
складка над переносьем. – И вправду, электричество
нынче в думках у старого и малого. Начали мы строить
гидростанцию. Проект составили. Заготовили лес, камень,
металл. Уже и турбину подвезли. Все как у людей! Да
потом областная контора Сельэлектро нас
нежданно-негаданно порадовала: «Генератора и моторов нынче не
дадим. Вы оказались вде плана». Статьи какие-то
сократили, бог их знает! Ну и вышибли нас из плана-то!
– Вне плана! – взъярился дед Никифор. —Долго ли
им, чугунным душам, нас сызнова в план втиснуть! – Он
142
взглянул на председателя, словно говоря: «Сухо, брат,
у тебя получается. Дай уж я скажу». Важно разгладив
бороду и пожевав губами, дед начал:
– Лексей Степаныч, пойми ты нашу думку-заботу. И
окот племенной имеем, и птицу, и рыбок таких развели,
что покойный батя твой – уж на что рыбак! – аи тот
ахнул бы, а все сидит заноза в душе: чем мы хуже
других—Верхне-Заслонских, к примеру? У них электричество
не только в избе, а и на токах, и на фермах...
Чардынцев радовался их новой светлой заботе, но он
не мог взять в толк, чего они от него хотят.
А дед продолжал ласково журчащим говорком:
– Митрич завтресь едет в город. Поскольку ты,
Лексей Степаныч, высокого звания человек, хотим мы
попросить тебя вместе с Митричем... там-сям походить... для
солидности и большего уважения....
– Вряд ли буду чем полезен, – ответил Чардынцев
помрачнев.. – В отставке я...
– Хе-хе... Лексей Степаныч... шутки шутишь,—
грозя пальцем и лукаво прищурив глаза, сказал дед Ни-
кифор.
Остальные старики тоже весело осклабились.
– Серьезно. В отставке я, – повтори^ Чардынцев,
мрачнея еще более.
– Это почему так? По какому праву и случаю? —
обиженно зачастил дед Никифор, широко раскрыв глаза
и зорко приглядываясь к Чардынцеву. – Дедушка Фрол...
восемьдесят шесть годов ему намедни минуло... Он в
правлении в сторожах состоит. Когда ему комсомол наш
Васятка Черняй про отставку намекнул, в такое волнение
вошел, что весь день шумел, ровно Волга в непогоду.
«Ты меня, – грит, – сопливый апостол, ставил, чтоб
отставлять? Мне народ доверие оказал. Я, – грит,—при
деле стою. А нонче человек без дела, что спичка без
головки. Ты меня,– грит,– не трожь, а не то я те так
отставлю, что с тебя пух-перо полетит!» Вишь ты, какой
бодрости старик! А ты чего?
– Пулеметом меня прострочило. Под Берлином. В
легких еще и сейчас пуля сидит.
– Батюшки, и Степана так же вот... в легкие... —
сказал кто-то сочувственно.
– Да, ранение отцовское,– невесело подтвердил
Нардынцев. – Врачи велят лечиться и отдыхать, отды-
143
хать... – Он слабо, словно бы виновато улыбнулся: – Вот
в отставку и вывели...
Дед Никифор смущенно заморгал глазами:
– Извиняюсь за недопонимание, Лексей Степаныч.
Дело сурьезное...
– А все же я постараюсь вам помочь, – оживился
Чардынцев.– Кстати, мне тоже надо в город заехать.
Есть там у меня фронтовой товарищ, врач.
–• Вот, ладное дело! —обрадовался дед Никифор. От
удовольствия он даже прижмурился и пошел сладко
журчать: – Приходит в Сельэлектро наш Митрич, а
рядышком – полковник, да вся грудь в орденах, ровно небо в
звездах.
«Здравствуйте, дескать, люди-человеки, глядите,
какие орлы-соколы из нашего колхоза вышли. Неужто
совесть ваша дозволит отказать в какой-то там малости —
генераторе да двух моторах, а?»
– Ох и хитрющий же ты мужичина, дед Никифор!—
тихо рассмеялся Чардынцев.
– Ну-к, ясно-понятно: рыбаковский. У нас отродясь
дураков не водилось, – внимательно-ласково щурясь на
Чардынцева, сказал дед Никифор и вдруг хлопнул себя
руками по коленкам: – Лексей Степаныч, дорогой, не
откажи в любезной милости... Старуха наказывала, а я
забыл, память дырявая! Пироги, рыбка, медовуха у меня,
брат, такая, что разом твою хворь, ровно занозу из
пальца, выдернет!..
Ведя Чардынцева в свою избу, дед Никифор
топотком советовал:
– Есть у Митричя в городе большой человек. В
случае неудачи, – к нему подайтесь. Ты порасспроси у Мит-
рича про него. Расскажи, дескать, про бурю на Енисее.
Он тут тебе все выложит...
С рассветом Чардынцев пошел, как обещал, на Шай-
танку. У перелеска молочной рекою стелился туман, и
казалось, что березки, войдя по" колена в воду,
остановились в нерешительности.
Месяц, бледнея, ронял серебро и, плавясь, оно
тяжелыми, сверкающими каплями пригибало траву к земле.
Поеживаясь от холодка, Чардынцев взглянул на свои
сапоги – их густо отлакировала роса.
За холмом у реки приглушенно токовал трелевочный
трактор. Воздух был напоен душистым настоем трав и
144
цветов. Легка дышалось. Сердце ласкала теплая волна
воспоминаний.
Каждая былинка была ему здесь знакомой, каждый
куст – свояком.
Быстро светлело. Березки перешли вброд молочную
реку тумана. Из-за перелеска алыми петухами взмыли в-
небо первые облака.
Чардынцев вышел на гребень холма и остановился а
изумлении.
У Шайтанки десяток парней и девушек копали
котлован. Немного поодаль плотники топорами обтесывали
длинные бревна.
«Не спит комсомолия!» – обрадовался он и сбежал
вниз.
– Алексей Степаныч!—окликнул его звонкий
девичий голос. У трактора – свежая, розовая, будто щедро
облитая солнцем – стояла Танюшка. Серый комбинезон
туго облегал ее стройную фигуру.
– Вот, – показала она на плотников, – готовим свая
для плотины.
– А кто руководит у вас строительством
гидростанции? – спросил Чардынцев..
– Саня и я, – ответила Танюшка. Она сказала это
так, будто руководство ее и Сани было делом само собой
разумеющимся.
– Я имею в виду техническое руководство, —
улыбнулся Чардынцев.
– Всякое! – проговорила Танюшка, удивляясь
непонятливости Чардынцева.– Саня в минувшем году окончил
электротехникум. Нам в Сельэлектро прораба давали —
отказались. Вон он, прораб наш. Саня!—крикнула она
вдруг. – Поди сюда!
Чардынцев увидел того самого кудрявого парня с
застенчивыми и вместе строгими глазами, у которого
«набираются ума» старики.
– Здравствуйте, товарищ полковник, – сказал Саня,
подходя к Чардынцеву.
– Здравствуйте... товарищ прораб. Как идег
стройка?
– Плохо. Потап Дмитриевич забрал людей на
прополку. Причина уважительная, конечно. А нам котлован рыть
надо, плотину ставить. Шайтанку в этом месте на три
метра поднимем.
«Ь.444 – 10 145
Он поднял по-военному висевшую на бедре планшетку
я, развернув ее, показал проект.
Шайтанка, перехваченная посередине плотиной,
катила крутые волны. На левом берегу на сваях стояло
аккуратное здание гидростанции, вплотную примыкавшее к
большой электрифицированной мельнице.
Вдали, сливаясь с горизонтом, уходили в поля столбы
высоковольтной электролинии.
А по обоим берегам Шайтанки зеленели леса и
дубравы, на покрытом сочной травой лугу паслось стадо
коров. В левом углу, у выезда из деревни, высилось
розовое здание дома культуры.
– Красиво! – похвалил Чардынцев.
– На бумаге! – негодуя, проговорила Танюшка. —
Генератора нет? Нет! Людей Потап Дмитриевич забрал?
Забрал! —она обиженно собрала губы. – У нашего
председателя вместо сердца —деревянная трещотка!
– Зря председателя ругаете,– сказал Чардынцев.—
Он завтра едет за генератором.
– И вы с ним? – спросили Саня и Танюшка в один
голос.
– И я.
–• Так вы уж, Алексей Степанович, от имени всех
комсомольцев просим, помогите нашему председателю, —
попросила Танюшка,, блестя горячими глазами.
– И главное, товарищ полковник, генератор достаньте
на шестьдесят киловатт. 19-киловаттный у нас есть, да в
нем толку немного, – солидно и наставительно, • как
подобает его должности, сказал Саня.
Чардынцев слушал их и тихо, с затаенной гордостью
улыбался...
И снова безмолвно, одними лишь красками бушевала
заря. По реке плыли золотые отблески заката. Далекие
синие перелески затягивало паутиной тумана.
Почернелый от времени буксир, шумно пыхтя и
выбрасывая из трубы невероятную массу дыма, тащил длинную
вереницу плотов. Хлопотливая посудина, казалось,
выбиваясь из последних сил, боролась с могучим течением.
На последнем плоту, по-татарски поджав под себя
йоги, сидел Потап Дмитриевич, а Чардынцев, обнаженный
146
по пояс, подкладывал щепу под котелок, подвешенный
на трех березовых палках. Когда Чардынцев нагибался,
под лопатками катались бугрышки мускулов. На груди и
спине синели большие рубцы от ран.
– Я гляжу, полковник, ты на плотах, как на
полатях,– добродушно усмехнулся в бороду председатель
колхоза.
– Так я ж на плоту родился, – весело отозвался
Чардынцев.
Острый запах ухи щекотал ноздри. За плотом, дрожа
крыльями, неотступно летела чайка.
– А что, Старшинов нигде не объявлялся? – спросил
вдруг Чардынцев. У него внезапно возникло желание
взглянуть в бесцветные глаза этого старого паука.
– Как в воду канул. При самарском белом
правительстве был он каким-то уполномоченным. А потом сгинул.
Может, пристрелили, а может, где-нибудь втихомолку
коптит небо, леший его знает!
– Может быть,– коротко вздохнул Чардынцев.– По-
тап Дмитриевич, я беседовал с комсомольцами,
обижаются они на тебя.
– Это все Танюшка. Неугомона бесова! – с сердцем
сказал председатель колхоза.– Сперва опытный участок
дай ей под помидоры. В книжке где-то про новый сорт
вычитала. Ну, выделил. А нынче вот какой ультиматум
выдвинула: «Покупай, дядя Потап, духовой оркестр».
«Дядя Потап обойдется и так! – отвечаю. – Этак вы все
трудодни в духовую трубу выпустите. Перед
колхозниками мне ответ держать, а не вам». Так поверишь ли,
столько шуму подняла – деваться некуда! «В корне отста-
'лое понятие у вас, дядя Потап! Колхозники желают на
трудодень получать не только продукты и деньги, а и му-
вььку. Праздники справлять, на свадьбах играть^
передовиков привечать, опять же, для молодежи – танцы...» и
пошла, и пошла! «А ежели,– говорит,– вы, по
черствости души, против, так мы сами перед общим собранием
колхоза вопрос поставим!» Слыхал? «По черствости
души». Ну, что ты будешь делать!
Сдерживая улыбку, Чардынцев проговорил:
– Неудобно, если комсомольцы через голову
председателя к собранию обратятся.
– Сам знаю, что неловко, да боюсь,– засмеют,—
неуверенно ответил Потап Дмитриевич, – скажут, нет,
чтобы еще автомашину прикупить, либо скота
породистого, так и ты, старый дурень, за комсомолом плясать
вприсядку. w
– Уверен, что собрание тебя поддержит, – сказал
Чардынцев. – Душа советского человека теперь музыки
требует. Подумай, Потап Дмитриевич, какую лютую беду
народ выдержал, свободу, счастье свое отстоял.
Чардынцев закашлял – часто и глухо. В легких
нещадно колола пуля.
Потап Дмитриевич заметил, как покрылся испариной
высокий лоб Чардынцева, и разом побелело лицо.
– Пожалуй, и верно. Придется на правлении
обмозговать... – сказал он тихо и смущенно умолк.
– Потап Дмитриевич, ты, говорят, бывал на
Енисее? – В глазах Чардынцева проплыли лукавые огоньки:
он вспомнил совет деда Никифора.
– Бывал на Енисее, бывал, и горькой ухи там немало
похлебал, – живо отозвался Потап Дмитриевич и с
видимым удовольствием разгладил усы. – Ежели не лень,
полковник, послушай...
– Давай, давай! Пока рассказываешь, глядишь, и уха
сварится.
t– Было это годов тридцать назад, – начал Потзп
Дмитриевич. – Загнало нас с отцом лихо на край земли,
к самому Турухану. Места там бедные: трава – ягель, да
камни-валуны. Пустошь. Безлюдье. В Турухане, тебе
известно, ссылка была.
Отец мой, бывало, говорит ссыльным:
– И мы с Потапом ссыльные. Потому как у нас тоже
борьба. Да только свой царь у нас, позлее вашего, не
гляди, что имя у него бабье – нужда.
Смеялись ссыльные.
– Твой царь родня нашему!
Раз на вечерней зорьке ловили мы рыбу в глухой
заводи Енисея. Хлопот было невпроворот: за бреднем следи
да на берег поглядывай – известное дело —самовольный
лов!
Пуще всех пристава Кибирова мы боялись. Лютый он
был, ведьмин сын! Увидит, ногами топает, орет:
– Кто дозволил здесь промышлять? Вид на
жительство предъявить!
– Наш вид далеко лежит, – отсель не видать, —
отвечал отец. А потом, оробев от смелости своей, виновато
148
частил: – Ваше благородие, зверь, – и тот жить здесь не
хочет. А мы по своей воле.
– То-то и оно, что по своей воле. А имеешь ты право,
собачий лоб, волю-то свою иметь?!
Весь улов до последней плотички забирал, окаянный!
Ну, ловим, стало быть. Сперва-наперво рыба шла
складно. Да на беду Енисей осерчал – потемнел, запенился,
шибкая волна пошла. Чуем, полегчал наш бредень.
– Сызнова порвала! – догадался отец.
Вытащили на берег, – верно, ушла рыба. Бредень-то
у нас был ветхий, чиненный вдоль и поперек.
Бранится старик, грозит кулаками неведомо кому, да
что толку-то! Помню, так озлился я на нашу проклятущую
жизнь, что попадись в ту пору на глаза сам пристав Ки-
биров – не уйти бы от греха!
И тут увидали мы, что к нам шел человек. Был он
невысок и широк в плечах. В синей русской рубахе и
темных брюках, заправленных в козловые сапоги. Молодой.
Боялись мы в ту пору человека, ох, как боялись!
А он подошел, снял картуз, и светлые кудри
рассыпались на лбу. Сам будто веселый, а глаза сторожкие,
опасливые.
– Добрый вечер! Бог помощь!
– Добро пожаловать, господин, – отозвался отец. Я
молчал. – А доброго-то мало, господин. Вишь, Енисей
разыгрался! Вся рыба со страху на дно ушла.
– Какая рыба... Иной рыбине в такую бурю —
праздник!
Насторожился я. Куда, думаю, клонит? Гляжу, и
старик мой глаза прищурил, рукой бороду стал пощипывать.
– Мудрено говоришь, господин.
Человек помолчал, потом оказал тихо:
– Ссыльный я.
– Это и так видать. Ну, и чего тебя носит, мил-чело-
век, в такую непогодь!
Язык у старика был острый, глаз и того острей, – не
гляди, что-дед – и любил он человека пощупать,
поворочать его во все стороны, да поглядеть, из какого
материалу он сделан.
Ссыльный сызнова зорко глянул нам в глаза, будто
примеряясь, можно ли нам доверить, и быстро спросил:
– На ту сторону... перевезете?
– Бежать? – догадался отец. – Эка чего надумал!
Сидел бы на печи, мил-человек, да ждал, покуда срок
выйдет.
– Долго ждать! – усмехнулся ссыльный.
– Запалить бы костер, – поежился отец, не отвечая
на вопрос ссыльного, – да боязно: стражники в незваные
гости придут.
– Давайте погреемся дымком, – оказал ссыльный, —
знаете, присловье есть солдатское: солдаты шилом
бреются, солдаты дымом греются.– Он вынул кисет, дал нам
по щепотке табаку, потом долго и терпеливо высекал
трутнем огонь.
Старик потянул и давай кашлять, даже слезу
вышибло. Ссыльный засмеялся и поглядел на меня:
– Больные этим табаком хворь выгоняют, злые —
злость.
– Думаешь, я от этого добрей стану? —ответил я. —
Накорми, тогда, может, и душа помягчеет.
– Может, он сам с голодухи прибаутки, ровно
семечки, грызет, – сказал отец и позвал ссыльного в шалаш.
Я поглядел на Енисей. Тяжелые, темные волны
подымались на реке. На гребнях кипела пена.
– Ты какой грех на душу принял? Чать, убил
кого?– спросил отец, запалив коптилку.
– Политический я, – ответил ссыльный.
– А-а... За власть, мил-человек, боролся?
– За народ. Чтоб лучше жилось людям. Таким,
как вы.
Отец от смеха закашлялся.
– Ты хочешь перевернуть леща на другой бок: чтоб
царь, к примеру, ловил рыбу, а мы с Потапом ели?
– К примеру, – усмехнулся ссыльный. – А бреде-
шок-то у вас дрянной. Чинить надо.
– Чинить! – злобно откликнулся я, будто меня кто за
сердце ущипнул, – веревку свить из него да повеситься!
Злой я был, беда! На людей, на весь белый свет.
Нужда на плечи давила.
– Чем труднее человеку, тем выше он голову держать
должен, – сказал ссыльный, не сводя с меня глаз, – не
давай горбу расти!
– И-и, мил-человек, горб-то у него давно вырос, да
поистерся весь! – горько хмыкнул отец.
Ссыльный глядел на меня и говорил:
– Злость б тебе настоялась, как хмель в вине. Да
U0
только темная она, слепая. В пятнадцатом году царские
палачи товарища моего во дворе тюрьмы повесили. Я
видал его перед казнью. Сколько в нем охоты жить было!
А ведь прошлый путь его был, небось, потяжелее твоего.
– Прошлый путь и баран знает, – вмешался отец, —
где наследил, там и дорога. А ты покажь, мил-человек,
куда идти?
Ссыльный прищурился:
– Сказывай, как прежде шел, тогда видно станет,,
какой путь впереди осилишь. Может ты... вслед за
бараном двигался.
– Изволь, – довольно поморщился отец. – И насчет
барана ты меня того, крепко ущучил! Ну, слушай.
На Волге рыбачили мы. Да еще на Каме-реке. А там
нашего брата, ровно костей в щучьем хвосту. Трепала нас
нужда, мыкала, будто лодку рыбацкую в штормовую
погоду. Вот и пошли мы счастья искать.
А куда идти? Туда, где людей поменьше. Человека,
известно, пуще волка бояться надо. На север и подались.
Шли, шли, а счастья – и следа не видать. Горя да
беды, что в поле лебеды, а счастья – у кого ни пытали,—
никто не слыхал. Гнали мимо нас этапом каторжных.
Гремят колодками да цепями, молчат. Либо песни поютг
долгие, невеселые, ровно та дорога, какою их гонят.
Иной колодник спросит:
– А вы куда?
– Счастья искать, – отвечаем.
– Так это не в ту сторону, – говорят и смеются. —
Вот, счастья искамши, мы до самого Турухана и дошли.
– А ведь правду колодники говорили,– вздохнул
ссыльный, – не в ту сторону.
– Врали они! Хошь в какую сторону иди, не лайдешь
его, счастья-то.
– Есть счастье! – твердо сказал ссыльный. – Только
его не искать надо, – счастье никто не обронит, – а
добывать. Там на Волге и добывать его. Нужно много в
жизни руды переворошить, чтоб добыть один золотник
счастья. Так-то! – Он помолчал, потом тихо добавил: – А
людей бояться не надо.
– Поди, Потапка, сыми переметы. Порвет, —
беспокойно промолвил отец.
Енисей расходился не на шутку. Волны бешено
кидались друг на дружку. Вода будто кипела кругом.
151
Когда я воротился, ссыльный вышел из шалаша. Глаза
его блестели. Отец глядел на меня строго и жалостливо.
– Перевезешь его на тот берег.
– Ты в своем уме ли, батя? Погляди, что на Енисее!
– Вижу. А перевезти надо. Нельзя ему здесь, на
задворье.
– Пущай Енисей угомонится.
– Нельзя. Поймают его. Надо нынче же, покуда
стражники в избах хоронятся.
– Не повезу я! Енисей больно расходился, зашибет!
– Эх, Потапка! Крепкое у тебя тело, а сердце – что
у воробья, – донимал меня попреками старик. – Перевез
бы я его сам, да руки мои не сладят с рекой.
– Много их, ссыльных-то! За каждого с Енисеем
драться.
– Ты погляди на нею, – будто в ем самом Енисей
кипит. Потапка, слышь, Потапка! – кричал старик, и
ветер закидывал его белую бороду на плечо. – Енисея
боишься, а он... за нас с тобой. Злосгь из тебя, видать,
мозг выпила, как землеройка из карпа! Слепой ты, Потап,
слепой!
Лодка кидалась, билась на волнах.
– Будь ты проклят, анафема! – дико закричал
старик и побежал к лодке.
Рванулся я, словно бы ветром меня толкнуло. Прыгнул
в лодку, весла в уключины вставил. Силы смолоду много
было. Это нынче я много перьев* порастерял, будто тетерев
при линьке.
Ссыльный сел в лодку.
– А там... на том берегу... не пропадешь ты один? —
громко спросил его отец. – Заплутаешься да в трясине
утопнешь.
– Там друзья.
– Ишь ты! Везде у тебя родня.
– В добром деле друзей много!
– Ты бы имячко на память оставил, – сказал вдруг
отец, вытирая глаза.
– Завтра узнаешь. Когда искать меня станут!
Ссыльный схватил его руку, крепко пожал.
– Спасибо, отец!
– Будь счастлив! С богом! – крикнул старик и,
перекрестившись, толкнул лодку...
И-эх, и швыряло нас, эх, и кидало в ревучей пучине!
152
Видал я бури на Волге, – свирепой она бывает,
матушка, – но Енисей, дьявол, злее!
Хот, кого я вез, зорко вглядывался в набегавшую
волну, крепко держал руль. Потом настудила темень.
«Далеко ли до берега? – думал я в страхе, – не
подвели бы руки... неметь начинают... мочи нет плыть
дальше...» Да, эту ночь я запомнил на всю жизнь!
Не знаю, сколько мы промаялись с неистовой рекой,
только когда выбросило нас на берег, мы разом выскочили
из лодки и, помню, подумалось мне тогда, что ничего нет
лучше на свете, как ходить по матушке-земле.
– Ка-ак он нас... Енисей-то, а! – сказал ссыльный,
задыхаясь, когда мы привязали лодку. И засмеялся —
неудержно, широко.—А все-таки мы сильнее! Умом да
сердцем силен человек.
Прозябли мы. Он покопался в карманах.
– Покурить бы... Эх... промокло все.
Енисей с тяжким шипом бил размашистыми, стылыми
волнами, – глухо стонал, ошалело кидался на берег,
лютуя на нашу удачу.
Ссыльный что-то оказал, да не расслышал я за воем
бури, потом крепко обнял меня за плечи.








