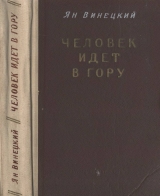
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Все неловко молчали. Директор завода, побагровев, порывисто шагнул к висевшей еа стене большой карте.
– Молчите? Тяжело, дескать, не вытянем? Смотрите!
Карта, как оспой, была испещрена булавочными проколами. Линия красных флажков остановилась у Новгорода и Калинина. Некоторые из них отодвинулись еще дальше назад, открывали путь к Москве. А внизу они уже переправились через Азовское море и встали у
Краснодара и Майкопа...
В кабинете директора стояла напряженная тишина.
Люди смотрели на исколотую, изорванную флажками карту, и им казалось, что она кровоточит. Родина кровоточила, глубоко в нее вонзились танковые кинжалы врага.
– Там легко?—спросил Мишин, и все увидели, как у него задрожали губы.
Г лава седьмая
Отбушевала зима. Дни стояли тихие, мягкие. В природе было безвластие: зима уже кончилась, а весна еще не пришла. Все здания, дороги и овражки потонули в безбрежной массе снега. В парках и садах недвижно стояли деревья в белых мохнатых шапках. Не слышно было птиц, еще не появились первые весенние разведчики – грачи
Николай выписался из госпиталя, получив отпуск на шесть месяцев. На вторые сутки он был уже в городе, куда эвакуировался завод. На улице его окликнули.
Николай увидел радостно-изумленное лицо Быстрова:
– Николай Петрович! Какими ветрами пригнало тебя сюда?
– Ветрами войны, – улыбнулся Николай, пожимая руку приятелю. Бьгстров оглядывал его помятую шинеленку, кожаньне, не по здешним морозам, ботинки.
– Из госпиталя? – догадался он вдруг.
Николай молча кивнул.
– Голубчик! Зайдем ко мне! У меня выходной сегодня. Куда ж ты разогнался, позволь спросить?
– Веди на завод, товарищ Быстров. Соскучился.
Хочу скорей увидеть, как он развернулся на новом месте. И сын там где-то мой, и старики.
– Дельно!—одобрительно крякнул Быстров.– Трамвай плохо ходит, пойдем пешком.
Они вышли на дамбу. Николай жадно слушал глуховатый голос Быстрова.
– Тяжело нам было, Николай, на ноги становиться!
Станки под дождем мокнут, людям притулиться негде, новые корпуса строить надо, самолеты фронту давать, только успевай поворачиваться! И что ж? Ничего, вытянули!
– А самолеты... даете уже? – спросил Николай.
– Вовсю! Семен Палыч, сам знаешь, мужик какой.
«Если к седьмому ноября, говорит, не дадим самолеты,– не рабочий мы класс Советского Союза!» – вот как круто завернул! Да, помнишь, мы с тобой санитарную кабину проталкивали? Где т,вои расчеты не помогали, там мое горло да кулаки дорогу прокладывали. А теперь кабина гремит на фронте, ого! Фамилия твоя знаменитость получила.
– А тебе откуда это известно? – недоверчиво спросил Николай.
– Военпреды рассказывали. Они по фронтам ездят. А недавно капитан один был; я сам слыхал, как он в заводоуправлении бранился: «Мне самолеты с кабинами Бакшанова нужны, а вы голые машины даете. Я из-за бакшановских кабин тысячу километров по железной дороге маялся. Командующий фронтом без них возвращаться не велел!»
– Так и сказал? – снова спросил Николай.
– Так и сказал. Да, забыл я: «Где, говорит, мне товарища Бакшанова увидеть? Мне от раненых ему руку пожать поручено».
Встреча с Быстровым с новой силой пробудила в Николае тоску по родному заводу, по его людям, по конструкторской работе.
У секретаря партийного комитета сидел Мишин.
Увидав Николая, он оборвал разговор и, нисколько не тая восторга, поднялся со стула.
– Из госпиталя,– объяснил Быстров. – Иду по улице, вижу, идет дяденька и головой с веток снег сшибает.
На Николая Петровича, думаю, смахивает: того тоже «дяденька – достань воробушка» звали. Пригляделся, мать честная, да ведь это он, Петрович, и есть! Обрадовался я, словно родню какую встретил!..
– Что ты все за него адвокатствуешь? – перебил Быстрова Мишин.– Дай ему самому слово вымолвить.
В бледном лице Николая, во всей его длинной фигуре была какая-то пришибленность.
– Виноват я перед заводом... Семен Павлович,... Эшелон... не смог доставить, – проговорил Николай.
– Садись, дон Кихот, – засмеялся Мишин. Николай и впрямь напоминал дон Кихота. – Гитлеровцы виноваты, что дорогу отрезали. А ты тут причем? Как здоровье– то? Бледен ты, брат. Мне Бирин рассказывал, как ранило тебя. Ругать бы тебя надо. Без спросу в драку полез.
Николай молчал.
– Ленинград еще в блокаде. Тяжело там, – тихо продолжал Мишин. Николай вздрогнул, точно его резнуло по сердцу. Ленинград еще в блокаде. Там где-то в окопах Анна.
Мишин внезапно оживился:
– Возглавишь конструкторский отдел, Петрович..? Мы вооружаем сейчас машину, ищем удачное решение.
Мне в наркомате рассказывали, что в одной дивизии на нее шесть пулеметов поставили, так она, горемычная, и не взлетела даже! Я хотел бы, чтоб ты этим вопросом занялся.
Николая обрадовало крепкое рукопожатие Мишина,– в нем была ободряющая теплота.
– А теперь веди к Петру Ипатьевичу, товарищ Быстров! – сказал Николай.
Николай шел быстро, почти бежал, и Бьвстров едва ¦поспевал за ним. «Неужели я сейчас увижу Глебушку, отца, маму?» – спрашивал себя Николай, не веря своему счастью.
У калитки одного из новых двухэтажных домов стояла сестра Анеы. Он узнал ее по глазам^– синим, глубоким, с веселыми искорками.
– Тоня?! – Она шагнула к нему, и Николай увидал сына. Глебка отворил калитку и высунул голову в черной мерлушковой шапке-ушанке.
– Глебушка! – крикнул Николай, забыв, что нужно поздороваться с Тоней, и поднял сына на руки.
«Как он исхудал! —молча удивилась Тоня. – Не хворает ли?» А Николай целовал сына и сквозь слезы бормотал:
– Глебушка... синеглазый мой!
– Вот еще! – пожал плечами Глебушка. – Плачет... А еще мужчина!
Утро стояло тихое, задумчивое, но на небе, по разорванным низким облакам, заметны были еще следы бушевавшего здесь ночью ветра.
Если бы у Николая спросили, чем этот день отличается от других зимних дней, он ничего не мог бы ответить, но каким-то шестым чувством, необъяснимым словами, он ощущал весну. И в чуть потемневших сугробах вокруг деревьев и столбов, и в неожиданно громком крике вороны, и в ясном, дрожащем, мягком свете утра угадывалась близость весны.
– Чего же мы стоим, папа? Мне холодно! —воскликнул Глебушка.
– Да! – спохватился Николай. – Пойдем к бабушке.
Пока они поднимались по лестнице, Таня рассказала, как она выбиралась из осажденного Ленинграда, но Николай почти ничего не слышал: его переполняла радость. Рядом шел сын, Глебушка, он держал в своей руке его маленькую теплую ручонку.
– Собираются Бакшановы! – зычно прогудел он, увидев мать.
Марфа Ивановна тихо ойкнула и повисла на плечах сына.
Тоня протянула Николаю письмо.
– Не зайди я на вашу ленинградскую квартиру, оно лролежало бы в почтовом ящике до конца войны.
– От Анны! – задьихаясь, проговорил Николай. У него дрожали руки. Он узнал почерк Анны.
«Николай!
Пусть эти грустные строки (ты чувствуешь?!) будут моим поздравлением с днем твоего рождения: сегодня ведь двадцать девятое сентября! Я вспохмнила, как в этот день пекла твой любимый «наполеон», хворост, готовила ужин на «двунадесять» ртов и ты приходил с корзиной бутылок и артелью друзей. Я вспоминаю обо всем этом и плачу. Разумеется, втайне от начальства: подполковник Козлов при виде женских слез -приходит в состояние буйного помешательства. Коля! Пусть наилучшим тебе подарком будет надежда, что я скоро вернусь! Я пишу—скоро вернусь. Через месяц? Год? Два? Никто не скажет когда, только я говорю: скоро. Знаешь почему? Я немного хитрю: раз я пишу «скоро», значит ты будешь меня ждать с большим нетерпением и чаще обо мне думать. Вот уже третью ночь мы сидим иа одной из станций. Идут эшелоны первой очереди – артиллерия, пехота... Кругом темень. Я сижу в вагоне, слушаю унылые, тоскующие переборы гармони (играют где-то у военного коменданта), и душа плачет и стонет по дому, по сыну» по тебе... Завтра поедем «туда». Сказать по правде, и страшно» и хочется, чтобы» скорей окончилось ожидание. Я еще не была «там», а уже слышала много грозиого и тяжелого, заметила много волнующих картин. Вчера днем против нашего вагона остановился санитарный поезд. Ярко сияло солнце. Где-то высоко заливался жаворонок. Было знойно и тихо. Из вагона вынесли на носилках раненого и положили между путями. У него была перевязана голова и верхняя половина лица. Раненый осторожно нащупал рукой землю.
– Что это? – спросил он испуганно.
– Земля! – удивленно сказала девушка, стоявшая подле.
– Засыплет!.. Засыплет!.. – судорожно забился раненый, испуг срывал его голос. Должно быть, в его сознании встали взрывы и черные столбы земли...
Тебя, наверное, удивит, что я очутилась в дивизионном госпитале. Это случилось не вполне по моей воле. Комиссар эвакогоспиталя вызвал меня к себе и спросил-желаю ли я работать в дивизионном госпитале?
– Почему вы вызвали именно меня? – спросила я.
Он ответил:
– Потому что вы нашли в себе мужество пойти на фронт доброволыио, не ожидая мобилизации. Он помолчал и добавил: – И еще потому, что в дивизионный госпиталь нам требуется надежный, волевой товарищ и опытный хирург.
Я поняла, что илу в самое пекло войны, на ее передний край. Николай! Могла ли я отказаться? Нет, я не омела отказаться».
Далее две строки были густо перечеркнуты: Николай, как ни напрягался, ничего ее мог разобрать. «Николай! Береги сына. Смотри, чтоб ему Марфа Ивановна не давала яичек, ведь у него диатез. И сам не забывай одевать кашне, скоро осень! И потом, у тебя дурацкая привычка носить пальто нараспашку. Я всегда нервничала из-за этого. Обещай мне, что будешь застегиваться иа все пуговицы. Обещаешь? Смотри!
Николай, как только прибудем на фронт, я напишу тебе мой окончательный адрес. И тогда условие: писать каждую неделю. Ладно? Пиши, что нового в твоей работе. Воюй, инженер! Не забывай, что чертежный стол – твое поле сражения. (Я вспомнила эти твои слова.)
Передай Глебушке привет от его мамы, скажи, что она миллион раз целует его милую мордочку и скучает по его умным глазенкам. Поцелуй Марфу Ивановну. Словом, передай привет всем друзьям и раздай мои поцелуи всей семье (и себе не забудь оставить!).
Ну, я, кажется, заболталась. Жди следующего письма. До скорой счастливой встречи! Приеду –
наговоримся до немоты. Так ведь? Да?
Анна».
Да, это была Анна. Он узнал ее по манере мешать шутку с тревогой, улыбку с болью. В самые тяжелые дни ее жизни она помнила о его дне рождения.
«До скорой счастливой встречи...» – каким это было теперь далеким, недостижимым!
«Где ты теперь, Анна, друг мой (неповторимый?..Жива ли?..» Счастье живет с человеком рядом, ест с ним из одной тарелки, а он не видит его. Потам вдруг обдаст человека ледяным ветром невзгод, и спохватится он: – Где же счастье, куда запропастилось? И жалеет человек, что не ценил своего счастья, не понимал его. И страстно мечтает о нем, пробивается к нему через тысячи преград.
Глава восьмая
Удивительна судьба у этого самолета: она напоминает судьбу человека. В мирное время он был незаметен: травил сусликов и саранчу, возил почту. Летчики даже относились к нему с легким пренебрежением – «пришус!».
Но вот началась война, и хрупкий, неказистый самолет стал одним из самых стойких и бесстрашных ее солдатов. Дымились ангары аэродромов, чернели воронки на взлетных и посадочных площадках, но с родных полей и лугов подымались тысячи «ПО-2», бросали бомбы на пехоту врага. Как ловкие и исполнительные связные, они носились из штаба в штаб, доставляя документы и людей. Они пробирались в фашистский тыл, и партизаны со слезами радости встречали крылатых вестников.
Они подбирали раненых у переднего края, спасая им жизнь.
Гитлеровцы встретили этот самолет высокомерными кличками: «Рус фанер», «Иван-Солома». А «ПО-2» продолжал свое дело с упорством и спокойствием русского солдата. Случалось, бьет по переправе артиллерия, бомбит скоростная авиация – никаких результатов: стоит, проклятая! Тогда вызывают «ПО-2».
Прилетит, потарахтит моторчиком, выплюнет одну-две бомбы – и конец переправе! По ночам висел самолет над вражескими окопами, кидал бомбы, бил из пулемета. Никто не спал: бог весть, куда угодит русская бомба!
Николай принял участие в разработке стрелково-бомбардировочной схемы самолета, но это была не его стихия.
Он почувствовал в себе ишвый прилив сил. Ему хотелось изобрести нечто подобное кабинам, чтобы сразу сказались результаты! его работы. Военные представители жаловались, что по шуму мотора и пламени из выхлопных патрубков ночью фашисты обнаруживают самолет задолго до подхода к цели.
Николай напряженно думал три месяца. Он пересмотрел все схемы глушителей, советовался с мотористами, обращался к технической литературе. Задача оказалась значительно трудней, чем Николай предполагал.
Противоречие между глушением шума и мощностью двигателя было непримиримым: стоило продвинуться на шаг в конструировании глушителя, как тотчас же резко падала мощность мотора.
«Где, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?I» – цитировал про себя Николай любимого поэта и добавлял:
«Я хоть и не великий, но перенимать хорошие правила – не грех».
Дело еще осложнялось тем, что следовало одновременно и гасить пламя.
Николай сделал два полуколлектора, и когда их смонтировали и стали испытывать, мотор сбросил двести оборотов.
«Не то, не то!» – злился Николай, ища новое решение. Он работал тяжело, мучительно, беспокойно.
Все на заводе, будто сговорясь, перестали обращаться к начальнику конструкторского отдела с просьбами об уточнении чертежей – технологи ошибки и неувязки приписывали себе, роизводственники не донимали
конструкторов своими жалобами. В Бакшанова верили и ждали, что он даст оригинальную конструкцию.
Только один Солнцев ворчал, когда, созывая совещание, среди начальников цехов и отделов не находил Бакшанова.
– Ох уж эти мне муки творчества! Нет у нас на заводе главного конструктора. Есть поэт, сочинитель технических выкрутасов.
Профорг Маша Лаврутина несколько раз порывалась пойти к Бакшанову за членскими взносами – он был единственным должником в организации – но сдерживалась: «Ладно! Пускай закончит. Уж тогда-то я и поговорю с ним о профсоюзной дисциплине!»
Николай сделал кольцевой коллектор и вывел к фюзеляжу разрезную «грушу» с .управляемой из кабины летчика заслонкой. При расчете диаметра внутренних труб коллектора Николай учел прежние неудачные варианты.
Мотор с новым шумопламягасителем работал ровно и сбавлял только пятьдесят оборотов.
Для испытания новой конструкции назначили комиссию под председательством главного инженера.
Николай приехал на аэродром, как только стемнело; испытания были ночными.
В трамвае, среди тихо дремавших пассажиров, сидеJia пара влюбленных. Они ежеминутно переглядывались и перешептывались.
«О чем эти голубки все время шепчутся?. – с завистью думал Николай. – Кто его знает, откуда (молодость берет столько слов!» Для влюбленных не существовало сейчас ничего, кроме переполнявших их чувств. Миловидное лицо девушки с рыжеватыми кудрями, выглядывавшими из-под надетой набекрень шапки, выражало такую лихость и гордую, как вызов, радость жизни, что Николай невольно улыбнулся.
«Далекое!» – вздохнул Николай и задумался.
Тринадцать лет тому назад Николай, по -путевке горкома комсомола, читал лекцию в Первом ленинградском медицинском институте. Был канун «Дня авиации» и в актовом зале собрались студенты со всех курсов.
Николай говорил о создателе русской авиационной науки профессоре Жуковском, о русском морском офицере Можайском, построившем первый в мире самолет, о революционере Кибальчиче, который, за несколько дней до казни за участие в покушении на Александра II,закончил в Петропавловской крепости описание реактивного летательного аппарата.
Он окончил лекцию рассказом о работах советского ученого Циолковского; ученый предложил проект ракетного самолета для вылета из земной атмосферы, а также проекты– ракетных поездов для исследования мировых пространств.
Едва утихли аплодисменты и слушатели подеялись со со своих мест, к кафедре подошла невысокая девушка с открытым, готовым вот-вот улыбнуться, лицом. За ней двигалась шумная компания подруг.
– Слушая вас, товарищ лектор, можно подумать, что не сегодня-завтра откроется межпланетная линия Москва – Марс, – сказала она и з-вонко засмеялась, обнажая мелкие белые зубы.
– Да, – улыбнулся Николай, – если понимать слово «завтра» ее в буквальном, а в историческом смысле,
– Вы тоже конструктор? – спросила девушка, метнув в Николая синий изучающий взгляд,
– Я? Н-нет, то-есть да... – растерялся, сам не зная отчего, Николай.
– Понятно! Вы конструктор... в историческом смысле.
Так вот, когда я стану врачом в буквальном смысле, прошу забронировать одно место на космический рейс.
Девушки засмеялись и прошли к выходу.
Николай проводил их глазами, и у него возникло сумасшедшее желание сейчас же догнать их и идти рядом с той, синеглазой, слушать ее острую, чуть насмешливую речь.
...Он стал частым гостем в общежитии у медиков. И больше всего удивило его то, что острая на язык девушка оказалась дочерью Сергея Архиповича Лугового.
Он теперь смутно припоминал, как Марфа Ивановна часто нахваливала дочек Сергея Архиповича, но
Дуговые жили далеко, на Охте, и Николаю как-то не приходилось у них бьивать.
Поначалу Николай не нравился Анне. По общежитию колесила шутка Анны, будто из облздрава приезжал человек, сфотографировал Николая и что скоро выйдет в свет плакат-реклама, на которой будет изображен Николай в полный рост, и рядом надпись: «Пей рыбий жир и ешь витамины, умнее не будешь, но станешь длинным».
Анна принимала его внешнюю «тихость» за основную черту характера.
И странно: Николай не обижался, громче всех смеясь над ее колкими остротами, а карие спокойные глаза будто говорили: «Ну, ну, давайте. Ваши булавочные уколы доставляют мне только удовольствие.
Так продолжалось бы очень долго, не произойди один случай. Об этом рассказал ей товарищ Николая.
Николай и еще несколько студентов авиационного института во время летних каникул устроились на работу на судоремонтный завод. Ребята закончили четвертый курс и считали себя без пяти минут инженерами.
На заводе работал «иностранный специалист» по ремонту станков инженер Крафт.
Заносчивость и грубость Крафта вызывали немало нареканий со стороны рабочих.
Как-то закапризничал импортный станок. Студенты, сколько ни бились, не могли наладить. Тогда позвали Крафта.
– Уходите фон! —сказал он. – Вы не инженеры, а дрофосеки! Инженер Крафт сам лишно будет ишрафлять.
Крафт снял пиджак, обнажив ослепительно белую рубашку с накрахмаленными манжетами, покопался, попыхтел, поругался по-своему и вылез из-под станка.
– Нишего не выйдет. Надо капитальный ремонт, – уже с меньшей заносчивостью, но твердо сказал Крафт.
И вдруг Николая словно подмыло.
– Выйдет!—крикнул он со злой уверенностью,– Инженер Крафт не сделал, а русский студент Колька Бакшаноз сделает!
Николай возился со станком весь день. И сделал!
Рабочие были в восторге:
– Молодец парень. Утер нос Крафту!
Анна выслушала этот рассказ, задумчиво поводя бровью. С тех пор она больше не смеялась над
Николаем.
– Когда мне рассказали о твоем столкновении с
Крафтом, я увидела тебя совершенно другим, будто в щелочку я твою душу подсмотрела.
– Ну и... понравилась?
– Понравилась!—ответила она просто.
Вот за эту-то смелость и простоту, за эти синие, чистые, никогда не знавшие лжи глаза и полюбил ее Николай.
Прощаясь с женой перед отправкой поезда с эвакогоспиталем, Николай частил срывающимся голосом:
– Ты знаешь, Анна, мне кажется невероятным, что мы с тобой когда-то были чужими, незнакомыми людьми.
Не верится, что мы родились в разных семьях, что было время, когда мы не думали друг о друге...
А глаза его говорили: «Увидимся ли, Анна? Пройдем ли сквозь пургу или затеряемся в жестокой непогоди?..»
Она поцеловала мужа и убежала в вагон. Поезд тронулся. Женщины-врачи и сестры облепили окна, прощаясь с близкими.
...Николай оторвался от своих мыслей и снова взглянул на влюбленную парочку. В трамвае было полутемно. Где-то возле кондуктора слабо светилась тусклая лампочка.
Показались трубы теплоэлектроцентрали. Николай сошел с трамвая и свернул на шоссе, ведущее к заводскому аэродрому. Главный инженер приехал на полчаса позже.
– Я за вами заезжал, Николай Петрович. Мне сказали, что вы ушли к трамваю.
– Извините, Александр Иванович. Я забыл предупредить вас, что люблю ходить пешком,– улыбаясь, ответил Николай.
«Аэродром» – слишком громкое название для этого пустынного поля, зажатого между двумя массивами леса. Здесь стояла большая брезентовая палатка, в которой собирали самолеты, и четыре фанерных самолетных ящика, заменявших служебные помещения. В одном ящике помещались военпреды и бюро цехового контроля, в другом – начальник цеха, в третьем – охрана.
Четвертый ящик считался своеобразным клубом. Это было единственное место, где можно было отогреться. Здесь всегда было много народу: то забегут покурить сборщики, то придут отдохнуть и погреться мастера, в ненастную погоду здесь весь день у железной печки сидели летчики и мотористы, сушилась охрана'после наряда.
– Виктор Павлович! – обратился главный инженер к начальнику цеха. – Выложите ночной старт. А мы пока погреемся.
В ящике стояла полутьма, и вошедших не заметили.
Сборщик Ибрагимов – худенький, чернявый паренек в стеганом пиджаке и брюках, заправленных в большие, не по росту, ботинки, стоял возле печки, держа в руках лист бумаги. Красный свет от открытой топки вырывал из темноты» его возбужденное лицо с припухлыми, детскими губами.
– Наша бригада решила именовать себя фронтовой и вызывает на соревнование бригаду Лунина-Кокарева!—громко и взволнованно прочитал Ибрагимов.
Стало неожиданно тихо. Только сборщик Корунный из бригады Лунина-Кокарева удивленно протянул:
– Ой, хлопцы, мабудь зараз у лесе вовк здох!
Никто не засмеялся. Вызов бригады Ибрагимова прозвучал неслыханной дерзостью. Полгода назад начальник цеха привел к бригадиру сборщиков Лунину-Косареву трех мальчиков. Самому старшему из «них – Ибрагимову – едва перевалило за пятнадцать лет. Они €ыли в не по росту больших и широких куртках и стояли, поводя плечами и пряча в рукава озябшие руки.
– Обучите, – сказал Лунину-Кокареву начальник деха. – Через месяц поставим на самостоятельную.
– Что мы с этими шплинтами делать будем? – возмутился бригадир. С тех пор и шрозвали их «шплинтами»,
Шплинт – маленькая проволочка, которой контрят гайки, чтоб они не отвернулись. Это самая мелкая и самая дешевая деталь в самолете. «Шплинтами» звали бригаду Ибрагимова еще и потому, что Лунин-Кокарев не допускал их ни к одной более или менее ответственной операции и заставлял только шплинтовать гайки.
Были у Дунина-Кокарева и другие странности.
Крутнул он однажды магнето, вытаращил глаза и крикнул Ибрагимову:
– Искра в костыль бьет. Лови ее!
– Как? – спросил ошарашенный Ибрагимов.
– Скинь тужурку и оберни костыль. Да держи крепче!
Ибрагимов снял т»ужурку и полчаса пролежал под самолетом, стараясь не выпустить неуловимую искру.
Заметив, что все собираются к самолету, словно на представление, и поняв, что Лунин-Кокарев над ним посмеялся, Ибрагимов поднялся, заблестев глазами от обиды.
Лунину-Кокареву крепко попадало за чудачества, но сборщик он был превосходный, и ему многое прощалось.
– Нас двое, – говорил про себя Лунин-Кокарев, – но работаем мы за четверых!
И это не было бахвальством. Он мог один сделать больше, нежели две бригады бывалых сборщиков.
Недели две тому назад Лунин-Кокарев доложил начальнику цеха – «шплинты» взбунтовались! «Бунт» выразился в том, что ребята заявили, что не будут больше «сидеть на шплинтах» и хотят выделиться в отдельную бригаду для самостоятельной работы.
– Очень хорошо! – сказал начальник цеха.
– Нельзя их допускать к самостоятельной. Угробят! – горячился бригадир.
Комсомольцев выделили в отдельную бригаду, им дали задание самостоятельно собрать самолет.
Лунин-Кокарев занял место повиднее. Он готов был, как только «шплинты» допустят ошибку, остановить их своим торжествующим голосом. Но Лунин-Кокарев все время молчал. «Шплинты» собирали правильно. Когда машина была готова, Лунин-Кокарев транспортиром и линейкой проверил репулирсвку и, взглянув на напряженно замерших ребят, холодно сказал:
– Копаетесь, ровно муравьи. Так вы и на обед не заработаете!
Комсомольский организатор цеха, моторист Костя Зуев мелом на доске выводил первые слова газеты «молнии».
«Сегодня бригада комсомольца Ибрагимова самостоятельно собрала и отрегулировала первый
самолет».
– О, уже и в святые попали! – вознегодовал Луиин– Кокарев.
Теперь, услышав, что «шплинты» вызывают его на соревнование, Лунин-Кокарев смотрел на Ибрагимова с выражением оскорбленного достоинства.
А Ибрагимов, бледный, заглатывая от волнения слова, продолжал читать: «...сократить время сборки самолета на пятнадцать процентов. Сдавать самолеты военному представителю без дефектов...»
– Постой!—не в силах больше сдерживать себя, крикнул Лунин-Кокарев. – Не пой соловьем, раз
воробей! Других-то за уши поднять легко, а ты себя подыми за уши! Ты вон расписал, будто поп проповедь: и время сократить, и чтобы без дефектов. А проверил ты – выполнишь это либо так, для звону только и придумал?
– Испугался Лунин!
– «Шплинты» страху нагнали!
– Зовд Кокарева на подмогу! – раздались подтрунивающие голоса рабочих.
Ибрагимов скинул шапку, тряхнул черными густыми кудрями.
– Зачем так говоришь? Ибрагимов от работы бежал? Говори, бежал Ибрагимов?
Смуглое лицо его залилось краской, а в глазах сверкала обида. Ибрагимов был удивительно работящим пареньком.
– Зачем парня обидел? – поднялся с табурета дядя Володя. Глубоко ввалившиеся глаза смотрели строго, осуждающе. – Где бы помочь парнишке, так ты,
напротив, ровно пес цепной кидаешься. Злой ты! Слово дяди Володи было решающим. Рабочие
уважали его.
– Лунин не злой. Лунин не любит только, когда его агитируют. – В голосе Лунина-Кокарева звучали нотки примирения. Он вдруг великодушно протянул Ибрагимову руку:
– Держи, Ибрайка. Начнем чертям рога обламывать! Но только заранее говорю: меня не обгонишь.
– Мальчишка обгонит! – уверенно сказал Николай главному инженеру. – Старик ленив, как многие, достигшие славы.
Александр Иванович засмеялся:
– Верно, слава – особа коварная!
Начальник цеха доложил о готовности самолета к полету. Они вышли на летное поле. Уже стояла ночь.
Высоко, на маленьком клочке чистого неба, дрожала одинокая звезда, а вокруг – куда ни кинешь взгляд – неподвижно висели тяжелые облака. Под ногами проваливался снег, и остававшийся в нем глубокий след мгновенно заполнялся водой.
Белый ковер аэродрома, расползаясь, неожиданно обнажал то тут, то там темное тело земли.
– Дует, как в аэродинамической трубе, – недовольно сказал Александр Иванович, поднимая воротник пальто.
У самого края взлетной полосы стоял самолет.
Николай сел в заднюю кабину. Холодный поток воздуха, хлынувший от винта, заставил его запахнуть пальто. Он вспомнил письмо Анны: «...Обещай мне, что будешь застегиваться на все поговицы...» И тут же гнетущая, как стон, мысль: «Я-то застегнусь. А и простужусь – невелика беда. А ты... где ты сейчас? Жива ли?»
Самолет ушел в ночь, как камень, брошенный в воду. Потом он вынырнул из темных волн облаков и пролетел над аэродромом, сверкая огнями на крыльях и на хвосте. Следующий заход на аэродром, как условились, летчик сделал с выключенными кодовыми огнями и включенным шумопламягасителем Бакшанова. Самолет прошел бесшумной тенью. Бирин неожиданно выключал щумопламягаситель, – и грохот мотора прорезал тишину да длинные языки пламени вырывались из выклопных патрубков. Потом грохот резко пропадал: летчик включал шумопламягаситель.
– Теперь наш самолет будет подбираться к фашистам, как охотник (к глухарям, – сказал начальник цеха главному инженеру.
– Так-то оно так, – задумчиво ответил Александр Иванович, – но надо еще проверить продолжительность– работы глушителя. Может, через пару часов полетит цилиндр. Я опасаюсь перегрузки мотора.
Самолет осторожно планировал, заходя на посадку.
И вдруг глухой треск оборвал сдержанное скрекотание мотора. На мгновенье стало так тихо, что все услышали далекий и тонкий вопль паровоза.
– Санитарную машину! – крикнул Солнцев
дрожащим, срывающимся голосом и бестолково заметался из стороны в сторону. Шофер дежурной санитарной машины отчаянно вертел ручкой. Мотор не заводился, застыл.
– Безобразие! Бесподобное безобразие! – кричал Солнцев. – Под суд" пойдете! Как. вы смели застудить мотор?!
Шофер продолжал отчаяено вертеть заводной ручкой.
Рабочие и медсестра побежали к самолету, проваливаясь в рыхлом снегу.
Николай висел на привязных ремнях вниз головой.
Он никак не мог освободить руки, которые прижало при ударе сдвинутым центропланом.
– Пал Палыч, не ушиблись? – опросил Николай у летчика, висевшего в таком же положении.
– Счастливо отделался. Кажется, двух зубов лишился, и то не своих – наркомздравских.
Рабочие помогли им выбраться из машины». Николай кинулся к мотору: его интересовало – цел ли шумопламягаситель. Самолет стоял вверх хвостом. Мотор зарылся в снег. Николай разгреб снег руками: шумопламягасигель был сплющен, крайний правый раструб вырвало вместе с хомутом.
– Впервые самолет «на попа» ставлю. Обидно! – удрученно проговорил Бирин. – На землю лыжами напоролись. Где тут увидишь, когда снег ползет, как худая рубашка.
Николай с горечью думал об искалеченном шумопламягасителе, – у каждого своя печаль.
– Целы? – спросил Солнцев, когда они добрались до домика летно-иотытательной станции.
– Надо бы закончить испытания, – сказал Николай.
– Есть хорошее правило: торопиться не спеша, —многозначительно заметил Солнцев. Николай
вспыхнул:
– Аэродром расползается. Через два-три дня на нем нельзя будет летать вовсе. А это означает, что испытания откладываются иа целый месяц.
Солнцев, не дослушав, пошел к автомобилю. Из темноты позвал:
– Николай Петрович! Что же вы?
– Спасибо! Я говорил вам, что люблю ходить пешком, – ответил Николай.
Внешне Тоня необычайно походила на Анну. Еще до войны, в Ленинграде, Николай, бывало, шутил:
– У вас все одинаковое. Только у Анны в глазах маленькие бесенятки сидят.
Характеры у сестер были разные. Если в словах и движениях Анны угадывались сильная воля,
решительность, умение смотреть на все явления прямо, во всей их жизненной непосредственности, то ее сестра, наоборот, была мягкой, мечтательной, сомневающейся, будто
все время вставали перед ней распутья и она не знала, какую выбрать дорогу.
Тоня была веселой, доверчивой, увлекающейся девушкой. Но стоило ей обмануться в подруге или в привычном понятии, – начинала хандрить, опустошенная и безвольная.








