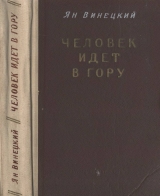
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
силу соков, чтобы выстоять, непременно выстоять до
будущей весны. А там снова раскинуть вольный шатер
зеленых листьев, и – да здравствует жизнь, да
здравствует солнце и певучий ветер!..
320
Глава двенадцатая
За сборкой первого самоходного комбайна следил весь
завод.
Во дворе на широком щите ежедневно вывешивалась
производственная сводка. В цехах появились свежие
листки новой заводской газеты «Комбайностроитель».
«На первом комбайне уже установлены следующие
узлы: мост главных колес, управляемые колеса,
молотильное устройство, колосовой и зерновой шнеки, решетный
стан», – сообщала многотиражка.
В обеденный перерыв «контрольный пост» второго
механического цеха – Яша Зайцев и Наташа пришли на
сборку поглядеть собственными глазами, «как идет дело».
Комбайн обрастал новыми деталями. На длинных
подкосах высился выкрашенный в красный цвет бункер,
впереди белели лопасти хедера.
На электрокаре подкатили мотор. Ибрагимов кликнул
своих ребят и начал установку мотора.
– Даже не обедаете? – удивился Яков.
– А мы уже, – ответил Ибрагимов.
Стоявший на бункере Ваня Колчин снял кепку и
игривым жестом приветствовал гостей:
– А, жильцы дома престарелых! Здрасте!
– Иван! – сердито осадил самого младшего сборщика
Ибрагимов.
Но комсомольцы второго механического уже сверлили
глазами Колчина.
– Из тебя неплохой попугай бы вышел! – громко
отозвалась Наташа.
– Ты что это там чирикаешь, как воробей с
колокольни? – крикнул Яша Зайцев, криво улыбаясь. В
голосе его сквозила обида. – Слезай, я тебе зернышек
подкину.
– Вы бы лучше подкинули конических шестеренок! —
не унимался Колчин.
– И то правда, – застенчиво и будто извиняясь за
дерзость Вани, произнес Ибрагимов.– Дозарезу нужны
шестеренки.
– Мы ведь вам комплект шестеренок отправили, —
громко возразил Яша Зайцев.
– Мелко мыслишь, Яша. Без размаха. Погляди-ка. —
Ибрагимов показал рукой в дальний конец цеха. Там
Ф-444 – 21 321
громоздились красные, желтые и синие коробки новых
комбайнов. – Мы заложили первый десяток.
Токари переглянулись. «Вот это настоящие
комсомольцы! – с немым восхищением подумал Яша. – Еще идет
борьба за первый комбайн и весь завод живет сегодня
только этой задачей, а они уже рванулись в завтра!»
В глазах Наташи Зайцев прочел то же самое.
К комбайну подошел дядя Володя, держа в правой
руке ведерко с краской.
– Машина! – сказал он, молодо блеснув глазами. —
Умная, с высшим образованием. Сделать бы таких тысяч
сто и пустить по полям, как Владимир Ильич о тракторах
мечтал. Беспременно!
– Размахнулся! – засмеялся кто-то сзади. – Дай
один сделать. От одного глаза на лоб лезут.
– Ну, чего гогочешь? – обиделся старик. – Ботинок,
и тот ногу жмет, когда спервоначалу наденешь.
Беспременно! Наш завод пустит производство, а сколько еще
таких заводов в Советском Союзе, пошевели-ка мозгами?
То-то!
– А что, дядя Володя, – обратился к нему
немолодой рабочий в низко надвинутой на лоб вельветовой
кепке. – Работа у тебя, я так понимаю, теперь будет
низкого разряда. Ты ведь, можно сказать, профессор
малярного дела. Шутка ли! Крыло самолета, помню, как
облупленное крутое яичко блестело.
Дядя Володя слушал, прищурив глаза, будто
прицеливаясь к его словам.
– Видишь ли, милок, разряд-то может и пониже, да
класс повыше.
– Это как понимать?
– Душой понимать. Я ведь мог на другой завод
махнуть. И заработал бы наверняка поболее. Беспременно!
А видишь ли, оказия какая: не могу с завода уйти,
привык я к нему, будто к дому родному.
Руководя установкой мотора, Ибрагимов краем глаза
поглядывал на комсомольцев второго механического цеха.
Они прошли к окну и о чем-то оживленно разговаривали.
Потом Наташа быстро подошла к Ибрагимову.
Едва заметная россыпь веснушек растаяла в залившей
щеки краске.
– Фарид, – сказала она тихо. – За тобой, конечно,
трудно угнаться. Зато интересно.
322
– Птицу видать по полету, а человека по работе.
– Красивые слова оставим на после. Короче: мы
вызываем тебя на социалистическое соревнование. Моя
бригада и Якова.
–• Ты разве уже бригадир?
– Да.
– Л Глеб? Разве он...
– Я ушла из его бригады.
Ибрагимов помолчал, пораженный новостью, потом
с силой стал трясти руку Наташи.
– Поздравляю, Наташенька!
– Мы организовали комсомольские посты. Подменять
диспетчера, конечно, не станем. Будем подкладывать
огонек туда, где не горит, а тлеет.
– Правильный разговор! – улыбнулся Ибрагимов.—
Мы удивлялись: хороший народ у вас, а цех плетется в
хвосте.
– Занимались выращиванием рекордсменов, – сказал
Яша, подошедший к комбайну следом за Наташей. —
Вроде редких цветов в оранжерее.
– Ну, согласен, Фарид? – спросила Наташа. —
Конкретные обязательства мы разработаем сегодня после
смены.
– Как, ребята? – обернулся к сборщикам
Ибрагимов. – Будем соревноваться с токарями?
– Давай!
– Только пускай учтут: пересесть с черепахи на
самолет нелегко!
Сборщики намекали на карикатуру в многотиражке,
где сборочный цех был изображен самолетом, а второй
механический – черепахой.
– Ура! – закричал Ибрагимов, пересиливая
задрожавший в воздухе гул гудка. – Да здравствует
соревнование с токарями второго механического!
– Ур-ра!—дружно поддержала вся бригада
Ибрагимова.
Ваня Колчин, стоя на бункере комбайна, высоко
подбрасывал кепку и ловко подхватывал ее. На его
остреньком лице уже не было прежнего выражения колючей
дерзости, оно сияло радостным возбуждением.
– Слыхал,– сказала Наташа Якову, когда они
выходили из сборочного цеха. – Как они дружно кричали
ура! Так и работают. Плечом к плечу. Не то, что мы!
ai* 323
– Дай срок, посмотрим, чье ура пересилит, – ответил
Зайцей, сверкнув взглядом.
– Да, да, Яшенька! – обрадовалась Наташа этому
решительному блеску его глаз.– Только надо хорошенько
все продумать. И взяться за работу всем вместе. Одним
дыханием!..
По воскресеньям старики любили собираться в доме
Петра* Ипатьевича. .
Марфа Ивановна была мастерицей стряпать
ароматный и ядреный– рассольник, холодец, румяные пироги
с капустой.
В просторной столовой становилось шумно и
празднично. Начинался разговор о заводских событиях, о
международном положении, вспоминали минувшие годы,
сожалели о «пролетевшей быстрым ветром юности», с
тихой завистью говорили о том, что «жизнь только теперь
развернулась во всю ширь».
– А нам уже скоро безносый кондуктор скажет: ваша
остановка, граждане, – грустно бросал хозяин.
– Шалишь! – стучал кулаком по столу Ипатий,
самый старый из всех присутствующих.—В нарушение всех
правил, мы твоего безносого кондуктора выбросим вон
и поедем дальше!
Марфа Ивановна плыла лебедем – осанистая,
высокая, с черными, молодо блестевшими глазами, – подкла-
дывала кому рыбки, кому белых скользких груздочков.
– Пава у тебя жинка, чистая пава! – восхищенно
прищелкивал языком дядя Володя.
– С такой Марфушкой сто годов под ручку пройдешь
и усталости не приметишь,– ласково журчал Сергей
Архипович.
Петр Ипатьевич расцветал майским солнышком,
улыбаясь всеми морщинками на широком лице:
– Ну, ежели у моих дружков такое настроение —
едем дальше без остановки. Наливай, Володя!
Потом выходили в сад, разбитый позади дома. Марфа
Ивановна бережно выносила гармонь.
– Сыграй, Марфуша, про Стеньку Разина, хо-роший
был человек! – просил дядя Володя.
– Нет, про Ермака!
524
– Хазбулат удалой!
Марфа Ивановна строптиво вскидывала голову и
начинала играть свою любимую. Сергей Архипович, Ипа-
тий, дядя Володя и Петр Ипатьевич, обнявшись, дружно
затягивали:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина-а,
Головой склоняясь
До самого тына...
Вот и сегодня Марфа Ивановна накрывала на стол,
поджидая гостей. Петр Ипатьевич, одетый в новый, из
черного бостона костюм, с аккуратно зачесанными назад
седыми волосами, вошел в спальню: утром, возвратясь
с рыбалки, остался у них спать внук.
Глеб надевал бутсы, пыхтя и свесив к самому полу
золотистый чуб.
– Куда собрался?
– На стадион, – ответил Глеб, не поднимая
головы.– Играем со сборной железной дороги.
– Ишь ты! Выступаешь вратарем, небось?
– Нет, в нападении.
– В нападении... Ну, а покуда побудь в защите.
Нападать стану я.
Глеб поднял голову. Его удивили не столько слова,
сколько голос деда: в нем сквозили и строгость, и обида, и
сожаление.
– Я думал, в верные руки дело передаю, в чистые
руки... Учил тебя токарному ремеслу с малолетства. Да
и разве можно назвать его ремеслом? Ремесло – это
ежели ради куска хлеба. А тут – для души, для того,
чтобы люди тебя долго добром поминали.
– Ты о чем, дед? – спросил Глеб.
– О чем! Мне по заводу и шагу не шагнуть – все
укоряют: «Что это*, Ипатьевич, внук у вас со старинными
замашками? Таких нынче и старичков днем со свечой не
сыщешь».
– Короче, дед. Я не пойму, в чем суть.
– Ты изготовил набор резцов?
–¦ Ну, изготовил, – нетерпеливо пожал плечами Глеб.
– Они повышают производительность?
– Повышают.
– Так почему от народа прячешь их, с-сукин
сын! – закричал Петр Ипатьевич. На лице его проступили
325
красные пятна.– Этому разве учил я тебя? И прадед
твой Ипатий этому учил? Или отец учил?
Глеб встал и поглядел деду прямо в глаза.
– Ты меня не поймешь, дед. Резцы сконструировал
я, и все плоды и честь должны принадлежать мне.
Петр Ипатьевич взял внука за плечи, крепко, до боли
сжал их все еще сильными руками.
– Знаешь ли ты, что такое честь, рабочая честь,
щенок? – проговорил он тихо. – Честь – это когда к
тебе у народа уважение есть, это когда ты все, чему
научился у народа, возвращаешь ему сторицей.
– Пусти! – Глеб вырвался, потирая занывшее плечо.
Потом, встретясь синим, неуступчивым взглядом с дедом,
добавил: —сам разберусь... и сам за себя отвечу!
– Вон! – крикнул Петр Ипатьевич. Горячая волна
гнева подкатила к сердцу, и в глазах пошли темные
быстрые круги...
Глеб выбежал на крыльцо —всклокоченный и бледный,
с сумасшедшими, отчаянными глазами.
А с улицы уже доносился степенный говорок Сергея
Архиповича, басовитый голос Ипатия и раскатистый
смех дяди Володи...
Собирались гости.
Глеб часто оставался в лаборатории института: они
с Наташей стали студентами вечерного отделения.
Помогал старшему лаборанту кафедры технологии обработки
металла Феоктисту Феоктистовичу, или, как его называли
студенты, Феоктисту в квадрате, управляться с
приборами и деталями. Однажды, возле машины, на которой
обычно производят испытания пластин на разрыв, Глеб
увидел оставленную кем-то тетрадь. (Ун хотел уже было
положить ее в шкаф Феоктиста Феоктистовича, но
внимание привлекли знакомые завитки милого почерка.
Глебу казалось, что сквозь эти круглые бисеринки букв
просвечивали бесконечно родные, лукавые глаза
Наташи.
Он взглянул на первую страницу и прочшал, не
отрываясь:
«Прежде всего – последовательность. Затем —
сдержанность и терпение. Как ни совершенно крыло птицы»,
326
оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь
на воздух.
Факты —это воздух. Без них вы никогда не
сможете взлететь. Но не превращайтесь в архивариусов
фактов, пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения,
ищите законы, ими управляющие. Затем скромность.
Никогда не думайте, что вы уже все знаете.
И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте
мужество сказать себе: я – невежда...»
Дальше шли строки, густо подчеркнутые красным
карандашом.
«Не давайте гордыне овладеть вами. Из-за нее вы
будете 1упорствовать там, где нужно согласиться, из-за
нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской
помощи, из-за нее вы утратите меру объективности.
Третье – это страсть. Помните, что наука требует от
человека всей его жизни. И если у вас было бы две
жизни, то и их бы не хватило вам. Большого напряжения и
великой страсти требует наука от человека. Будьте
страстны в вашей работе и в ваших исканиях».
Глеб невольно улыбнулся и быстро захлопнул
дневник: в коридоре раздались шаги. «Феоктист в
квадрате!– подумал Глеб, – сдам ему лабораторию и пойду
спать, уже полночь».
Но в открытой даери выросла фигура Ибрагимова.
– Я занимался в спортзале. Гляжу – в лаборато– ,
рии свет горит, думал, забыли погасить,– сказал
Фарид.
Глеб отвел глаза, покраснел, неловко пряча дневник
Наташи в стопку тетрадей и учебников.
– Пошли, полуночник, домой, а то проспим завтра
на работу.
– Сегодня, – поправил Глеб неулыбчиво и
отчужденно.
Ибрагимова давно беспокоил внезапный холодок в его
дружбе с Глебом. Они росли на одной улице, играли в
лапту и горелки, иногда дрались, но быстро мирились,
и эти примирения были такими бурными, полными
мальчишечьей страсти, мечтаний и доброты, что
воспоминания о них еще и сейчас излучали теплоту.
Они вместе учились в школе. Правда, Ибрагимов
вынужден был уйти из седьмого класса на завод: война, не
327
считаясь с его возрастом, сделала его главой семьи из
трех малолетних сестренок и больной матери.
Но как только окончилась война, Ибрагимов
поступил в вечернюю школу рабочей молодежи и теперь уже
занимался в десятом классе.
«Что же приключилось с Глебом? – спрашивал себя
Ибрагимов. – Отчего он дуется на меня, как мышь на
крупу?»
Сомнений быть не могло: Глеб ревновал его к Наташе.
Ибрагимов имел возможность убедиться в этом не раз.
Теперь он решил поговорить с Глебом откровенно.
Они вышли из института на тихую, лусто
запорошенную листопадом улицу. Вдали зарницами вспыхивали
электрические разряды трамвайных и троллейбусных
линий.
Они шли молча, безотчетно * впитывая в себя мягкую,
ласковую типгину ночи.
– Глеб, – сказал вдруг Ибрагимов, и в голосе его
послышалось волнение. – Давай поговорим начистоту,
по-комсомольски.
– Давай,—глухо ответил Глеб, не поворачивая го-г
ловы.
– Когда ты пришел на завод и очень скоро о тебе
заговорили как о хорошем токаре, я обрадовался, как
будто хвалили меня самого, честное слово! Гордился за
тебя, Глеб! Потом узнал, от ребят, что ты стал чемпио-
нить, форсить своим уменьем, плюнул на товарищей, я
сначала даже не поверил. А побыш на вашем собрании —
сам увидал...
«Он заходил за Наташей,– думал Глеб, с неприязнью
вслушиваясь в слова Ибрагимова.– И, не застав ее, не
нашел ничего лучшего, как читать мне нравоучения».
– Тебе-то какое дело до всего этого?.. – процедил
сквозь зубы Глеб.
– Потому что так комсомольцы we поступают! —
загорячился Ибрагимов. – Погляди на Наташу – на ней
лица нет. И все из-за тебя, шайтан! Она рассказала
мне, как ты оскорбил ее после собрания.
– Рассказала, – повторил Глеб онемевшими
губами. И вдруг, повернув к Ибрагимову перекошенное
от злости' лицо, закричал:—А ты и рад этому! Рад!
Ну и гуляй с ней, утешитель, помоги ей забыть
меня!
328
Ибрагимов отшатнулся. Ярость вот-вот тотова была
вспыхнуть и в нем, но он большим усилием сдержал ее.
– Ты плахой товарищ, Глеб, если думаешь, что я
молу изменить нашей дружбе... – Голос Ибрагимова
дрожал. – Если ты думаешь, что я с Наташей...
Он повернулся и, обиженный, злой, пошел широкими
шагами. Ветер теплой рукой ерошил его мягкие
волосы».
Глава тринадцатая
С Гусевым у Чардьшцева пошли нелады.
Началось с того, что секретарь партийного комитета
обвинил Чардьшцева в шельмовании стахановца второго
механического цеха Глеба Бакшанова.
– Понимаешь, что ты наделал? Вместо того, чтобы
поддержать лучшего нашего рабочего, активнейшего
рационализатора, ты преследуешь его... Это же...
политическое недомыслие!
– Странно от тебя слышать такие слова, Федор
Антонович,– спокойно сказал Чардынцев.– Критику
неправильного поведения комсомольца Бакшанова ты
называешь политическим (недомыслием.
– Критику! – вскипел Гусев. – Надо же знать, где и
как критиковать. Теперь, когда нам надо поднимать
народ по примеру передовых, ты подрываешь авторитет
этих людей.
– Так ли ты представляешь понятие «авторитет»,
Федор Антонович? По-твоему, авторитет – это
непорочное одеяние, к которому не смеют прикасаться руки
«нечистых». А на самом деле, если человек умеет
воспринимать критику и исправлять свои ошибки, от этого его
авторитет «нисколько не страдает.
Глеба Бакшанова критиковало 'комсомольское
собрание..,
– Но ты не повел собрание по правильному,
партийному руслу!
– Очень правильное было собрание, Федор
Антонович. Живое, страстное, и нам с тобой следовало бы
сделать из него некоторый вывод.
– Какой?
– Первый и самый главный: не следовало парткому
оставлять второй механический без партийной органи-
вации. В годы войны там было десять коммунистов, и
цех быш впереди. А потом администрация разметала
людей: одних – в другие цехи, других – на учебу, и во
втором механическом осталось только два коммуниста. А
ты не вмешался в эти неправильные действия
администрации.
Гусев понимал, что Чардьгнцев был прав. Но
согласиться с Чардьгнцевьм, по его мнению, означало
признать свою оплошность.
Он нахмурил широкие, нависающие на глаза брови:
– Мы говорим не о том. Речь идет о твоем неумении
поддержать лучших стахановцев, увлечь за ними всю
массу.
Чардынцева забеспокоил осколок, а это предвещало
вспышку гнева.
– А ты умеешь увлекать массу? Кого повел ты за
героями-одиночками, в том же, например, втором
механическом?– сказал Чардьшцев, сдерживаясь.
– Мьв призьивали людей агитацией, примером.
– Призывали, увлекали, поднимали.
Митинговщина! Да, голая митинговщина, таков твой стиль, Федор
Антонович. А нужна кропотливая, черновая,
внимательная работа с каждым человекам. Только так можно
подготовить уопех. А у тебя все – «в общем
масштабе».
– Вот как! – поднял брови Гусев. Рука его,
державшая папиросу, заметно дрожала.—Ты пришел учить
меня работе с заводским коллективом. Меня, за плечами
которого десятилетний опыт партийной работьи в
промышленности! Спасибо, брат. В годы войны секретарь
обкома товарищ Булатов, спроси его, ставил меня в пример
и посылал ко мне учиться партийной работе.
– Не надо постоянно оглядываться на годы войны,
Федор Антонович.
– А что, забыть эти годы?
– Нет, глядеть вперед.
– Глядеть вперед – не значит глядеть вверх. Вот
еще у меня имеется факт. Коммунистов Петра Ипатье-
вича и Тоню Луговую ты назвал оппортунистами. Что
это, как не политическое верхоглядство,
мальчишество?!
Чардьшцев встал. Ой не столько был обижен,
сколько удивлен.
330
Когда он их называл оппортунистами? Он говорил,
что они не боролись за партийную линию, мирясь с
отставанием цеха. Разве это неправда?
Одно из двух: или Гусев не взлюбил его и
каждое слово Чардынцева вызывает в нем безотчетное
возражение, или Гусев – «весь в прошлом», отставший
обозник.
Но разве может в партийной работе иметь сколько-
нибудь серьезное значение личная неприязнь? Тогда
остается второе. Да, отставший обозник. Да еще с
примесью петушиной заносчивости.
– Вот что, Федор Антонович, – сказал Чардынцев,—
ты собирай против меня факты, а я буду работать. Кому
что по душе!
– Я созову партийный комитет! – вспылил Гусев.
– Давай. Может быть, товарищи помогут тебе
разобраться в твоих ошибках.
Чардынцев ушел, не простившись. А Гусев долго еще
сидел в кабинете, что-то писал, часто зачеркивав и
начиная сначала. С »улицы доносилось ровное могучее
дыхание завода...
Гусев иногда подумывал об учебе. В конце концов, у
него уж не ахти какое большое образование —
пятнадцать лет иазад он окончил авиационный техникум. Он
написал было заявление Булатову с просьбой
командировать его в областную партийную школу, но
проносил его в кармане так долго, что оно все протерлось
на сгибах. Он не мог найти в себе силы хоть на
время покинуть завод, с которым связаны лучшие годы
жизни.
Ах, каким огнем горела тогда его душа! Он редко
бьивал дома, перенес свою койку в одну из комнат
парткома.
Восемнадцать часов в сутки он бывал на
ногах—заседания, митинги, трудовые авралы, полные
безудержного патриотического порыва. Да, он умел зажигать
людей.
«Умел! – поймал он себя на том, что говорит в
прошедшем времени.—А теперь? Неужели выдохся, Федор
Антонович?»
Гусев бросал ручку и долго ходил по комнате с
перекошенным, словно от зубной боли, лицом...
331
После работьБ бригада Наташи собралась в красном
уголке цеха на занятия по техминим»уму. Девушки
начали изучать конструкцию токарного станка.
Наташа вызвала Клаву Петряеву. Клава встала, не-
довольно поглядев на бригадира.
«И чего она всегда меня вызывает первой!»
– Скажи, Клава, как называется станок, на котором
ты работаешь?
Клава обиженно передернула плечами: «Вот еще!
Задает детские вопросы!», но вслух ответила:
– «ДИП». Это же известно всякому.
– «ДИП». А что обозначает это название?
Клава растерянно обвела глазами девушек. У тех
тоже были «недоумевающие лица. Простое, казалось бы,
дело – название станка, а в него никто из них не
вдумывался. Дип и Дип. Работали на нем, любовно чистили,
знали каждую выщербину и царапину на нем, а
вдуматься в название было невдомек.
Бойкая на язык, быстроглазая Гульнур решила
выручить подругу.
– «ДИП» – это три буквы...– начала Гульнур,
подыскивая объяснение.
Девушки засмеялись:
– Догадливая!
– Спасибо за открытие. А мы думали – букв
больше.
– Я хочу сказать... – не унималась Гульнур, – три
начальных буквы... имени, отчества и фамилии
изобретателя!
– Вот как! – с едва заметной усмешкой спросила
Наташа.– А фамилию изобретателя помнишь?
– Забыла. Вот только давеча на языке был...
Гулынур покраснела.
– Садись, – строго сказала Наташа. – Если не
знаешь, – лучше откровенно признаться, а не гадать на
кофейной пуще.
Наташа рассказала, как в годы первой пятилетки
рабочие московского завода «Красный пролетарий»
создали новый отечественный токарный станок и дали ему
название «ДИП», что означает «Догнать и
перегнать!»
332
– Интересно! – блеснув белками глаз, воскликнула
Зоя. – Догнать и перегнать. Какое хорошее название!
Наташа движением головы откинула назад
выбившуюся на лоб прядь волос.
– И думается мне, девочки, – сказала
она,—название станка должно быть нашим лозунгом. Догнать и
перегнать другие бригады!
– Правильно, Наташа!
Девушки изучали правила настройки станка,
пользования лимбом, способы закрепления резца в
державке, регулировку центра бабки.
И Наташа, и Зоя, и Гульнур, и даже «трусиха»
Клава с каждым днем чувствовали себя увереннее.
Наташа добилась от механика цеха разрешения на
пакраску станков, девушкам сделали четыре шкафчика
для инструмента, новые деревянные подмостки.
– Вот что значит женский персонал!—громко
разглагольствовал Павлин.– Тут тебе и слесаря, и пекаря,
и всякая всячина! А на нас, сиротин, ноль внимания.
– А кто вам мешает навести у себя порядок? Меньше
по курилкам шатайтесь! – отвечали девчата.
– Эх, нам бы такого бригадира, – вздыхал Павлин.
– Держи карман шире!..
Вскоре »участок бригады Наташи стал резко
выделяться в цехе. Свежей краской сверкали станки.
Девушки тщательно очищали их от стружек, протирали до
блеска и смазывали маслом. В зеленые новенькие
шкафчики аккуратно складывали инструменты, перед уходом
подметали пол.
– Санитария и гигиена! – разносился по цеху
хохоток Павлина. – Подметать пол и уборщица умеет... А
вы попробуйте дать двести два процента плана!
В последнем Павлин был прав. Из всей бригады
одна Наташа только-только давала норму, остальные не
достигали и восьмидесяти процентов.
– Ничего! – ободряла Наташа.—Москва не сразу
строилась.
Но ей самой было страшно. Ученический период
слишком затян»улся. Как назло, ни одна из ее девочек
не окончила ремесленного училища. Все они пришли на
завод со школьной скамьи. Работали револьверщицами
на самых простых «обдирочных» операциях.
«Неужели оскандалимся? – думала Наташа. – Вся
333
беда в том, что я сама еще слабый токарь. Другого вам
надо бригадира, девочки...»
Однажды Наташа сидела в красном уголке, читая
книгу. Было время обеда. Все потянулись на улицу.
Яша Зайцев давно ждал минуты, когда Наташа будет
одна. Всегда вокруг нее вьются подруги, а при них
начинать разговор было рискованно – засмеют.
И странное дело – на людях он смел и остроумен, а
сейчас, когда ему выпал случай встретиться с Наташей
с глазу на глаз, его охватила внезапная робость. Он
боялся, что острые, со смешинкой глаза Наташи
разглядят нечто большее, чем то, что он собирается ей
сказать.
– Фадеев? – спросил он, заглянув через плечо.
– Фадеев, – ответила Наташа.
– Наташа... – Яков почему-то взглянул на
стеклянную дверь, за которой, матово блестя, уходили в даль
цеха караваны станков. – Я говорил с ребятами... Хотим
вызвать на соцсоревнование...
– Кого?
– Твою бригаду.
Наташа вскинула голову.
– И ты с Павлином заодно? Смеешься!
– Кто же смеется, Наташа! Мои ребята от всей
души... помочь хотим. *
Она быстро взглянула на него и, молча удивившись,
задержала взгляд. В глазах Якова была чистая
прозрачная глубина.
– На буксир хотите взять?
– Что же делать... если буксуете.
•– Буксуем... правда! На одном месте топчемся.
Наташа с досадой махнула рукой.
– Не горюй, Наташа. Вы начали хорошо —
организованно, дружно... прямо глядеть было любо. А теперь
встала заминка. Оно и понятно: главные трудности
подошли. И вот... мы решили... чтобы каждый
передал свой опыт. Возьмем индивидуальное шефство.
Под темной плетенкой наташиных кос, обвитых
вокруг головы, ярко зарделись маленькие мочки ушей.
Закончив проектирование самолета, Николай
Петрович выехал в Москву. Всегда, когда Бакшанов работал
334
над новой конструкцией, он твердо верил, что скажет
новое слово в отечественной технике, и это питало
энергией, давало силы преодолевать все трудности на пути
к цели. Но как только в проекте ставилась последняя
точка, пропадал интерес к завершенному делу и уже
властно звали новые темы и думалось, что
следующая новая работа отразит все лучшее, на что он
способен.
Теперь было другое. Николай Петрович чувствовал,
что созданный, наконец, проект истребителя – большая
и, может быть, самая большая удача за всю жизнь. Это
ощущение не проходило ни в поезде, ни в кабинете
министра, где присутствовали известные всей стране
авиационные конструктор ьв.
Ожидания не обманули его. Проект Бакшанова был
признан заслуживающим серьезного внимания, и через
два дня министр вручил Николаю Петровичу приказ об
организации особого констр»укторского бюро и
назначении инженера Бакшанова его начальникам. Предстояли
немалые заботы о подборе инженеров, конструкторов,
рабочих всех специальностей – от модельщиков до
токарей, организации снабжения.
– Проект – полдела, – сказал (министр. —
Случается, что проект хорош, а построенная машина при
испытании дает посредственные результаты. Беритесь горячо
за дело, Николай Петрович, не остывайте!
«Да! – думал Николай Петрович. – Самое
опасное сейчас – остыть. Тогда пропадет все, что так удачно
найдено в проекте...»
– Я думаю, – продолжал министр, – вас надо
освободить от работы на заводе для того, чтобы вы целиком
отдались постройке опытной машины.
Николай -Петрович вспомнил, как трудно сейчас на
заводе: идет борьба за постройку первого самоходного
комбайна, на очереди серийный выпуск самоходов, а
очень многое, и особенно технология, еще не готово к
этому. Он парторг технических отделов, член партийного
комитета. «Уйти в такое время € завода—пусть для
большой и важной работы... нет!»
Он сказал об этом министру.
– А не трудно будет?
– Наши комсомольцы говорят: чем .трудней, тем
интересней.
– Что ж, развертывайтесь на базе завода.
Министр тепло попрощался с Бакшановым.
Николай Петрович все время откладывал беседу с
сыном. Он опасался, что упрямство Глеба может вызвать
вспышку гнева, и тогда Николай Петрович не мог
поручиться за благополучный исход предстоящего разговора;
Вскоре, однако, ему пришлось с сыном объясниться.
Узнав, что Николай Петрович подбирает токарей для
особого конструкторского бюро, Глеб вечером сказал
ему:
– Папа! Возьми меня в ОКБ.
Николай Петрович, прихлебывая чай, опросил:
– Завод надоел?
– У тебя, я предвижу, работа будет интересней.
Новые детали, есть над чем поломать голову.
– Ты даже с отцом и матерью не откровенен, —
сказал Николай Петрович, отодвигая чашку и чувствуя,
как кровь прилила к лицу. Анна Сергеевна встала и
вышла на кухню.
– А я скажу тебе прямо, что мьи о тебе думаем с
матерью. – Николай Петрович резко поднялся и
отшвырнул ногой стул. – Я давно слежу за твоими
повадками на работе. Повадками рвача, мелкого себялюбца!
И если я не вмешивался до сих пор, то только потому,
что надеялся на воздействие коллектива цеха! Теперь я
вижу, что твоя болезнь зашла слишком далеко!
– Папа... – подернул плечами Глеб.
– Помолчи! – крикнул Николай Петрович. Потом,
остынув, продолжал:—Мне стыдно за тебя, Глеб.
Погляди на свой род. Прадед жив еще! По «гудку, каждое
утро он идет на завод. Дед на заводе, бабушка. Завод;
его люди и дело – это наша большая, кровная семья.
Здесь наш труд, наша слава, цель и содержание всей
жизни! И вот надо же было именно в нашей семье
появиться уроду!
Глеб опустил «голову, не смея больше взглянуть
отцу в глаза. «Все меня осуждают... все...» Жарко пылало
лицо, кровь стучала в висках.
– Ты урод, Глеб, – продолжал Николай Петрович/
не сводя с сына гневных укоризненных глаз.– Ты
потерял уважение коллектива, йотерял дружбу. А это само$
)386
страшное, Глеб! И ведь' тьг сам виноват. Ты сам
оттолкнул от себя товарищей, ни с кем не хотел делить*
своей славы. А она у тебя фальшивая! Славу не держат
в сундуке за семью замками и не прячут в чулок. Слава
не любит скупых, мелких, завистливых. Слава там, где-
коллектив, где дружба!
Николай Петрович увидел, как сгорбился Глеб, как
задрожали его губы, и ему стало неимоверно жаль
сьша.
И словно подавляя STiy жалость, Николай Петрович
упер в стол крепко сжатые кулаки, жестко
проговорил:
– Слушай, Глеб, и запомни: вернешь к себе
уважение коллектива, – стану снова и я уважать тебя. Не
сделаешь этого – я буду считать, что у меня сына нет...
Николай Петрович круто повернулся и вышел. Глеб,
слышал, как гулко хлопнула дверь в кабинете отца...
Наташа приглядывалась к контролеру отдела
технического контроля Сереже Позднякову. Это был тихий,,
застенчивый паранек, с розовым, свежим лицом и
большими серыми глазами, которыми о*н от смущения
поминутно косил в сторону.
Сережа целыми днями сидел в конторке,
примостившись где-нибудь у краешка стола, и неторопливо
каллиграфическим почерком писал отчеты. За два часа да
конца работьи он выходил в цех и принимал готовые
детали от токарей наташиной бригады».
Однажды в присутствии Павлина Точки – его теперь
назначили начальником бюро цехового контроля —
Наташа спросила у Позднякова:
– Объясни мне, Сережа, отчего у вас так заведено:
работаешь два часа, а отчеты пишешь без малого шесть
часов?
Сережа смутился и отчаянно закосил глазами. Точка
поспешил на выручку:
– Оттого, что не твое это дело, – грубо отрезал онг
уставившись на нее недружелюбным взглядом: Точка
видел в Наташе единственною причину своего коюфуза,,,
когда комсомольцы его «прокатили на вороных» на
перевыборном собрании.








