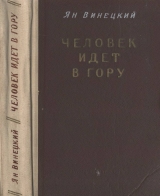
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
об этом. Аннушка не только напомнит, а и сама сходит в
кузницу, сама привезет.
Ока всех называла «родненькими», и»в тоне, с каким
она произносила это слово, не было ни слащавости, ни
наигранности.
Иной раз соберутся в курилке токари, задымят
длинными самокрутками. Аннушка пробежит по цеху, увидит,
что несколько станков пустуют и – в курилку.
– А я вам, родненькие, заготовочки-то давно
развезла,– скажет она с порога и замашет руками, отгоняя
от себя дым.
– Ты, Аннушка, будто мастер, посматриваешь за
нами, – незлобиво отзовутся ребята и без сожаления
побросают только что начатые самокрутки.
– А как же, родненькие. За кем же мне смотреть,
как не за вами!
Аннушка часто выполняла и личные поручения
рабочих – одному купит пачку папирос, другому по карточке
хлеб получит, третьему конверт принесет. И все это без
лести, а просто, из желания помочь «родненьким».
Однажды мастер Зыканов попросил Аннушку
принести ему пол-литра водки.
– Нет, родненький, не проси,– отрезала Аннушка.—
Водка – подходящая жидкость для праздников, а в
рабочее время нельзя.
Казалось, ко всем одинаково ласково относилась
Аннушка, но все-таки был и у нее любимец – токаренок
Сабирка.
С работой у него .поначалу не клеилось. Кто-то
бездушно посмеялся над ним, и он, настороженно-злой,
обиженный, стоял в самом углу цеха, едва видимый за
большим револьверным станком.
Ершистый, с колючими, черными, чуть раскосыми
глазами, он ни с кем не делился своими мыслями и тревогами.
203
Зыканову, человеку нечуткому и к тому же очень заня-
TOiM.y, было недосуг разобраться с Сабиркой.
Аннушка как-то раз долго раскладывала пирамидой у
его станка стальные втулки.
– Чудная ты, Аннушка,– сказал Сабирка,
усмехнувшись.
– Это почему же? – спросила • она, вглядываясь в
него спокойными и ласково-внимательными глазами.
– Свалила бы втулки – и все. А ты раскладываешь,
как банки со сгущенным молоком в магазине.
– Сваливать нельзя, родненький. Я привыкла все
делать красиво. ..
– А я не привык,– вздохнул Сабирка.
Аннушка выпрямилась, мягко тронула Сабирку за
плечо.
– Послушай, родненький. Беда моя – не понимаю
я в вашем деле, да зато жизнь мне виднее, сердце
человеческое близко. Не ладится у тебя, вижу я... Тяжело это,
когда не ладится, знаю. Так ты, послушай-ка,
родненький,, собери все, что есть в тебе хорошего, сильного да и
объяви сам себе приказ: не отступать! Научиться
токарному делу не хуже других! И день за днем, час за часом
выполняй святой приказ этот. Приглядывайся, как
другие токари работают, спрашивай. А ежели побранит
тебя кто, – не обижайся.
Сабирка давно отвел резец от втулки и жадно, как
материнское слово, слушал добрый голос Аннушки.
– По правде тебе сказать, родненький... Только ты
покуда никому не говори... сама приглядываюсь я к
токарному ремеслу, денно и нощно мечтаю к станку стать.
– Правда, Аннушка? – повернулся к ней Сабирка.
Смуглое лицо его радостно просветлело.
– Правда, родненький. Давай учись, а там, глядишь,
и меня научишь.
– Научу, Аннушка! Честное комсомольское! – горячо
тряхнув кудлатой головой, проговорил Сабирка.
– Ты что же, уже комсомолец?
– Н-нет,– смутился Сабирка.– Пока еще нет. Это
привычка у меня такая.
– Что же, добрая привычка! – сказала Аннушка и,
взяв за рукоятки тачку, быстро покатила ее к кладовой.
Сабирка не знал, что у Анны от волнения защипало
в глазах, и она проглотила горячую слезу...
204
С тех пор Аннушка, пройдя мимо, то конфету сунет
в карман спецовки Сабирки, то пряник.
– Зачем же, Аннушка? – спросит Сабирка смущенно.
– Ешь, родненький. Мои зубы уже не берут.
В конце зимы Аннушка получила похоронное
извещение, «...военврач третьего ранга Анна Сергеевна Бак-
шанова погибла за свободу и независимость советской
Родины».
О, какой это был черный день! Придя с работы и
увидав в почтовом ящике конверт с незнакомым почерком,
Аннушка долго стояла, боясь пошевельнуться. В сердце
ударило страшное предчувствие. Непослушными,
одеревеневшими пальцами она вскрыла конверт...
Всю ночь душили ее сдавленные рыдания. И казалось
ей, не выдержит, изойдет болью и кровью сердце. Всю
ночь утешали ее, как могли, Николай Петрович, Сергей
Архипович и Тоня.
Утром она поднялась и страшная, с опухшими
глазами и перекошенным горем лицом, шатаясь от
слабости, пошла на завод. Зьжанов, увидав ее, застыл в немом
испуге.
– Поставьте... к станку,– только и сумела она
выдавить.
Прибежал Сабирка. Он видал, как шла она, шатаясь,
по цеху.
Она обхватила обеими руками его голову и зарылась
лицом в черной шапке его волос...
Три недели Аннушка и Сабирка вдвоем стояли за
станком – молчаливые, строго сосредоточенные, словно в
почетном карауле. Аннушка сжимала рукоятку суппорта и
ей казалось, что она мстит врагу за дочь, за всех
обездоленных вдов и матерей, мстит и будет мстить трудом,
светлым и свободным, как светла и свободна сама правда,
которой живет она и ее товарищи.
Так Аннушка стала токарем. Училась у всех и каждый
старался показать ей все, что знал. Но с самой большой
нежностью отзывалась она о Сабирке.
– Это мой наипервый учитель, – говорила она, а он
краснел и опускал голову.
* Потом, когда сняли Зыканова – человека,
«перегруженного пережитками капитализма», как характеризовали
его на профсоюзном собрании, мастером цеха назначили
Аннушку.
2С5
Показалось ей тогда, будто взошла она на высокую,
крутую-крутую гору, и сильный ветер, злой и
непримиримый, норовит ее сбросить вниз, в ущелье. Страшно ей
стало. Не за себя страшно, а за то, что подведет она людей,
не оправдает их надежд.
– Высоко вознесли, Иван Григорьевич, – сказала она
Добрывечеру, – непривычно.
– Привыкайте.
– Боязно, Иван Григорьевич. Взяли сороку и
поместили в орлиное гнездо. Ну какая из сороки орлица?
Добрывечер только посмеивался над ее страхами.
Величать ее стали Анной Спиридоновной, за глаза, правда,
подрежнему ввали Аннушкой; в конторе цеха лучший
стол дали ей: с рогатым медным оленем на чернильном
приборе, что ни день—вызывали на совещания, и
завертелась Аннушка, как белка в колесе, чуя сердцем, что
упускает она в своей работе самое важное, а что
именно – не знала.
Спросить у молодых стеснялась. «Это ведь не то, как
там, мол, резец заточить либо какой станку режим
держать. Тут режим строгий —• руководство. Вот и вожу
рукой, а что толку-то?»—думала она с затаенной,
мучительной заботою.
Сабирка вырос, вытянулся, как молодой дубок. Ему
поручали уже сложные токарные работы и звали кто Са-
биром, кто товарищем Ахметовым.
В цех пришло много новой молодежи. Народ
грамотный, шумный, веселый. Иные послушные,
степенно-внимательные, а иные своевольные, запальчивые.
Трудно с ними совладать Аннушке, маятно.
– Аннушка... Анна Спиридоновна,– окликнул ее
как-то Сабир. Черные глаза его смотрели с жалостливым
участием. – Похудела ты больно.
– Похудеешь, родненький, – вздохнула она,
заправляя обеими руками вожЛы под косынку. – Двадцатое
число подходит, а у нас еще только тридцать два процента
плана дадено. А Добрывечер наш, сам знаешь, добрый
только до двадцатого, а после – злее мачехи!
– Одна не повезешь, Анна Спиридоновна,
надорвешься,
– Вот именно, родненький.
– Я слышал, как Петр Ипатьевич и инженер
Луговая, дочка твоя, разговаривали с Добрывечероод: «Мы,
206
говорят, как коммунисты, требуем от тебя перестроить
работу». Строго разговаривали.
«Как коммунисты, требуем... – мысленно повторила
Аннушка. – Вот с кем надо мне посоветоваться!»
– Спасибо, родненький! – сказала она Сабиру,
блеснув улыбкой, и быстро понеслась по цеху. Полы
расстегнутого синего халата развевались, как крылья. Сабир
пожал плечами:
«Чудная все-таки Аннушка. Ни с того, ни с сего —
спасибо и побежала, будто ей не сорок девять лет, а
шестнадцать!»
Г л а в а десятая
Иван упивался счастьем молодой любви. Ему верилось,
что наступил праздник – нескончаемый и прекрасный.
На работе, в своем ли цехе либо на совещании у
главного инженера, тихой музыкой звучали в душе
Ивана отголоски простых, может быть, самых
незначительных слов Лизы. Но как весело сверкали его глаза, какой
радостью дышало его добродушное широкое лицо! И он
брал на себя такие большие, такие трудные
обязательства, что у остальных начальников цехов захватывало дух
от его смелости. •
– Обещания грузить поначалу легко, да потом они
оборачиваются тяжелыми камнями, – шептал ему кто-
нибудь из них.
– Ничего, – отшучивался Иван, – у меня спина
широкая. Не веришь, цепляйся и тебя вместе с твоим цехом
увезу.
И снова виделись ему глубокие и чистые глаза Лизы...
Иван перебирал в уме каждого своего рабочего и
находил в них новые возможности для повышения
производительности труда. Он учил людей изготавливать новые
приспособления, глубоко продумывать рабочие процессы.
– Ты плохой токарь, – говорил он какому-нибудь
востроглазому пареньку, – дятел! Носом работаешь, а не
головой.
– Как? – удивлялся токарь. – Я даю норму
аккуратно.
– Даешь норму. А нам нужно, чтобы ты две нормы
выполнял.
– Не выжать, Иван Григорьевич.
207
– Вот я и говорю – дятел! А ты научись вносить
{рационализацию. Ищи скрытый капитал. Внимательно
(Присмотрись к своему хозяйству, не думай, что оно
маленькое.
Добрывечер «брал шефство» над этим токарем: давал
ему техническую литературу, наблюдал его работу,
указывал недостатки.
Паренек обретал смелость, работал увереннее и
правда не на много, но повышал выработку.
– Пять процентов сверх нормы! – восклицал
Добрывечер. – Ого!
– Да ну, Иван Григорьевич... Смеетесь вы! —
смущенно бормотал паренек.
– Нисколько не смеюсь! Помножь эти пять процентов
на весь цех, на весь завод – сколько получится? Это,
брат, большое дело. Поздравляю! Теперь ты уже,
извиняюсь, не дятел.
Добрывечер искал нового «подшефного». Так находил
он скрытый капитал, и в этом был один из главных
секретов первенства второго цеха.
Домой он приходил неизменно веселый. Усталость
как рукой снимало. Лиза встречала его мягкой улыбкой.
Он целовал ее в губы, потом они долго сидели обнявшись,
прислушиваясь, как вьюжили чувства.
Если бы у него художник спросил, как рисовать
счастье, он не задумываясь ответил бы: рисуйте Лизу.
Однажды, строго глянув ему в глаза, Лиза сказала:
– Не кажется ли тебе, Иван, что наша медовая пора
затянулась? Соловьи и те поют какой-нибудь месяц, а
потом умолкают.
– Разве молчание лучше песен? – спросил он,
улыбаясь, но сердце его тревожно екнуло.
– Песни хороши тем, что они коротки. Ты забыл, что
я все еще студентка.
Лиза была права. Он оторвал ее от учебы, не сдержал
своего слова помочь ей стать инженером. Но смутный
страх просачивался в его душу.
Он боялся потерять любовь Лизы. Как человек,
неожиданно обретший огромное богатство и чувствуя, что оно
им незаслужено, он опасался так же неожиданно лишить-'
ся его.
– А может погодим годок-другой, – осторожно
вставил Иван, пробуя ее решимость.
208
– Пока будем годить, – успеем детей народить. А там
уж не до института.
Пришлось, скрепя сердце, уступить настойчивому
требованию жены. Она стала заниматься на втором курсе
вечернего отделения авиационного института и поступила
на завод технологом во второй механический цех.
Соловьиная пора миновала. По вечерам Лиза поздно
задерживалась на семинарах, занятиях студенческого
научного общества, комсомольских собраниях.
Дома не было прежнего уюта, радиоприемник поседел
от пыли. Приходя с работы, Иван заставал на столе
приколотую к скатерти записку: «Картошка на балконе,
масло в шкафу. Погрей и съешь. Если мало – вскипяти
чаю. Л.»
Иван, не раздеваясь, валился на кровать, положив-
ноги на стул. «Картошка на балконе, Лиза в институте», —
молча иронизировал он, вздыхая. Нет, не картошки
нехватало ему, а самой Лизы, ясного света ее глаз, теплоты
улыбки.
«Эгоист! – ругал он себя, – ты думаешь только о себе.
А ей ведь тоже надо учиться». К сердцу подбирался
ледяной холодок ревности.
«Ох, Лиза, нелегко любить тебя... нелегко!»
Иван лежал с открытыми глазами. Поздно ночью,
заслышав звук отворяемой двери, он облегченно вздыхал^
Не ночь, а солнечное утро сверкало уже во всем мире!
На очередной «диспетчерке» к Добрьввечеру подсел
Сладковокий.
– Вы что-то похудели, Иван Григорьевич, – сказал
он, приветливо улыбаясь, а зеленые глаза глядели цепко»
и холодно, будто прицеливались.
4– Старею, Виктор Васильевич,—пытался пошутить
Добрывечер, но осекся: он не был расположен к шуткам,
да и старая неприязнь к Сладковскому придавала их
разговору мрачную окраску.
Сладковский заговорил о росте брака в механическом
цехе и о том, что, по его мнению, Добрывечер не
представляет себе всей опасности, вытекающей из этого факта.'
– Брак вас может потащить ко дну, Иван
Григорьевич. Скорее снимите со своей шеи этот камень. И все
оттого, что безбожно нарушаете технологию.
ф-414 – 14 209
Потом снова, прицелившись взглядом, Сладковский
спросил:
* – Лиза, я слышал, опять занимается в институте?
– Да, – едва слышно ответил Добрывечер.
– Кстати, я недавно узнал, что Лиза – превосходный
конькобежец. Она завоевала первое место среди женской
команды города. Неожиданный талант, не правда ли?
Добрывечер не умел скрывать своего душевного
состояния. Нахмуренные брови его поднялись кверху, лицо
Еыразило удивление и растерянность.
«Лиза – победитель в городском соревновании? Не
знал. Почему она мне не сказала?»
А Сладковский продолжал меткий прицельный огонь:
– Говорят, у нее отличный тренер. Заслуженный
мастер спорта. И, представьте, совсем еще молодой
человек. Не знакомы?
Добрывечер встал.
– Куда вы, Иван Григорьевич?
– Я забыл на столе сводку, – солгал он. Ему нужно
было побыть на морозе. «Чтоб не перегрелись
подшипники», – мрачно шутил он сам над собой.
А зеленые, нагловатые глаза Сладковского провожали
его до порога.
Через неделю после этого мимолетного разговора со
Сладковским, Лиза попросила Ивана помочь ей
разобраться с центровкой самолета.
– Нам объясняли несколько способов центровки, но я
ни один из них не запомнила, – призналась она,
задумчиво кося глазами.
И эта легкая тень задумчивости, и едва улов-имый
вздох больно укололи Ивана.
– Ты, наверное, во время лекции с кем-то
разговаривала, – сказал он, давясь волнением. Стыд и гнев
дрожали в его лице.
Она зорко глянула на него, будто заметила нечто
такое^ чего не ожидала увидеть.
– Представь себе, да! – проговорила она упрямо и
чуть насмешливо сверкнув глазами. – Но что из этого
следует?
– Из этого следует, – он задохнулся и, чувствуя, что
ему не сдержать уже себя, не потушить обиды, продолжал
все более распаляясь: – Из этого следует, что ты пошла
в институт не учиться, а сверкать своей красивой мордоч-
210
кой, вместо лекций слушать вздохи влюбленных, щекотать
свое бабье самолюбие дешевым успехом!
Он с силой хлопнул дверью и выбежал на улицу с
непокрытой головой. Ветер растрепал его мягкие волосы,
холодным потоком лизнул шею через расстегнутый ворот
рубашки.
Иван постоял немного в нерешительности, потом
пошел на завод: он один мог помочь размыкать тоску.
Глава одиннадцатая
Воспоминание иногда опаляло душу жарким ветром,
и тогда Лиза становилась вдруг задумчивой, глухой ко
всему, кроме своей, казалось, уже отзвучавшей печали.
Она, Виктор и Степан были друзьями детства. Они жили
на одной улице, учились в одном классе и в стрехмительном
беге дней не замечали, как быстро тянулись вверх.
Однажды на уроке математики у учителя Ильи
Абрамовича, который был страшно близорук, Виктор срезал
болтавшиеся на шнурке очки. Никто не видел, когда он
это сделал.
Учитель обыкновенно поминутно их надевал и
сбрасывал.
– Ну-тес... – сказал учитель, проводя рукой по груди
.и, не нащупав очков, стал искать их на полу, под столом,
в карманах. Лицо его стало таким растерянным, а в
больших, совершенно вылинявших серых глазах была такая
{усталость и беспомощность, что Лизе стало его
нестерпимо жаль.
– Я, вероятно, потерял очки... в учительской. Пойду,
поищу... извините меня...
Илья Абрамович вышел, сутулясь и шаркая ногами.
Среди неловкой тишины раздался вдруг
самодовольный хохоток Виктора:
– Все, на кого Пифагоровы штаны наводили ужас, —
радуйтесь! Я спас вас от безусловного «неуда!»
В руках Виктора блестели очки Ильи Абрамовича.
В классе стало совсем тихо. Лиза, не дыша, испуганно
глядела на смеющееся лицо Виктора.
И вдруг, словно подхваченный ветром, к Виктору
подскочил Степан. На побелевшем лице гневно темнели глаза.
– Т-ты негодяй! – сказал он хрипло, и в классе,
как выстрел, грохнула пощечина.
14* 211
Вернувшись вскоре, Илья Абрамович увидал на столе
очки. Ън спокойно привязал их к шнурку и, водрузив на
нос, скользнул взглядом по ярко рдевшей правой щеке и
уху Виктора.
Лиза тогда впервые поняла, что они уже не дети. И
впервые Степа зажег в ней искру первой любви.
В их городе был чудесный парк, расположенный на
высокой горе над величавой спокойной рекой.
Лиза любила сидеть по вечерам над самым обрывом,
слушая, как внизу тихо рокочет и вздыхает река, как,
готовясь ко сну, нежно высвистывает в орешнике какая-то
птица.
Робкий поцелуй Степана обжигал ей губы, и Лизе
казалось, что на далеком серебряном лике месяца возникала
тонкая понимающая ухмылка.
За спиной, в парке играл духовой оркестр, летал
звонкий девичий смех и густые басовитые голоса парней.
Здесь, над крутым обрывом, было тихо, темно и
немного страшно. Далеко за рекой, подернутой белесым
туманом, темнел лес. Там еще страшней. Но со Степой она
пошла бы и туда. Вот так всю ночь и шла бы, шла
обнявшись и слушая его песни.
А пел Степан хорошо, ой как хорошо пел! Лиза
слушала песню и, прищурясь, жадно приглядывалась к этой
чудной ночи, будто пила ее, будто хотела вобрать в себя
всю ее красоту.
Почему от неоглядных этих просторов, от леса, тихо
дремлющего вдали, от раскинутых на том берегу стогов,
от этой широкой задумчивой реки так больно и сладостно
ширится грудь и сердце радуется чему-то такому, чего не
высказать никакими словами?
* А Степан поет, будто летит на могучих крыльях:
...Ах ты степь моя, степь широ-окая,
В той степи ночной песню пел ямщик...
Виктор мучительно любил Лизу. Любил давно. Еще
тогда, когда она была длинноногой (вероятно из-за
короткой юбочки) четырехклассницей с аккуратно
заплетенными косичками и такими ясными, лучистыми глазами, что
в них, как на солнце, можно было смотреть, только
прищурясь.
Он твердо решил жениться на Лизе. Воображение
рисовало его выдающимся инженером (все равно каким —
212
лишь бы выдающимся), приехавшим на своем автомобиле
к родителям вместе с красавицей Лизой.
Конечно, Виктор и виду не показывал, что Лиза его
сколько-нибудь интересует. Наоборот, встречая ее на
улице, притворялся чем-то очень занятым, правда, он всегда
при этом приосанивался. В школе Виктор говорил с ней
пренебрежительно-насмешливым тоном, больно дергал ее
за косички, либо прилаживал к ним бумажки с
изображением разных страшилищ. Лиза часто плакала из-за его
проделок, а он тихонечко, углами губ, посмеивался. Это
точно соответствовало девизу, вычитанному им из
купленного на базаре у какого-то прыщавого субъекта флирта
цветов. Орхидея: «Чем меньше женщину мы любим, тем
легче нравимся мы ей, и тем ее вернее губим средь
обольстительных сетей». (Виктора нимало изумило бы, когда б
ему сказали, что эти слова принадлежат Пушкину.) .
Мать Виктора, ординатор городской больницы,
самозабвенно влюбленная в своего «единственного
мальчика», до десятого класса пестовала его, как малое дитя.
– Ты слишком груб с ребенком, —• выговаривала она
мужу, темнолицему высокому мужчине, работавшему
капитаном речного парохода—трамвая «Ударник». – Он
видит от тебя не ласку, а одни попреки.
– С ним надо быть не только грубым, —отвечал отец
Виктора, и лицо его темнело еще больше, – с ним надо
быть лютым. Ты со своей телячьей нежностью превратила
его в самолюбивого барчонка. Погляди, сколько в нем
презрения к людям. Даже отца он называет
«вагоновожатым», «перевозчиком», вкладывая в это какой-то
унизительный смысл. Его надо бросить в котел трудностей,
житейских невзгод и выварить из него сахарин твоих
восторгов.
– Неправда! – вспыхивала она и прижимала к себе
Виктора, который по росту уже обогнал мать. – Наш
мальчик умнее других, поэтому он и видит людские
пороки.
– Сначала надо полюбить людей, а потом искать в
них пороки, – отвечал отец.
– Толстовщина! – бросал Виктор, отстраняясь от
настойчивых ласк матери.
– Видишь? Он уже научился подвешивать ярлычки.
У него уже все карманы набиты ими. Личинка
превратилась в куколку. Скоро из нее выпорхнет такая бабочка,
213
что ты ахнешь, – да поздно будет. И запомни, люди за
это не скажут нам доброго слова!
Кончалось тем, что отец уходил на работу злой,
вконец расстроенный, мать плакала, а Виктор, тайком
вытащив две трехрублевки из пачки денег, лежавшей иа
комоде, отправлялся смотреть футбольный матч либо заходил
в школьный химический кабинет. Здесь допоздна
возилась с кислотами, порошками, колбочками старая
учительница Надежда Васильевна. Виктор был здесь частым
гостем. Химия привлекала его своей таинственностью,
магической силой каких-нибудь нескольких капель
кислоты, выбывавших бурную реакцию в растворе. За этими
бурями в колбе мерещились грозные явления природы —
извержения вулканов, землетрясения, столкновения
планет.
^Впрочем, увлечение химией не мешало Виктору ис-
шльзовать одну странность учительницы. Надежда
Васильевна – маленькая сухонькая старушка страшно
много курила. Открыв пачку «Казбека», она прикуривала от
пламени– спиртовки и, затянувшись, клала папиросу где-
Й1будь на край стола среди хаоса колбочек и трубок.
Виктор слюной гасил папиросу и* клал ее в карман.
Надежда Васильевна доставала новую, опять повторялась
прежняя история.
Таким чертополохом рос Виктор.
Степана он ценил за смелость и твердость характера:
Степка с малых лет был вожаком ребят всей улицы. В
бесчисленных мальчишечьих баталиях росла слава о его
бесстрашии. Виктору было приятно иметь такого
знаменитого друга, ходить с ним по городу, не боясь
подвергнуться нападению представителей враждебного лагеря. Но с
годами привязанность его к Степану перерастала в тайную
неприязнь – пощечина за срезанные у учителя
математики очки засела в сердце острой занозой.
Он много раз приглашал в кино Степана и Лизу (так
никто не догадается о его любви к ней). В темноте зала
он чувствовал тепло лизиного плеча. Слегка кружилась
голова, и не на экране, а в воображении виделись ему
иные картины.
Позднее, уже в десятом классе, Виктор неожиданно
понял, что дружба Степана и Лизы зашла дальше, чем он
предполагал.
Но беспокойное чувство мучило его недолго. Он был
214
уверен, что на самом-то деле она любит его, Виктора, и,
встречаясь со Степаном, лишь скрывает свои истинные
чувства, дразня Виктора.
«Чем меньше женщину мы любим, тем легче...» —
вспоминал Виктор и самодовольно улыбался.
Так подошел последний май их школьной жизни.
Все трое решили поступить в Харьковский
авиационный институт.
Но не черемухой, не цветами усыпала их путь эта
навек памятная десятая весна. Раскаты войны ударили из
края в край. Тучи поднятой взрывами земли нависли над
городом, заслонив все, что было светлого и радостного у
людей.
Лиза вспомнила прощание со Степаном. Они пошли в
парк к любимой скамейке над обрывом. Душистая пена
акаций сбегала к реке. Синий лес из подернутой
полуденным маревом дали глядел сумрачно, будто и ему была
печальна разлука.
Степан и Лиза стояли молча. Слов не было. Крепко
сплелись пальцы их рук.
– Степочка..". – сказала она, превозмогая закипавшие
слезы, – мне не стыдно признаться... один ты у меня!..
Один на всем свете!
Она прижала свою голову к крутой груди Степана. Ей
запомнился частый и гулкий перестук его сердца. Он
заглушил казавшийся теперь далеким и глухим голос
Степана.
– Есть слово одно... простое такое, мужицкое... Но
емкости огромной! Если бы кто хотел перевести его на
другой язык, потребовались бы целые тома...
Лиза подняла голову. На темном, загорелом лице
Степана светились серые с лросинью глаза.
Он коротко вздохнул и твердо, как клятву, произнес:
– Выдюжим!
Лиза поняла Степана. Надо выдержать все испытания,
выстоять на любом, самом жестоком ветру.
– Выдюжим! – повторила она с той же клятвенной
силой.
Он улыбнулся и поцеловал ее в сухие горячие губы.
Громко треснула ветка акации. Лиза испуганно
обернулась и встретилась глазами с Виктором.
Он стоял сзади – бледный, с прилипшей колбу тонкой
прядью волос, с угрюмо-тревожным, бегающим взглядом^
215
– Витька! – громко, с неожиданной веселостью
крикнул Степан. – Иди сюда, погляди, какая благодать!
– Благодать, да нам не видать, – с досадой сказал
Виктор. – Сегодня ночью... отправляемся.
– Ой, так скоро! – тихо простонала Лиза и, будто
желая удержать, никуда не отпустить от себя, взяла обоих
за руки. – Помните, еще совсем недавно собирались мы
в институт?
– Институт наш корова языком слизала и другим
заказала! – мрачно отозвался Виктор.
– Стихами говоришь, – покосился Степан, – да
стихи у тебя какие-то невеселые....
– Виктор перебил меня, – продолжала Лиза. – Я
хотела сказать... Вот у нас была мечта, а теперь война
отнимает ее. Но нам ее нельзя отдавать. Мечту надо возить
с собой. Ну, как аккумулятор. Да, да, как аккумулятор!—
обрадовалась Лиза своей находке.– Чтоб она питала нас
энергией.
– Есть, – шутливо щелкнул каблуками Степан, —
взять мечту на вооружение! %
– ...и положить ее в вещевой мешок рядом с
консервами и .концентратом пшенной каши,– добавил
Виктор.
Все трое рассмеялись, но боль предстоящей разлуки
попрежнему давила грудь...
Той же ночью Степан и Виктор уехали на фронт.
Потом пошли дни, похожие на бредовые видения.
Воздух дрожал от взрывов бомб. Дым пожаров
окутывал улицы. Учреждения грузили архивы, рабочие
поднимали на платформы стайки.
Лиза с матерью эвакуировалась вместе с заводом, где
работал ее отец, умерший от воспаления легких пять лет
назад.
Помогая выгружать станки в новом городе, куда они
прибыли, Лиза с матерью, сами того не заметив,
включились в жизнь заводского коллектива. Их занесли в списки
на выдачу спецодежды и продуктовых карточек, посылали
расставлять оборудование, мыть окна в клубе,
приспособленном под общежитие. Две недели спустя они
«юридически оформили» свое поступление на завод. От Степана
писем не было.
Вскоре в тот же город эвакуировался Харьковский
.авиационный институт. «Мечта догнала меня, – подумала
216
Лиза, но поступить учиться не отважилась. Матери одной
прокормить семью было бы трудно.
Она поступила в институт через три года. Тогда-то она
и увидала на выпускном вечера Ивана. Но этому
предшествовала другая встреча...
В институтской читальне кто-то, подойдя сзади,
грубовато взял Лизу за плечо. Она, негодуя, вскинула голову
и вдруг, ошеломленная, вскрикнула:
– Виктор!
Схватив его руки и сжимая их с неожиданной силой,
топотом, страшась услышать недоброе, спросила:
– А... Степа?
Вспыхнувший взгляд Виктора мгновенно погас.
– Выйдем в коридор. Мы мешаем, – сказал он,
помолчав.
Он стал спиной к окну, чтобы лучше видеть лицо Лизы,
– Ну, говори!—сказала она, чувствуя, как
мелкомелко дрожат и подгибаются колени.
– Хороша! – протянул он, открыто любуясь ее
бледным красивым лицом. – И, между прочим, невнимательна
к своим друзьям. Не спросила, где я бывал, как -сюда
попал...
Она поняла, что допустила бестактность, но она не
умела лгать: ей нужно было в первую очередь узнать,,
что со Степаном. А Виктор говорил о себе. **
– Мне не повезло, – вздохнул он. – На третий день
боев меня тяжело ранило в обе ноги. Очнулся я в
медсанбате. Надо мною колдова'ли два врача в густо
окровавленных халатах. Панихидно выли мины. Потом я был в
бреду. Много дней и ночей. Тем временехМ меня перевезли в
эвакогоспиталь. Пришел в себя – кругом белым-бело^
тихо. Только слышно, муха где-то вызванивает по
стеклу – тонко и жалобно...
«Он остался прежним, – с досадой думала Лиза, —
все о себе, только о себе!»
– Я вспомнил о нашей общей мечте. Разведал, куда
переехал институт, и на костылях приковылял сюда.
– Давно? – спросила Лиза.
– В сорок первом.
– И как это мы не могли встретиться? – удивилась
Лиза.
217
– Ничего удивительного. Я мало бываю на людях.
Божусь больше с книгами.
То ли Лиза была обозлена на Виктора за то, что он
томил душу и ничего не говорил о Степане, то ли годы
войны научили ее разбираться в людях, но она заметила
в характере Виктора новые черты. Вместе с прежней
самовлюбленностью в нем было теперь какое-то смятение
и какая-то странная настороженность. Он избегал
смотреть прямо в глаза, но иногда взглядывал коротким,
наглым, как вызов, прищуром.
– Теперь, я надеюсь, ты расскажешь о Степане, —
сказала Лиза, стараясь быть как можно спокойнее.
– Степан, – Виктор опустил голову и говорил, не
поднимая ее. – Мне трудно об этом вспоминать... Мы
занимали рубеж на подступах к Бобруйску... Нас атаковали
танки и позади них шли эсэсовцы с музыкой, в полный
рост... как в «Чапаеве» капеллевцы, помнишь? Когда
танки, обдав нас огнем и землей, перевалили через наши
окопчики, командир поднял нас в контратаку... Я бежал рядом
со Степаном... До эсэсовцев оставалось метров двести, ,де
более.,. Гляжу, Степан выронил винтовку и упал... Потом
мы схватились с фашистами в рукопашную...
– Может, Степана... только ранило... и его...
подобрали санитары? – На помертвевшем лице Лизы
дрожали губы.
– Нет... Мы отбили атаку и в тот вечер хоронили
убитых... Степан... был среди них...
Она постояла минуту с погасшим опустелым взглядом.
Потом резко повернулась и пошла быстро-быстро, боясь,
что ноги не дойесут ее до подушки, которая одна только
может заглушить рыдания.
Мучительно тяжко переживала она потерю Степана.
Как радуга пронизывает толщу неба, так и образ Степана
пронизывал все, что окружало Лизу.
Но время – лекарь. Боль становилась глуше,
воспоминания тускней.
Виктор старался отвлечь Лизу от горьких дум. Он
зарастил к ней домой, рассказывал смешные истории из
институтской жизни, приглашал в кино.
Лиза испытывала двойственное чувство к Виктору. С
–одной стороны, признательность. Он был другом Степана,
вместе сражались они за свободу Родины. С другой,
Виктор вызывал в ней неприязнь своим затаенным
218*
презрением к людям, своим самолюбованием, точно он
всю жизнь неотрывно глядится в зеркало.
«Может быть это оттого, что я с детства знаю его
недостатки?» – думала Лиза.
1Как-то проводив Лизу до общежития, он признался,
что любит ее. Любит давно. Со школьной скамьи.
– Я не говорил тебе потому, что боялся разменять
свое чувство на стертые медяки слов.
– А ты найди хорошие, свежие слова,– усмехнулась
в темноте Лиза.
– Таких в природе не существует. Все слова пусты.
– Неправда. Ты выдаешь свою нищету за нищету








