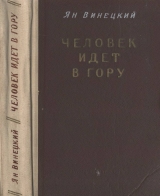
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
– Ну, это уж совсем не в стиле американской
деловитости, – усмехнулся Николай Петрович.
Над пролетом проплыл мотор. Крановщик высунулся
из своей кабины, с интересом разглядывая Бакшанова.
– Раскинемте карты будущего, мистер Бакшанов.
Говорят, вы хотите догнать Америку?
– Да, мы догоняем Америку... разумеется, в смысле
повышения технического уровня.
Брэдли отозвался коротким хохотком, будто его
щекотали.
– .Догоняете... ха-ха... Простите, я сегодня в хорошем'
настроении.... ха-ха...
Он вдруг стал серьезным. Бакшанов уже привык к'
этим его неожиданным переходам.
– Хотите, мистер Бакшанов, я скажу вам откровенно?
Только не обижайтесь... Вы, русские, большие фантазеры, i
Вот вы покупаете у нас эту машину – последнее слово;
423
американской техники. И что же? Привезете ее домой и
попробуете сделать такую же игрушку сами, а? Пока вы
будете пробовать, мистер Бакшанов, Америка уйдет
вперед еще на десять лет!
Бакшанова возмутил самоуверенный тон Брэдли, но
он сдержался и, сузив глаза, ответил:
– У нас есть поговорка: цыплят по осени считают.
– Америку догнать невозможно! Кто догонит нас?
Беззубая старуха Англия, буйно помешанная Германия
или эта молодящаяся старая дева Франция?
– Революционная Франция дала миру воздушный
шар.
– Это было давно. В том-то и дело, что эти народы
одряхлели.
– А другие народы еще отроки, хотите вы сказать?
– Вы угадали. Зрелости из молодых народов
достигла одна Америка.
– Ну, а старость... станет когда-нибудь уделом
Америки тоже? Как же увязать это с вашими словами, что
Америку догнать невозможно? Не то, мистер Брэдли, не
го! В ваших словах очень мно-го пренебрежения к другим
народам. Американский народ – умный народ, и я не
поверю, чтобы он разделял ваше мнение...
«Самовлюбленный жирный индюк!» – с ненавистью
подумал Бакшанов и приступил к осмотру машины, давая
понять, что не намерен продолжать разговор.
Брэдли все время вертелся возле самолета. В ту самую
минуту, когда его отозвал зачем-то начальник сборочного
цеха, какой-то пожилой рабочий молча сунул что-то Бак-
шанову в карман и быстро отошел прочь.
Николай Петрович не показал виду, что он все это
заметил. Вечером в гостинице он прочитал записку:
«Русский товарищ! ' Брэдли и компания собираются
совершить гнусное дело. Когда самолет пройдет
испытания в воздухе, они подрежут консольные части
лонжеронов и снова заклеят крылья. Им нужно, чтобы там, з
России, машина рассыпалась в воздухе по вине пилота и
вы не могли ничего использовать из наших технических
новшеств. Так они в субботу угробили летчика Кирби.
Брэдли нужно было подковырнуть конструктора Смита,
своего конкурента. Привет русским рабочим!
Американские рабочие».
После испытания машины, когда уже только остава-
424
лось ее разобрать и подготовить к погрузке на пароход,
Бакшанов потребовал вскрыть консоли крыльев. Брэдли
побледнел, но быстро пришел в себя:
– Что это вы? Не доверяете нашей фирме?
– Обычная подозрительность покупателя, —
отозвался Бакшанов. Лонжероны действительно оказались
подрезанными и держались на одной верхней полке.
Негодование душило Николая Петровича. Он только показал-
Брэдли рукой на лонжерон.
– О, какие негодяи! – с неподдельным огорчением
произнес Брэдли. – Это кто-нибудь из рабочих...
– Негодяи! Но только не из рабочих, – ответил
Бакшанов, пристально глянув в бегающие глаза Брэдли.
Он сел в машину и, не прощаясь, уехал. Вечером в
гостиницу явился Брэдли.
– Мистер Бакшанов! То, что произошло, мы
расцениваем как неудачу... как несчастье... для нашей фирмы это
может иметь, вы сами понимаете, неприятные последствия.
Мы просим'не предавать этот случай огласке... – Он
вынул из бокового кармана пиджака толстый пакет. – Здесь
триста тысяч долларов... Это для вас, мистер Бакшанов.
В душе Николая Петровича поднялась ненависть.
Хотелось ударить по этой жирной, нагло ухмыляющейся
морде. Но он сдержался.
– Вы слыхали о русском ученом Тимирязеве? —
спросил он хриплым голосом. – Из-за границы ему
предлагали виллу в Италии, собственные лаборатории, богатое
содержание. Он предпочел все эти блага осьмушке
черного хлеба своей Родины.
– Вы поэт, мистер Бакшанов.
– Я русский, советский человек. А у советских людей
Родина – не просто географическое понятие!
– Чепуха, мистер Бакшанов! По-моему, родина – та
же жевательная резина: мы держим ее во рту, пока не
выдохся приятный запах и вкус. – Он небрежно бросил
пакет на стол.
– Мистер Брэдли! – сказал Бакшанов, вставая. —
Когда приходят к кому-нибудь в дом, вытирают -ноги.
– Я вас не понимаю...
– Уберите эту грязь! – закричал Бакшанов, указывая
на пакет с деньгами. – И не смейте, слышите, никогда
не смейте больше разговаривать со мной! Я не хочу вас
видеть,
425
Брэдли молча взял пакет и злобно, по-волчьи сверкнув
глазами вышел из комнаты...
Покупать в Америке машины Николай Петрович отка-
"зался и с первым пароходом выехал на родину.
Обо всем этом и рассказал Николай Петрович Огневу.
– И знаете, когда я вспоминаю о моей командировке
в Америку» перед глазами стоит наглая рожа Брэдли и та
гневная и честная записка американских рабочих.
– Две Америки! – отозвался Огнев. – Ну, спасибо!
Теперь мне все ясно.
Глава десятая
Двадцать долгих лет бродил Егор Кузьмич по России
бездомным одичалым псом, приглядываясь, где бы
укусить, да так, чтобы, во-время юркнув в подворотню, уйти
от погони.
Когда последний министр самарского белого
правительства адвокат Иванов был арестован и вскоре
расстрелян, Егор Кузьмич, пребывавший в должности
уполномоченного правительства по снабжению, сбрил бороду и
начал новое, бесшумное, как тень, существование.
Поначалу шатался он по лесным дебрям, ютился в
затянутых густой тишиной, словно тиной, монашеских
скитах.
Потом, осмелев, выкрал у одного заезжего
кооператора паспорт и с тех пор ходил под фамилией Ксенофонтова;
Где только не мыкал беду Егор Кузьмич! И на Алтае,
и в Беломорье, и на Амуре. Только Волги сторонился:
немало здесь знавало его когда-то людей.
Служил в кооперации, пакостил потихоньку: где
недобрый слушок пустит, где в сахар керосину плеснет.
Принюхался как-то Егор Кузьмич к одному
раскулаченному мужичку, почуял в нем сродственника по духу.
По наущению Егора Кузьмича, пустил раскулаченный
красного петуха на колхозную конюшню в селе Заречье,
погубил пожаром полдюжины коней, а сам сбежал,
растаял, как дым в небесной дали...
Колхоз вскоре отстроил новую конеферму, из района
получил ссуду на покупку коней, а Егор Кузьмич
втайне грыз ногти: «Сколько ни топчи осот, он все вверх
прет!»,
426
Увидит Егор Кузьмич, как везут колхозники красным
обозом хлеб, – душа загорится злобой, будто ее кто
кипятком ошпарит.
«Все вы у меня отобрали, товаришочки, – и землю, и
лошадок, и избу, красками расписанную, ровно девка
морозом; все отобрали, окромя злости.
А злость у меня на вас велика, ой велика! Душу
распирает!»
Но годы шли. Егор Кузьмич все больше стал
сознавать, что тайные укусы его мелки и мало чувствительны.
Годы шли, а злость не проходила, наоборот, все больше
крепчала, бродила в нем, пенилась, обжигая все внутри.
«Так и подохнешь, Егорка, шелудивым псом. Не сумел
ты постоять за свое добро, не сумел! А нынче что ж...
нынче твой костер потух».
Вместе с горечью от сознания своего бессилия, не
умирала в нем надежда укусить так, чтобы след зубов горел
радугой.
И часто-часто пялил он свои слезящиеся от старости
и ненависти глаза в газету... не потянет ли дымком с
запада.
Чуткие ноздри Егора Кузьмича улавливали запах гари.
Сильней билось сердце. Росла надежда.
И когда забагрили небо пожары от немецких бомб и
стоны людей огласили ночи, светло стало на душе Егора
Кузьмича, весельем вспыхнули его слезящиеся глаза.
Радость его была столь велика, она так зловеще
освещала его старое, морщинистое лицо, что каждый, с кем
ни заговаривал он, порывался его ударить.
Ждал: на подмогу немцам поднимутся тысячи таких,
как он, обиженных советской властью, жестокими
восстаниями взорвут Россию изнутри.
И пойдет разгуливать вприпляску по всей земле
великий раззор. И скажет Егор Кузьмич так, что облакам
в далеком небе и тем слышно станет:
«Пригубьте чашу сию, товаришочки; есть в ней и
моя слеза». Но сгинули, видать, его единомышленники,
либо боялись голову поднять: народ раздавил бы их, как
червяков.
И тогда Егор Кузьмич понял, что надо идти туда, где
немцы. Там можно дать выход своей ненависти...
«Ну держитесь, товаришочки! Дорого вам станет мое
добро, ой, дорого!..»
427
Гитлеровский генерал фон Вейс встретил Егора
Кузьмича с шумной приветливостью:
– Злой на большевиков? О, нам такие люди
ошен нужны. Чем больше злой, тем лючше. Будешь
старостой.
Ох, и полютовал Егор Кузьмич, залил людской кровью
и слезами одинокую тоску свою!
Услыхал он однажды от фон Вейса, что в лесах
кружит красная дивизия полковника Чардынцева.
«Это который Чардынцев-то? Степан либо
сын-волчишка? Не дай господь встретиться!» – холодея, думал
Егор Кузьмич и крестился в суеверном страхе.
Два года пронеслись быстрыми чайками. Не успел
Егор Кузьмич приобвыкнуть к своему дворянству, как
гитлеровцы покатились на Запад, бросая все на своем
пути.
«Счастье вора коротко!» – вспомнились ему
предсмертные слова доктора, застреленного Вейсом, и
муторно стало на душе Егора Кузьмича.
– Возьмите с собой, погибель мне здесь будет
верная, – просил он Вейса.
– Нет. Оставайся. Мы тебе еще найдем работу...
И верно, работу ему нашли. Как-то, спустя два года
после окончания войны, к Егору Кузьмичу, торговавшему
на базаре в одном из сибирских городов всяким барахлом,
подошел пожилой мужчина в длиннополой романовской
шубе и черной шапке-ушанке.
Егор Кузьмич приметил, что мужчина долго выбирал
зеркальца и держал их так, что в них все время маячило
его, Егора Кузьмича, лицо.
«Разглядывает меня...» – подумал он со страхом.
– Кузьмич? – негромко спросил мужчина, не
отрывая взгляда от зеркала.
– Чевой-то? – приложив к уху руку, сказал Егор
Кузьмич, притворяясь глухим.
Тогда мужчина жестко усмехнулся в седые усы и еще
тише спросил:
– Неужто не признаешь?
Брови Егора Кузьмича вздрогнули помимо его воли»
Подернув плечами, он громко, нараспев сказал:
– Гражданин... ты... чевой-то... того... мудруешь.
Мужчина обернулся, к лотку приблизилась какая-то
девушка в коротенькой шубке и белом платке. Она оки-
428
нула рассеянным "взглядом разложенные "на лотке товары
и прошла дальше.
Мужчина поднял глаза, и Егор Кузьмич по темному,
с погребным холодком взгляду сразу признал того самого
кулачка, что пустил красного петуха на конеферму в
Уральском селе Заречье.
– Разные мы с тобой люди, Кузьмич... да одной
бечевкой накрепко связаны и далеко бечевка та тянется.
Егор Кузьмич молча слушал и стриг глазами па
сторонам.
– Придется тебе поехать...
Он назвал город.
«Жизнь человеческая напоминает маятник: взлет и
падение, и снова взлет и падение», – философствовал
Виктор Васильевич, собирая в чемодан вещи. Когда ему
бывало особенно тяжело, он обращался к неоднократно
проверенному средству – философии. Это была его
«собственная философия», как он любил говорить, она
успокаивала его, заставляла глядеть на мир и на свои
неудачи с позиции «наблюдателя, находящегося в безопа-
стности».
Три недели тому назад Мишин вызвал его к себе и
показал телеграмму начальника Главка:* «Приказом ми*
нистра Сладковский должности отстранен. Временно
исполняющим обязанности главного технолога назначен
Рубцов».
Виктор Васильевич повертел в руках телеграмму и,
вздохнув, бросил ее на стол. ' N
– Что ж, Рубцов возликует. Он теперь «персона
грандэ».
– Персона-то как раз вы! – резко сказал Мишин. —
А Рубцов – работник, и отличный работник, скажу я
вам!
Сладковский поправил очки и, скользнув взглядом по
сердито нахмуренному лицу Мишина, спросил:
– Может быть, Семен Павлович, вы скажете мне
какое-нибудь напутствие? —: улыбка ехидной змейкой
пробежала по губам. – Вы любите произносить
нравоучительные спичи...
– Да... скажу! – тяжело вздохнул Мишин, глядя на
Сладковского е нескрываемой ненавистью. – Я жалею,
429
что не удовлетворил тогда вашего заявления. Я жалею,
что целый год дал вам возможность сидеть в кресле
главного технолога и вместо хорошей технологии пичкать нас
всех вашими сладчайшими улыбками, чорт бы их
побрал!...
«С Лизой тоже неудачно получилось... – сожалел
Виктор Васильевич, укладывая в чемодан серый костюм.—
Она привязалась к Добрывечеру всерьез...» Он тихо
вскрикнул, до крови ободрав руку об острый выступ
одного из замков чемодана.
«Зато я получил теперь возможность вырваться из лап
мистера Хортвэта. К чорту Бакшанова с его реактивным
истребителем! Сладковский теперь обанкротившийся
технолог и в этом, учитыв-ая предстоящий отъезд подальше
от опасности, тоже– есть своя прелесть».
Странно, что Хортвэт еще не прислал к нему ни одного
«окольцованного голубя». Может быть, судьба избавит
его от подобной встречи. Тем лучше!
Не переставая торопить себя, он быстро оделся, запер
дверь комнаты и повесил ключ на гвоздь. Пусть отпирает,
кто хочет, он уже здесь не жилец.
На вокзале кто-то дотронулся пальцами до его спины,
и Виктор Васильевич услышал густой басок:
– До одной станции едем, товаришок?
Он оглянулся. Безбородый, с наглым и хитрым
прищуром старик натянуто улыбался беззубым ртом.
«Всякая мразь липнет!» – подумал он с горечью. Но
старик тихо залопотал.
– Вам со мной не будет скучно.
Сладковский вздрогнул. Эта была первая часть
пароля. Так вот он какой, «окольцованный»-то...
– Кто вы? – строго, но тихо спросил Виктор
Васильевич.
~~ Дворянин-помещик. Имел решето земли.
Сладковский вышел на перрон: там, в полутьме
безопасней было передать первое донесение.
Егор Кузьмич взял туго набитый конверт, положил
его за пазуху и вдруг в ужасе выкатил бесцветные, как
осеннее небо, глаза, задрожал всем телом: среди людской
толчеи, в двух шагах от него выросла фигура... Степана
Чардынцева.
430
Он забыл, что Степан Чардынцев не мог быть таким
молодым, что самое верное – нырнуть в толпу и меж
ногами мышью шмыгнуть в ночную темь. И лишь стоял с
трясущейся, отвислой нижней челюстью, с мокрым от
пота, будто выбеленным лицом.
Чардынцев надвигался на него как неумолимая судьба,
как грозное и справедливое возмездие...
Глава одиннадцатая
После ареста Сладковского и Егора Кузьмича, Степан
Огнев решил зайти к Лизе. Нелегко ему было переступить
порог ее дома! Все, что ярким светом озаряло его
отрочество и юность, что четыре года теплилось негасимым
огоньком в груди на ледяном ветру войны,– теперь
покрылось остылой золой.
Пока шел он к ней нетвердым шагом, будто ощупывая
ногами землю, страшная незабываемая ночь встала перед
ним...
...Степан и Виктор отходили последними. Их полк,
бывший в арьергарде дивизии, снялся еще в полночь.
От роты Степана осталось меньше взвода; солдаты
шли черные от копоти и грязи, усталые и мрачные.
Огонь бесчисленных пожаров люто бушевал над
городом. Ветер швырял в отходящих бойцов горячим пеплом
и не только лица, а и души обжигало укором: в городе
оставались женщины, старики и дети.
Гул самолетных моторов, тяжкое уханье взрывов,
орудийные выстрелы становились глуше, отдаленнее. Рота
по крутому обрыву спускалась к реке. Высоко подняв
автоматы, бойцы вошли в воду.
Зарево пожаров добела накалило небо. Было светло,
как днем. Бойцы плыли, тревожно ожидая выстрелов в
спину.
Но противник, видимо, не успел «наступить им на
пятки».
На другом берегу, за высоким лозняком, они
разделись, выжали воду из намокшей одежды.
Степан построил роту и обнаружил, что пяти человек
нехватало.
«Утонули?» – подумал он и спросил, озабоченно
сдвигая брови:
– Кто слышал крики о помощи?
431
– Не слышали... – отвечали бойцы.
•– А может, вам страхом уши заложило?
– Остались они по всей видимости, – строго заметил
высокий солдат, выстукивая зубами от холода. – Мы
вперед плыли, назад оглядываться было недосуг. Вот они и
воспользовались. Автоматы в кусты и айда каждый в
свою деревню.
– Ну, а дальше что? – горячо спросил коренастый
пожилой солдат, заглядывая на говорившего снизу вверх.
– Дальше доложит: «Так, де, и так. По случаю
потери части и совести, вышел в отставку... по собственному
приказу».
– Ну, нет, ему там такую отставку пропишут...
– Так ведь он кому доложит? Бабе своей, и только.
•– А баба, думаешь, его пирогами встретит? Чай, и у
нее душа имеется!..
Среди оставшихся был и Виктор. Стреляй по ним
гитлеровцы – Степан был бы убежден, что Виктор убит. Он
никогда не поверил бы, что его друг окажется 'подлецом.
Но теперь все доводы в защиту Виктора отпадали.
Степан повел роту дальше. Люди шли молча.
На рассвете где-то близко совсем хю-человечьи
заплакала какая-то птица. Лес глухо шумел...
...Вчера на допросе Сладковский рассказал Огневу о
той памятной ночи.
Виктор плыл позади всех. Река была широкой и
быстрой.
Виктора отнесло вниз и он судорожно боролся с
течением. За спиной остался берег, знакомый до последней
травинки. С каждым взмахом руки холод все больше
сковывал тело, проникал ъ душу.
Сильный ветер гнал высокие, недобро ворчавшие
волны, и Виктору казалось, что он различал слова:
«Куда ты? Поворачивай назад! Впереди тьма и холод.
А дома каждый куст – защита. Поворачивай!»
Он не замечал, что плыл все медленней, удаляясь от
товарищей, которые стали теперь едва различимы в
обагренной заревом ночи.
«Степан впереди! —кольнула острая мысль, но тут же
поднялось возражение: – Степан гордый. Не хочет
признать поражение. Он всегда был одержимый... зто с дет-
ства1 А я осторожный...– он глянул на взорванный
432
мост, что уткнулся в воду почернелыми, скрюченными
балками. – Так и армия наша – взорвана, разбита...
Фашист весь мир раздавил и нет от него спасения,
нет!..»
– Нет! – пробор1мотал он хрипло и круто повернул
обратно. Теперь он взмахивал руками решительно и
'"быстро.
Течением прибило его к крутому обрыву, илистому и
скользкому.
Виктор, дрожа от озноба, пытался выбраться на берег,
но срывался >и падал, больно ушибаясь о прибрежные
острые камни.
Он ухватился за крепкую лозину, но она вырвалась,
ударив его по лицу, скользкая и холодная.
– О, чорт! – выругался он в бессильной злобе на этот
крутой берег, не пускавший ею к родному дому...
– Степа-а! – простонала Лиза. Сердце зашлось от
радости и вместе от непоправимой беды.
Степан обнял ее и от острой, нестерпимой боли закрыл;
глаза. Ох, как он ждал этой встречи, сколько стылых но-*
чей согревала мечта о ней!
«Пусть мечта будет как аккумулятор»,– вспомнил он
слова Лизы, когда она с ним прощалась. Да, мечта была:
для него аккумулятором. И не рядом с концентратом;
пшенной каши, как пошутил тогда Виктор, а в сердце нес
Степан мечту.
Он искал Лизу всюду: писал в центральное эвакобюро,
, приезжал в город, где они родились, там никто не мог
ничего сказать ни о ней, ни о ее родных. Он знал, что Лиза
не может обмануть, и если о ней ничего не слышно, если
она не приехала в родной город, значит, ее нет в живых.
И все-таки упрямо мечталось о встрече, донимала
тоска...
Тяжка была исповедь Лизы. Задыхаясь и подавляя
рыдание, рассказала она, как узнала от Виктора о гибели
Степана, как преодолевала свое горе в труде, как
полюбила потом Добрывечера.
Иван отвернулся к окну, ссутулился, притих, будто в
Страхе остановился перед пропастью: «Степан... она
никогда мне не говорила о нем... И о Сладковском...»
– Пусть он заплатит и по нашему счету, – сказала
Лиза, подняв на Степана заплаканные глаза.
Ф-444 – 23 433
– Заплатит?
Есть ли такая пуля, что вместит в себе всю ярость и
боль, все горе Степана? Нет такой справедливой пули!
Он поглядел Лизе в глаза. Они были попрежнему
чистые, глубокие, только дрожала б них, закипая, горестная
слеза.
Он держал ее ладони – горячие, нервно
вздрагивающие и не было сил оторваться от них...
Заплакал ребенок. Иван шагнул к кроватке, бережно
взял его на руки – розового, горластого, отчаянно
рвавшегося из тесного плена пеленок.
На бронзовом от загара лбу Степана дрогнули брови.
– Что ж... желаю тебе счастья.
Он с трудом разжал пальцы, высвободил ее ладони
и решительно шагнул из комнаты.
Лиза вскинула руки, будто хотела позвать его, потом,
шатаясь, подошла к кровати и, упав лицом в подушку,
глухо зарыдала.
Глава двенад цатая
Чардынцев ясно видел: главным на новом этапе
работы завода было всемерное расширение передового
опыта технологов. Каждый день поступали станки,
краны, прессы.
– Запевка ваша! – говорил он технологам. —
Покажите, на что вы способны*!
Теперь, после заседания, перечитьивая решение
парткома, он мысленно оглядывал второй механический.
«Вытянули! – подумал он с удовлетворением. – Не хуже, а
кое в чем и лучше других работаем. И уже
принимаются решения об использовании нашего опыта».
, Алексей Степанович вспомнил, как, исправляя
ошибку Гусева, он перебросил во второй механический
восемнадцать коммунистов. Партийная организация
окрепла, приняла в свои ряды новых товарищей – Ваню
Никифорова, Аннушку, Сабира Ахметова, Ивана и Лизу
Добрывечер.
Чардынцев задумчиво улыбнулся: сегодня в столовой
Тоня рассказала ему, что получила сразу пять заявлений
с просьбой о приеме в кандидаты партии.
– Комсомолия?—догадался Чардынцев.
– Они! Яша Зайцев, бригада Стрелковых, Глеб и
434
Наташа. Комсомольская организация дает им
рекомендацию.
– Прекрасно! Люди, известные всему заводу.
Вероятно, тут поработала организующая воля парторга?
Тоня рассмеялась, собирая на носу морщинки, точь-в-
точь, как сестра Анна Сергеевна.
Как -много хотел Чардынцев сказать ей! Глаза Тони
облучали его таким солнцем, что он все время носил в
себе его хмельную неостывающую теплоту. Но всякий раз,
когда Чардьшцев решался на тот необычный, много раз*
повторенный про себя разговор, он неожиданно
сворачивал в сторону, заслоняясь шуткой и от своей
решимости, и от удивленного тониного взгляда.
«Отступаешь, Алексей! Здесь пострашнее, чем в
сорок первом на Волхове?
«Пострашнее... – отвечал он на свой же укор.—Она
молодая, красивая... А я старый, больной... Да тут и
язык не повернется!»
И все-таки... солнечно, тепло было в сердце. Он
работал еще упорнее, еще неутомимее, забыв о своей
болезни, которая напоминала все чаще то режущей болью
в легких, то головокружением и холодной росой пота
на лбу.
Тоня дни и ночи проводила в литейном цехе и в
лаборатории.
Чардьшцева тревожили затянувшиеся опыты с
плавкой чугуна и потемневшее, с ясно обозначенными, словно
нарисованными, скулами лицо Тони и ее беспокойные
глаза.
«Трудно ей...»—думал он все чаще и все тревожней,
и вместе с тем он не смог бы сказать почему, верил,
упрямо верил, что она непременно добьется успеха...
На завод несколько раз приезжал известный всей
стране академик, директор химико-технологического
института. Работа Тони и Суркова заинтересовала его и он
дал им немало полезных советов.
Чардынцев прослушал последние известия, и когда
кремлевские куранты мелодично отбили полночь, встал
из-за стола, собираясь идти домой.
Короткий телефонный звонок рванул тишину.
Чардынцев снял трубку. Голос Тони дрожал or
счастья. '
– Алексей... Степаныч! Двадцать девятая плавка..е
88* 435
Он недослушал и, забыв накинуть на плечи шинель,
ообежал в литейный цех.
Озаренные бушевавшим в печи расплавленным
металлом стояли Тоня, Сурков и (мастер Вася Витязев,
рослый подтянутый молодой человек, один из тех, кого в
годы войны на заводе звали «шплинтами».
Тоня первая увидела Чардынцева. Она ждала его с
нетерпением и той необыкновенной окрыляющей
радостью, что приходит после успешного окончания
большой и трудной работы.
Тоня шагнула к нему навстречу, а он, поймав ее руку,
пожимал с порывистой и ласковой силой.
– У вас крепкая рука и крепкое сердце, Антонина
Сергеевна! – сказал Чардынцев.
– Вот он, белый чугун! – показывая на изложеицы,
*с гордостью проговорил Витязев.
Тоня молчала и только глаза выдавали волнение.
– Спасибо вам, товарищи! – просто и сердечно
сказал Чардынцев. И обычно суровое, с порошей
седины на опущенных книзу усах лицо Суркова, и молодое,
широкое, с веселыми до озорства глазами и ямкой на
подбородке лицо Васи Витязева, и бледное, усталое
лицо Тони осветились одним, неизмеримо большим
счастьем.
– А директор и главный инженер знают? – спросил
Чардынцев.
– Нет еще. Не успели сообщить,—ответил Сурков.
– Позвоните немедленно. Порадуйте!
Сурков и Витязев пошли к телефону в конторку
цеха.
– Ну, вам надо отдыхать, Антонина Сергеевна.
Спать несколько суток подряд.
– Нет, – засмеялась Тоня. – Мне хочется сейчас
побродить по городу или, еще лучше, пойти к Волге,
послушать, как шумит ветер и плещут волны.
– Так сейчас глухая ночь!—удивился Чардынцев.
– Ну и что же? – Тоня поглядела на него не то с
недоумением, не то с ожиданием.
– Пойдемте! – решительно сказал Чардынцев.
– Постойте, а где ваша шинель? – спросила Тоня.
– В парткоме оставил. Мы по дороге зайдем.
Тоня глядела "круглыми испуганными глазами.
*– И вы пришли сюда без шинели? Вы... вы совсем
436
не думаете о себе! – выоалила она и застеснялась своей
строгости.
– Пустяки...– отозвался Чардынцев, но пыль
литейного цеха предательски заставила его закашляться.
– Нет, – быстро проговорила Тоня. – Василий
Павлович... Вася! – позвала она Витязева. – Пошлите кого-
нибудь за шинелью Алексея Степановича.
– Не надо! Зачем же...– запротестовал Чардынцев.
Была одна из тех редких ноябрьских ночей, когда
звезды, густо усеявшие небо, кажутся тихо падающим
снегом, и в холодном воздухе от вопля сонной птицы
либо от крика далекого паровозного гудка долго стоит
мелодичный хрустальный звон.
– Не боитесь? – спросил Чардынцев Тоню. – До
Волги добрых четыре километра.– С обеих сторон
уходили в темноту бескрайные луга.
– С вами не страшно,– пошутила Тоня.– Вы ведь
храбрый?
– Смотря по обстоятельствам, – ответил
Чардынцев. – С вами мне иногда бывает страшновато.
– Почему же?
– Я и сам не знаю. И хорошо, и... страшно. Так в
детстве я чувствовал себя на качелях. Душа поет, когда
летишь в самое небо, и вместе оторопь берет: а вдруг
оборвется веревка!'
– А вдруг оборвется веревка... – усмехнулась Тоня.
Они вышли на взгорье. Вдали искрилась золотая
строчка огней пристани... А справа, будто рассыпал
кто диковинные цветы, плыли зеленые и оранжевые
огоньки.
– Это идут караваны судов вниз, к Сталинграду, —
пояснил Чардынцев. – Последние, должно быть...
– Скоро Волга станет,– задумчиво проговорила
Тоня. – Закуют ее лютые морозы, засыпят ее злые
метели онегом.
Мне всегда в это время года жаль Волгу. Жаль ее
величавой красоты.
– Это только видимость, только внешнее – мертвая
недвижность Волги. Глубоко, под голубой толщей льда
' ока перекатывает свои волны, собирает тепло нижних
слоев земли. Взгляните зимой, как парит прорубь, и вы
почувствуете горячую, живую силу реки.—Чардынцев
437
помолчал, потом продолжал, не замечая сам, как крепко
сжимал он руку Тони. – Так иногда и с человеком
бывает. Внешне—лед, зима, пусто засыпанные снегом
цветы юности, а глубоко, очень глубоко – жаркая,
неутихающая волна, и беда, если кто-нибудь по
неосторожности растопит в нем прорубь...
– Почему беда?– спросила она, жадно вслушиваясь
в его голос.
– Запоздалая весна бывает бурной, – ответил он
и замолчал.
Лицо Тони пылало, будто она приблизила его к
огню. Она долго боролась с собой, потом спросила:
– Алексей Степанович... Простите мое
любопытство... Я знаю вас... теперешним... очень хорошо знаю!
Но... мне хотелось бы услышать о всей вашей жизни...
– Рассказать о своей жизни... Это не легко.
– Нет, расскажите, – уже настойчивей и спокойней
попросила Тоня.
– Детство и юность пронеслись, как плот по быстрой
порожистой реке: трудно, опасно, но зато много солнца
и свежего ветра. Я пас у богатея коней, помогал отцу
вязать плоты, ел одну картошку, да и ту прокисшую,
иногда мать баловала щами, а отец больно ударял
ложкой по лбу за то, что при еде нарушал очередность и
вылавливал редкую капустную окрошку.
После революции отец учил меня'воевать, как
некогда учил плавать: бросал в самую глубь. Потом я стал
кадровым военным.
Чардынцев помолчал, и Тоня одним лишь чутьем
угадала, что в нем боролось сейчас немало противоречивых
чувств. Она не видела ни выражения его лица, ни
усмешки, ко зато в его голосе ей слышалось многое.
И вот это «понимание», это постоянное желание
быть рядом, отгадывать и продолжать его мысли,
недомолвки, улыбки, вместе слушать, как шумит в парусах
жизни ветер, и вместе встречать удары волн, вероятно,
и есть то, что люди с древности определяют одним
словом – любовь.
– Вы скажете: «Чардынцеву уже за сорок, а он,
сухарь, еще не женат», – продолжал Чардынцев. – Я был
женат, Антонина Сергеевна. В двадцать лет я был уже
женат. Жизнь мне казалась легкой, полной одной лишь
музыки и веселья. И жена моя была именно такой: весе*
438
лая, постоянно поющая и шйнпущая девчонка. Где мне
было гогда разглядеть ее!
Я верил ей больше, чем себе. Я любил ее. Говорят,
ревность – тень любви, она неразлучна с ней. Не
согласен. Большая любовь – это как солнце в зените: тени
нет.
Повторяю, я верил ей, не внимая ни нашептываниям
соседей, ни осторожным намекам знакомых.
Вернувшись с маневров, я застал на столе записку
(совсем, как в старых романах!): «Лешенька, прости!
Уехала с театром. Я принадлежу искусству. А с тобой
мне скучно. Прости».
В ту пору в городе, где я служил, выступал театр
оперетты. Позже я узнал, что она уехала с одним
театральным жучком, который .увлек ее длинными (и,
вероятно, пошлыми!) рассуждениями об искусстве.
Я пережил тогда глубокое потрясение. С тех пор
(много событий произошло в моей жизни. Я окончил
академию. Служил в Белоруссии и в Поволжье, командовал
полком в Мошдавии.
– Поеду домой, – бывало, скажет кто-нибудь из
командиров, и я чувствовал, как в сердце бьет холод.
А тебе куда ехать? У я-ебя ведь ни семьи, ни дома. Нельзя
же назвать домом твою холостяцкую комнату – пустую,
необжитую....
Я с головой уходил в работу, был энергичен и на
людях весел, но один Сухов, близкий дружок мой, знал,
как мне было тяжело.
– Женился бы! – предлагал он, глядя на меня с
состраданием.
– В мои годы это не так просто, – отвечал я.
– Боишься ошпариться вторично?
– Боюсь ошпариться. До сих пор еще жжет.
Тоня слушала, то негодуя на ту пустую плясунью, что
так больно «ошпарила» душу Чардынцева, то увлекаясь
его суровой боевой жизнью.
Они вышли к крутому волжскому берепу. Ветер гудел
и хлопал в воздухе, будто над головой были натянуты
тугие полотнища. Внизу шумела река. Серебряная лодка
луны плыла в крутых волнах облаков, то пропадая в
пучине, то выскакивая на пенистый гребень.
Где-то.на палубе, в кромешной мгле, играла гармонь.
439
Ветер сердито рвал мелодию, и до берега доносились»








