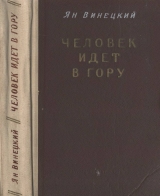
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
– Не поверю, чтобы Чкалов испугался! – горячился Гайдаренко.
– Не испугался. Просто у Чкалова тоньше нюх был. Сразу видел, чего машина стоит.
Готовые самолеты Бирин и Гайдаренко перегоняли на посадочные площадки боевых частей. В тот же день связная машина привозила летчиков обратно...
Николай подолгу беседовал с летчиками, присматривался к полетам истребителей. Мечта о своей машине волновала его все сильней. В памяти Николая не бледнели институтские годы – жаркие споры в общежитии о будущей работе, незабываемое волнение перед экзаменами, дружная жизнь веселой студенческой братии.
Аэродинамика, сопротивление материалов, теоретическая механика – это были тяжелые и прекрасные камни, из которых он, радуясь и мучась, строил здание инженерной профессии. И вот он уже не просто Колька Бакшанов, а инженер Бакшанов. Какой теплотой наполняет сердце это строгое и гордое звание – инженер!
Самолет «Ленинградский комсомолец» был его дипломной работой.
Мечта не любит остановок. Она шла дальше. Николай построит много удобных и простых самолетов, они свяжут с центром самые отдаленные уголки страны. Он создаст истребитель, который будет надежно охранять небо Родины.
Но мечту штурмом не возьмешь; ее берут длительной осадой, смелым, упорным и тяжелым трудом. И Николай трудился. Много ночей провел он за расчетами своего истребителя, и теперь снова надо приступить к коренной переделке проекта.
Когда Бирин спросил о его самолете, Николай вздохнул:
– Забраковали. Дорогие материалы на мой самолет нужны.
– А ты дерево употреби. Деревом-то мы вон как богаты.
– Так-то оно так, да у моего голубя больно высока нагрузка на квадратный метр, – сказал Николай. Он был занят сейчас подготовкой к эвакуации последнего эшелона. Телеграмма директора завода торопила с выездом.
Стояло тихое солнечное утро последних чисел сентября. В глубоком небе медленно проплыв-али стаи журавлей, часто перестраиваясь и беспокойно курлыкая...
– Гляди, и журавли эвакуируются! – воскликнул Гайдаренко, выглянув из-под крыла самолета. Павел Павлович усмехнулся. Летчики сидели на парашютах, ожидая, когда механики заправят бензином машины, – их надо было перегнать на линию фронта. Бирин и Гайдаренко торопились вылететь, чтобы вернуться засветло: эшелон уходил ночью.
На железнодорожную ветку, вплотную подходившую к аэродрому, подали состав. Рабочие стали грузить остатки заводского оборудования.
В нескольких местах задымили костры, с криками и смехом бегали вокруг них дети, женщины суетились с чайниками и кастрюлями – последняя группа рабочих начинала походную жизнь. Бойцы полка народного ополчения спокойно и деловито рыли окопы: им вверялась оборонд аэродрома в случае воздушного десанта.
В полдень где-то далеко глухо заурчала тяжелая зенитка. И вслед затем из-за синеющего вдали леса высыпали самолеты. Их было много. Они шли на город.
– Все в убежище! —крикнул Николай.
Женщины торопливо хватали детей, бежали в убежище. Мужчины старались казаться спокойными, но это им плохо удав<алось. Только ополченцы продолжали свою работу: война еще не научила их осторожности. Бирин и Гайдаренко взлетели одновременно. Они оба убрали шасси, едва только оторвались от земли. «Успеют ли уйти незамеченными?» – беспокоился Николай, Но то, что он увидел в следующую минуту, заставило его застыть от удивления.
Бирин и Гайдаренко полетели... навстречу фашистам.
Ополченцы бросили лопаты.
– Ну-у, орлы! – сказал кто-то восхищенно.
Наступила напряженная тишина ожидания.
Павел Павлович принял решение идти «в лоб».
Скорость сближения была огромная. Гайдаренко насчитал девять мессершмиттов и шесть юнкерсов. Прикрывая бомбардировщиков, мессершмитты разделились на три группы: одна стала набирать высоту, вторая снизилась, третья осталась на прежней высоте.
«Опытные, черти!» – с досадой подумал Бирин. Он расстегнул ставший вдруг тесным ворот гимнастерки.
Среднее звено фашистов открыло огонь с дальней дистанции. Гайдаренко увидал разноцветные струи трассирующих пуль. Он почувствовал, как короткими мелкими толчками кров-ь билась в горле. Внизу чернели бусинки вагонов, нанизанные на тонкие нитки рельсов. Густо дымил паровоз, таща их с муравьиным усердием.
Гайдаренко стало жарко. Он прижался лицом к прицелу, ощутил в руках шершавую поверхность гашеток...
Когда до фашистов оставалось метров триста, Бирин выстрелил из пушки в крайний самолет. Мессершмитт задымил. Гайдаренко открыл огонь по двум другим истребителям. Они взмыли вверх. «Ишь, как набирают высоту! – заметил Бирин. – Надо избегать драки на вертикалях».
Воспользовавшись .короткой заминкой, Бирин и Гайдаренко прорвались к бомбардировщикам, юнкерсы развернулись на 180 градусов, беспорядочно кидая бомбы. Бирин сделал крутую горку и с боевым разворотом вышел на встречный курс средней паре истребителей. Гайдаренко повторил его маневр. Верхнее звено мессершмиттов свалилось на них в крутом пике.
Гайдаренко отбивался от двух мессершмиттов, старавшихся зайти ему в хвост; он увертывался и короткими пулеметными очередями не давал немцам подходить на близкую дистанцию. Нижнее звено истребителей развернулось следом за юнкерсами, опасаясь, видимо, оставить их без присмотра. Теперь Бирин и Гайдаренко дрались только с пятью мессершмиттами. У Гайдаренко из нижней губы, прикушенной в горячке боя, сочилась кровь. Он облизнул горячие губы, сделал глубокий вдох, будто хотел вобрать в легкие как можно больше воздуха, и, толкнув сектор газа вперед, снова ввел самолет в боевой разворот...
Но мессершмитты с пикированием уже выходили из боя...
...Рабочие окружили вылезавших из кабин Бирина и Гайдаренко, жали им руки, обнимали.
Особенно шумно восхищался механик Костя Зуев:
«Вот это летчики-испытатели! Двое против пятнадцати, – и наш верх! Да за такое «Героев Советского Союза» дадут!»
– Чем языком трезвонить,—осмотрел бы машины да заплаты поставил бы в пробитых местах! – резко оборвал его Бирин.
Обескураженный механик кинулся осматривать самолеты.
На полуторке подъехал Николай.
– Поздравляю! Это подвиг... настоящий подвиг! – Он обнял Бирина и Гайдаренко. – Поеду к месту падения мессершмитта.
– Зачем? – удивился Бирин. – Смотреть на рожу гитлеровского пилота? Слишком много чести для него!
– Хочу осмотреть уцелевшие части самолета.
– Это другое дело. Врага надо бить и приглядываться к нему: нельзя ли чему поучиться. Факт!
Когда Николай уехал, Гайдаренко, не глядя Бирину в глаза, спросил:
– Послушай, Пал Палыч! Там... во время боя...
боялся ты? Хоть одну минуту... было страшно?
– Боялся. Они могли на Ленинград бомбы сбросить– как тут не бояться? Знаешь, сколько дров наломали бы? А наше Пе-Ве-0 прохлопало этот налет.
Факт! —ответил Бирин.
Поезд шел медленно: на многих перегонах полотно было наскоро восстановлено нашими железнодорожными частями, и машинисты соблюдали сугубую осторожность. В лесах бронзовым огнем горела умирающая листва берез и дубов и– вверху видны были оставленные птицами гнезда, а местами уже стояли в голых сучьях черные, словно обугленные деревья. В низинах и овражках дымились туманы. По желтым скошенным лугам, по ярким полянам пробегали тени облаков.
Николай смотрел на черную, сожженную немецкими бомбами деревню – пустую, безлюдную, с поднятыми к небу худыми руками колодезных журавлей.
Хмурил брови, но оторваться не мог. Весь он полон был мрачным любопытством.
, И вдруг на выезде из деревни, среди горбатых обугленных печей, забелели свежезаструганные бревна. Люди весело хлопотали возле них. Стучали топорами. Ставили новую избу.
– Хорошо! – громко проговорил Николай.
– Чему ты обрадовался? – спросил Бирин, заметив, как посветлело лицо Николая.
– Жизни, Пал Палыч. Еще пепел и гарь носятся в воздухе, а уже стучат топоры. Жизни народа не
остановишь!
Бирин и Гайдаренко играли в шахматы. В эту всегда отличавшуюся тишиной и степенностью игру они вносили столько шума и азарта, точно здесь разыгрывалась настоящая баталия.
– Ну, ты и лиса, Пал Палыч! Отвлек мое внимание второстепенным, а сам вон куда ударил!
– Не воронь! Это тебе не бирюльки, а шахматы – стратегическая игра! —хохочет Бирин, довольный удачей.
Поезд неожиданно остановился.
– Поворачивай оглобли. Путь отрезан! – кричал кто-то машинисту.
Николай быстро выпрыгнул из вагона. Паровоз храпел, будто остановленный на скаку конь. Впереди круто обрывался мос.-
Пожилой майор с темным, худым лицом отрывисто выговаривал машинисту:
– Что думали на станции, отправляя поезд? Мы ведь сообщили, что дорога перерезана. Видите, часть занимает оборону. – Он показал рукой на редкий молодой осинник, темневший за болотом. И только сейчас Николай увидел, как несколько сот бойцов рыли окопы. Они часто примеривались, прикидывая, удобно ли будет лежать и скроет ли земля от глаз и пуль противника.
Третьего дня, по решению Военного Совета, цех Николая был передал в распоряжение-передвижных авиамастерских Ленинградского фронта. Военные инженеры и техники приняли у него оборудование и расположились на заводе по-хозяйски, надолго.
Сорок человек рабочих, Николай да летчики-испытатели выехали с последним эшелоном. И вот – несчастье!
Второй паровоз, подошедший через три часа, помог перегнать поезд обратно.
В Обкоме партии Николаю сообщили, что при первой возможности для переброски его и летчиков-испытателей на Волгу будет организован самолет: остальные сорок человек надо вернуть на завод, в военные авиамастерские.
– А мы в ожидании самолета пузо гладить будем? – громко спросил Бирин.
Работник Обкома засмеялся:
– Правильна, ожиданье – ожиданьем, а дело – делом. Ступайте и вы на завод. Только предупреждаю: вы должны быть готовы к перелету по первому вызову!
Возвращение рабочих военные инженеры и техники встретили с радостью: мастерские были завалены подбитыми в боях машинами.
Кто-то из коммунистов предложил вызвать военных на соревнование. Рабочие довольно улыбались: они снова были в родной стихии дружного и привычного труда.
...Поздно ночью гитлеровцы начали воздушную бомбардировку. Свист бомб и грохот взрывов раздавались в разных концах города. Длинные пальцы прожекторов напряженно ощупывали небо.
Небо озарялось заревом пожара. С пронзительными гудками носились по городу пожарные автомобили...
Николай в эту ночь дежурил на заводе.
А на рассвете стало известно, что северо-восточнее аэродрома выбросился на парашютах немецкий десант.
Полк народного ополчения занял оборону. Все были взволнованы: предстоял первый бой.
На патронном пункте раздавали гранаты. Каждый получал по паре «Ф-1». Николай вспомнил последнее занятие по метанию боевых гранат. Руководитель – Павел Павлович Бирин стоял в окопе рядом с Николаем.
– Прижав наружный рычаг, не отпускайте больше: взорвется. Метнув гранату, – укройтесь в окопе.
Николай вынул чеку, судорожно прижал наружный рььчаг гранаты и, взмахнув рукой, бросил гранату вперед.
Она звонко щелкнула в воздухе, и через секунду гулкий взрыв потряс землю. Николай упал на дно окопа, прижатый страхом к земле.
– Вставайте!—услышал он густой голос Бирина.
Николай поднялся и вдруг увидел, что его синий костюм выпачкан в глине – на дне окопа было сыро.
– Пошлите следующего, – сказал Павел Павлович, не обращая внимания на костюм Николая.
Николай подбежал к роще, прижался к дереву и, прячась за ним, крикнул:
– Следующий!
Вдруг ему стало весело: «О костюме забеспокоился!..» – подумал он и, не стесняясь, вышел на поляну.
– Дайте закурить, товарищи,– сказал он, широко улыбаясь. К нему потянулось несколько рук с кисетами.
Получая гранаты, Николай почувствовал большую уверенность, считая себя уже «обстрелянным».
Командир полка выслал в разведку взвод, в котором был и Николай. Возглавлял его Павел Павлович.
Разведчики короткими перебежками продвигались к придорожному леску.
Впереди послышались хлопки минометов. Павел Павлович разбил взвод на три группы и приказал ползком пробираться дальше. Николай был в группе Бирина, обходившей лесок справа. Всякий раз, когда над головой взвывала мина, Николай прижимался к земле, стараясь не дышать, будто мину можно было обмануть, спрятаться.
Потом, когда земля вскипала где-то в стороне, Николай, работая локтями и коленями, продвигался дальше.
Со стороны дороги бешено завизжали пули.
«Снайперы», – подумал Николай.
Бирин выслал Николая и двух ополченцев к оврагу, правее лесочка.
– Обшарьте овраг и, если там никого нет, постарайтесь незаметно выдвинуться к лесу.
Николай первый пополз к оврагу. Снова близко завыли мины, и впереди'оправа и слева, низко, с
красноватой вспышкой взлетела земля.
Николай повернул голову назад, желая посмотреть – ползут ли товарищи, и вдруг его обдало горячим воздухом и чем-то больно ударило в спину.
Николай приник щекой к земле, будто прислушиваясь.
Грохот боя становился глуше, отдаленнее.
Потом тишида накрыла его мягко и незаметно, как в детстве мать накрывала одеялом...
Г лав а шестая
Николай потерял счет времени с тех пор, как осколок мины впился в спину, поломав лопатку. Сознание угасало и вновь возвращалось, вырывая из мрака отрывочные, бессвязные картины. То над Николаем склонялись люди в белых халатах и было странно, что у них русские лица, а он не мог понять ни одного слова; то его все время подбрасывало и раскачивало, и ему казалось, что он маленький и мать качает его в люльке; то Глебушка, плача, протягивал к нему, ручонки и кто-то огромный и сильный держал Николая за'плечи, не пускал к сыну.
Хохот сменялся грохотом орудий, плач – завыванием ветра, и эта быстрая смена картин утомляла его, истощала силы.
Потом бред унялся, и тупая боль вернула Николая к действительности.
– Где мы? – спросил он, когда над ним склонилась сестра, прислушиваясь к его невнятному шопоту.
– В Ульяновске.
– В Ульяновске? – переспросил Николай бледными бескровными губами. – А какое сегодня число?
– Пятнадцатое октября.
Он напряг память и вспомнил, что бой с немецким десантом был пятого октября. «Чем окончился бой? Как дела в Ленинграде?» – хотелось спросить Николаю, но сестра ушла, а в палате недвижно лежали тяжело раненные.
«А может, они меня не слышат?» – подумал Николай, силясь закричать. Но напряжение вызвало резкую боль в груди, и он мысленно выругался от бессилия.
" В палате было душно. Тошнотные, сладкие запахи лекарств стояли в воздухе.
Эшелон под командой Солнцева отправился из Ленинграда ночью в конце августа. На рассвете три мессершмитта зашли со стороны паровоза и, прошив весь состав пулеметным огнем, скрылись в западном направлении. А через два часа прилетели пикирующие бомбардировщики.
Их было девять.
Солнцев приказал остановить поезд и всем укрыться в лесу. Женщины торопливо, дрожащими от страха руками одевали детей, мужчины хмурились, с опаской поглядывали на выстраивавшихся в круг бомбардировщиков.
Первый свист пикирующего самолета заставил людей в панике броситься прочь от вагонов. Бомба рванулась где-то в хвосте эшелона.
Потом вой пикировщиков смешался с новыми взрывами, и уже нельзя было понять, где рвались бомбы.
Люди бежали в лес, стараясь скрыться от немецких летчиков. Но вот стали взлетать к небу деревья. Фашисты били по опушке леса.
Солнцев стоял у паровоза. Песок хрустел на зубах. В ушах не смолкал гул от взрывов. Что мог он предпринять в эти минуты бессилия и отчаяния?
– Александр Иванович! Ложитесь! – кричали откуда– то из-за насыпи. Но Солнцев стоял, не шевелясь. Что если эшелон будет разбит и погибнут люди, которых ему доверили?..
Наступила внезапная тишина. Пыль еще висела в воздухе, но самолеты уже ушли.
Солнцеву показалось, что он заметил это первый.
Вытирая платком лицо, главный инженер побежал вдоль эшелона.
– Старшие вагонов! Проверьте людей!
Рабочие поднимались, отряхиваясь от земли. Из лесу выносили убитых и раненых. Молодая женщина с окаменевшим лицом держала на руках мертвого ребенка...
Среди убитых Солнцев узнал молодого маляра Сашу Воробьева. Он давеча играл на гитаре в вагоне, в котором ехал Солнцев.
У Саши было бледное, худощавое лицо с маленькими черными глазами. Когда он улыбался, глаза превращались в узенькие щелки. Но при всем этом в лице Саши было что-то живое, веселое и доброе, что делало его необыкновенно привлекательным. В каждое слово своих простых песенок он вкладывал столько чувства и как-будто ему одному известного смысла, что все недоумевали, как не замечали прежде красоты этих песен.
Девушки любили -его чуть хрипловатый голос, его манеру улыбаться во время пения, «подпускать слезу» в наиболее чувствительных местах. Когда он уходил в другой вагой, положив гитару на плечо, все провожали его глазами, молча удивляясь наступившей тишине.
А те, к кому он приходил, как завороженные слушали его песни да мягкие волнующие переборы гитары под частый перестук колес.
Далека ты, путь-дорога,
Выйди, милая моя!
Мы простимся с тобой у порога
И быть может – навсегда!
Людям легче дышалось от задушевных и простых песен. Казалось, это сама молодость бросает вызов всем несчастьям, всем тяготам войны.
А теперь Саша лежал в мокрой от росы траве, запрокинув назад голову, плотно ежав зубы. Острый осколок бомбы разрубил ему левый висок...
К Солнцеву подошел Петр Ипатьевич. У него была перевязана правая рука. Лицо почернело от пыли.
– Александр Иванович! Надо осмотреть путь да двигать дальше. А то, неровен час, еще придут...
– Да, да! – заторопился Солнцев., только сейчас вырвавшись из оцепенения. – Товарищ Сурков!—обратился он к начальнику химической лаборатории. – Возьмите несколько человек и осмотрите путь.
Старшие вагонов один за другим докладывали, что вагоны целы, но каждый добавлял о людских потерях.
Раненых насчитали десять человек. Убитых было шесть, из них двое детей и две женщины – жена дяди Володи и та эмалитчица, что во время налета на завод фашистов беспокоилась о доме, но работу не оставила. Ее звали Дарьей Первухиной.
Девочка лет десяти, с опухшим от слез лицом и острыми, часто подрагивающими плечиками, держала на руках грудного ребенка и тихо, почти топотом, повторяла:
– Мама... мама...
Мать лежала бледная, с застывшим выражением тревоги.
Марфа Ивановна, не помня себя, подбежала к девочке, взяла у нее ребенка.
– Отец! – крикнула она и сама не узнала своего голоса, – возьмем этих детей. Роднее своих будут!
Петр Ипатьевич поднял старшую девочку на руки.
– Как звать-то тебя, светлый месяц?
– Наташей, – ответила девочка, – а сестренку – Наденькой.
Петр Ипатьевич торопливо зашагал к вагону.
Оставив детей на попечение Марфы Ивановны, он вернулся к опушке леса, где лежали убитые...
– Били по людям, сволочи! Эшелон не тронули,—оказал Петр Ипатьевич. Он быстро взглянул на Солнцева, тихо спросил: – Начнем хоронить, Александр Иванович?
– Да!—снова будто очнувшись, отрывисто ответил Солнцев.
Из двух больших воронок иа опушке леса сделали просторную могилу. Девушки принесли яркие полевые цветы. Хоронили молча. Слов не было. Было одно лишь острое чувство боли. На фанере черной краской кто-то написал:
«Здесь покоятся тела ленинградских рабочих и их детей, убитых при бомбардировке эшелона 21 августа 1941 г. ОтОхметим за погибших! Смерть фашизму!»
Сурков доложил, что путь исправен. Солнцев скомандовал садиться в вагоны. Родньих под руки отводили от свежей могилы. Дядя Володя упирался, дрожа всем телом. Слезы смачивали его рыжую, всклокоченную бороду.
– Как же, братцы? – спрашивал он, заикаясь. – Уже уезжать?.. Дайте место запомнить... Господи, где пришлось мне тебя оставить, Грушенька!..
Когда поезд тронулся, дядя Володя тихо, с глухой болью рассказывал:
– Тридцать лет вместе прожили. Что в беде, что в радостях – всегда веселая, бойкая. Я ведь без нее, ребята, хуже сщюты, ей-богу!.. Намедни и говорит она мне:
«Не робей, Володя. Горе не так велико, как страх перед ним. Приедем на Волгу – огород раскинем, козочку заведем, прокормимся! А там и в Ленинград вернемся.
Ленинград выстоит, он из твердого камня сложен!..»
...В Москве робко, словно ощупью, эшелон протиснулся меж составами, спрятанными в кромешной тьме ночи.
Глухо били зенитные орудия. Временами раздавались гулкие сдвоенные удары взрывов. То затихал, то вновь усиливался яростный фейерверк трассирующих пуль и снарядов.
Потом взрывы стали едва различимы, похожие на далекий рокот грома.
Эшелон шел на восток. Проплывали густые бескрайные леса, светлые вырубки, усеянные яркими цветами; круглые березовые рощицы, будто девушки в белом хороводе; золотистые поля хлебов...
На полустанках, прямо из леса, как зайцы, выбегали ребятишки с лукошками красных и черных ягод. Стоял медовый запах леса, трав и цветов. Но главное – тишина, нетронутая, благодатная тишина!
– Комара – и того слыхать! – удивлялся дядя Володя.
Ночью, усталый и запыленный, пришел эшелон в большой приволжский город. Он бьм залит яркими переливчатыми огнями. Где-то тонко повизгивала гармонь и, догоняя ее, торопилась незнакомая песня.
Не дожидаясь утра, рабочие стали выгружать станки: требовалось освободить место для других эшелонов.
Тихо струились ясные дни осени. Рыжели листья берез и кленов, леса наполнялись беспорядочным набором красок – желтых, красных, оранжевых.
Белая паутина медленно плыла в воздухе. Потом поднялись ветры. Целыми дня-ми волновались, трепетали желтые листья деревьев, падали на землю с сухим шуршаньем. Редели сады и леса, обнажая сухожилия веток и птичьи гнезда, прежде невидимые. В воздухе носились приторно-сладкие запахи увядания.
Завод разместился в тесных корпусах мебельной фабрики. Сборщики фюзеляжей оказались вместе со столярами, монтажники – с эмалитчиками.
Не было возможности соблюдать температурные режимы для склейки деревянных деталей. Технологи растерянно пожимали плечами: все перемешалось, спуталось, о какой тут технологии речь вести!
Все коридоры и проходы заполнили станками, прессами и верстаками. Маленькие кладовые цехов завалили готовыми деталями.
И вот над всем этим ералашем уже призывно белели стройные рядв1 букв на красных полотнищах, развешанных по цехам: «Быстрее дадим фронту самолеты!»
Мишин и Гусев ежедневно ездили в Обком партии, в горсовет, хлопоча о жилище для рабочих.
Накануне партийньне организации цехов провели собрания местных рабочих, призывая их поделиться жильем с ленинградскими товарищами.
К эшелону приходили незнакомые люди, приглашали эвакуированных рабочих к себе....
– Сорок лет в Питере прожил! – вздыхал дядя Володя. – Мальчуганом на заводе Леснера красный флаг к трубе котельной привязал, и меня городовые рукоятками револьверов били. А я кровь рубахой утирал и плакал... от счастья плакал, что вся Выборгская сторона узнает, как Володьк'а Шикин красный флаг поднял. Ленина сколько раз слушал, с Сергеем Мироновичем за ручку здоровался! – Глаза дядя Володи темнеют. Он сжимает кулаки и тихо, одними губами говорит:
– Врешь, Гитлер! Ленинград выстоит, он из крепкого камня сложен!...
Старая работница-татарка, маленькая, с иссеченным морщинами лицом, постояв в раздумье, сказала дяде Володе:
– Аида, бабай. Мой дом близко.
Дядя Володя встал.
– Только, может, ее бы выбрала – с детишками.
– Нет, ты айда. Больной ты. Мой дом теплый.
Очень!
– Приглянулся ты ей, – засмеялся Петр Ипатьевич. – Ну, иди, не отказывайся, коли пирога дают.
Дядя Володя, кряхтя, взвалил на плечо деревянный сундучок.
– А где твоя апа?—спросила женщина.
– Не пойму я, – растерянно оглядевшись, сказал дядя Володя.
– Вот такая, – показала она на Марфу Ивановну.
Дядя Володя понял. Низко опустил голову.
– Один я, – ответил он глухо.
– Аи, аи, плохо твое дело. Очень! Давай помогу,– сказала она, снимая с его плеча сундучок.
В сторонке от всех непринужденно беседуют токарь Сергей Архипович Луговой и старик-татарин,
круглолицый, крепкий, с чуть раскосыми, умными глазами.
– Ну, у вас здесь и места! – восклицает Луговой.– Богатые, волжские. Леса, леса без конца и краю, в полях цветов – глазам больно. И уж верно ягод, грибов, дичи! Вот где охота!
Худое лицо Лугового освещено восторгом.
– Оч-чень много, – не без гордости подтверждает старик. – В лес иди – ягод кушай, гриб кушайсколько хочешь кушай. Уток стреляй.
– А главное – тишина! – говорит Луговой.
– Зачем тишина! У нас много работ. Заводов много, фабрик много, тракторов много.
– Я не об этом. Не стреляют, не бомбят, фашисты не летают. Вот я о чем.
– Фашист – шайтан. Его бить надо. День и ночь бить надо. Два моих сына – Сабир и Анас под Москвой дерутся. Вот как!
– Молодцы!—смеется Луговой. – В отца пошли верно, а?
Старик ласково трогает Лугового за плечо:
– Слушай-ка. Веселый ты! Ходи ко мне жить. Ты – охотник, я – охотник. В;месте лес ходить будем.
– Спасибо, родной.
Луговой встал, взвалил на спину рюкзак.
– Пошли, я пассажир легкий. Сам – с вершок да на горбу мешок... Жена вот у меня еще.
Бакшановых взял к себе сборщик Лунин-Кокарев. Он перебрался со своей семьей во вторую комнату, а первую, столовую, где спала старуха-мать, отдал Петру Ипатьевичу.
В комнате было не топлено, и Марфа Ивановна, не раздеваясь, сидела на чемодане, прижав к себе детей – десятилетнюю Наташу и семимесячную Наденьку.
Глебушка сидел поодаль, насупленно молчал.
За стеной слышался злой и горячий шопот.
Временами шопот переходил в громкий -говор. Марфа Ивановна поняла, что там бранились. Лунин-Кокарев говорил отрывочными, короткими фразами. Ему отвечал требовательный и резкий голос старухи. Когда страсти разгорались, примешивался еще один голос – плачущий, девичий.
Старуха сидела за шитьем. Ее узловатые темные пальцы быстро работали иголкой. Плакала Наденька. Голос у нее был хриплый, простуженный. «Что за мать такая? Не может (успокоить! – злилась старуха. – И зятек... хорош! Меня не спросясь, пустил чужих. А дом-то мой. Сорок лет здесь живу. Ишь, распорядитель какой!»
Старуха резко поднялась и, войдя в соседнюю комнату, грубовато взяла у Марфы Ивановны ребенка. Она стала ходить по комнате, раскачивая Наденьку на руках и мягким, изменившимся голосом успокаивая ее. Ребенок умолк. В глазах старухи появилось выражение торжествующего превосходства.
Марфа Ивановна вскоре услышала, как на кухне тонко запел самовар. Потом девушка принесла дров, затопила печь.
– Раздевайтесь. Скоро будет тепло, – сказала она.
– Спасибо, – ответила Марфа Ивановна и вдруг расплакалась– громко, с облегчением.
На заводе круглые сутки хлопают восемь проходных дверей. Круглые сутки здесь людской говор, смех, топот сотен ног.
Гудят моторы, визжат дисковые пилы, высоко и тонко перекликаются электродрели.
Первые взялись за восстановление завода столяры. В других цехах еще чесали затылки, приглядывались да примеривались, озадаченные необычными условиями, а здесь уже склеивали лонжероны, делали нервюры, собирали боковины.
Быстров, назначенный начальником цеха, ночевал на -заводе, наблюдая за сборкой первых комплектов крыльев. Среди верстаков, стремянок и прессов уже вылупливался фюзеляж – первое подобие самолета.
Мишин собрал начальников цехов и отделов на совещание.
– Государственный Комитет Обороны установил дату начала выпуска самолетов нашим заводом. – Он обвел всех настороженным взглядом, будто хотел узнать, от кого можно ждать^ возражений. – Эта дата – седьмое ноября.
По лицам людей прошла тень. Солнцев зябко повел плечами.
– Что, Александр Иванович? – спросил Мишин, заметив движение главного инженера.
– Мне кажется, здесь какое-то недоразумение. Ведь это же... фантастика! – вскинул вверх очки Солнцев.– Остается немногим больше месяца, а у нас даже нет аэродрома!
– И труб нет! – невнятно, будто всхлипнув, проговорил начальник отдела снабжения Миловзоров.
– Варить некому! У меня только два дельных сварщика.
– Эмалиту нет!
– Давайте по порядку, – жестко сказал Мишин. – Прежде всего, насчет фантастики. Решение
Государственного Комитета Обороны – не фантастика, а приказ Родины! – Он шумно дышал и сжимал в руке погасшую трубку.– Аэродром есть. В пятнадцати километрах от города я нашел подходящее поле. Надо только повыкорчевать пни.
– В пятнадцати километрах? – спросил Солнцев и,не ожидая ответа, продолжал: —Семен Павлович, вы меня не поняли. Я отдаю себе полный отчет в серьезности момента... Но где вы видели, чтобы самолетный завод был на таком расстоянии от аэродрома?
Мишин вспомнил шутку, ходившую на заводе про Солнцева. У него была странная манера писать резолюции на самом краешке бумажки. «Вы знаете, почему он так пишет? – говорили шутники, – чтобы в случае неустойки осторожненько оторвать резолюцию и сказать, что он-де не подписывал».
– Послушайте, Александр Иванович, – сказал Мишин, смеясь одними глазами. – Мне пришла на память история о том, как поп учил чорта жить праведником.
Поп писал ему ежедневно длинные правила поведения, нарушить которые чорт не имел права. И что же получилось? Чорт ежедневно попадал в какую-нибудь историю, так как отступал от правил. Кончилось тем, что он плюнул на правила и ушел от попа. Ну, как вам нравится? По-моему, умный чорт был!
Все засмеялись. Александр Иванович обиженно потупился.
– Я помню, как вы ополчились на Бакшанова за его кабины. Тоже – не по правилам! А вышло. Да еще как вышло! Командующий Воздушными Силами засыпал нас заказами. Так!
У Мишина была привычка, когда он считал разговор оконченным, говорить короткое и исчерпывающее – так! – будто ударом гвоздь заколачивал.
– Теперь о трубах. Трубы должны быть, товарищ Миловзоров. Не умеете потребовать от людей поезжайте за трубами сами! Так!
Миловзоров утвердительно закивал гладко причесанной, с просвечивающей лысиной головой, торопясь доказать, что он вполне согласен с директором.
– Варить некому, Никодим Ефимович? – обращался Мишин уже к следующему начальнику. – Может, прислать бабку Агафью? Почему вы не подготовили себе сварщиков? Я вам двадцать рабочих прислал.
– Так ведь это ж разве рабочие? Детишки! – возмутился начальник сварочного цеха – крупный, плотный мужчина с хитроватым, но ленивым лицом.
– Нужно смотреть вперед, а не себе под ноги. Эти детишки завтра будут решать судьбу программы завода.
Взрослых рабочих вам никто не даст. Так!
Мишин повернулся к начальнику химической лаборатории:
– Эмалит. С эмалитом, действительно, дело – дрянь. Завод-поставщик тоже на колесах. Куда-то в Среднюю Азию махнул... Вот вы, товарищ Сурков, ученый наш химик, взялись бы да и изготовили эмалит сами, а?
Начальник лаборатории поднял брови.
– Ну, ну, не скромничайте! Вы, химики, все -умеете.
Так! Осталось полтора месяца. Срок сжатый, но реальный, если учесть большой задел, который мы привезли с собой.
Мишин снова обвел всех взглядом и тихо спросил:
– Так что же прикажете доложить народному комиссару? Сделаем или осрамим себя?








