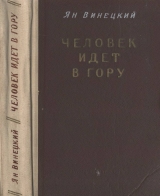
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Анна Сергеевна, вы когда-нибудь задумывались над своим возрастом?
– Нет, – ответила Анна, изумленная его вопросом.
– Счастливая. Я тоже жил, не считая лет. Мне было тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять... Я будто лет двадцать в зеркало не гляделся. А потом глянул – со-рок!
Он произнес это слово с такой, словно бы подтачивавшей его печалью, что Анна вдруг остановилась. Луна вынырнула из темной бурлящей пучины туч, осветив его усталое лицо. Анна никогда не видала его таким.
– Что с вами? – тихо спросила Анна.
– Долго рассказывать. В другой раз,– ответил Чардынцев, подходя к штабу.
Прохожие оглядывались на маленькую женщину в серой шинели с тощим солдатским мешком за плечами, у которой вместо левой руки был аккуратно заправлен в карман пустой рукав.
Мужчина без ноги либо без руки почти не задерживал внимания – к этому за годы войны привыкли, но женщина... молодая женщина!
Если бы люди знали, сколько тоскливых и вместе гневных чувств вызывало в ней их сострадание! На растерянных лицах, во взглядах, на мгновение застывших, Анна читала любопытство, испуг и жалость.
Но сегодня она не замечала этого. Весна будила добрые надежды. Дворники счищали с тротуаров застарелые грязные корки льда, и местами уже проглядывал асфальт – влажный, дымящийся, окруженный струпьями почернелого снега. Спокойно, по-семейнохму, на мостовой собирались грачи.
Анна разыскала Пионерскую улицу. У большого серого дома, того самого, который ей был нужен, две женщины, увидев ее, удивленно переглянулись и стали шептаться. Маленькие, толстые, в беличьих шубках и кругленьких серых шапочках, они – странно – напоминали ей комнатных болонок, выведенных на прогулку.
Анна, резко повернувшись, нервным, сбивающимся шагом прошла мимо. Хорошее настроение пропало. В глазах блеснули слезы. Вновь поднялся в душе горький и холодный ветер.
«Жалеют!»
Она не слышала, но их слова казались ей острыми, как осколки стекла.
«А может, они и правы, эти болонки?»
Анна представила себе карие, усталые и добрые глаза Николая и, точно взглянув в них и не найдя подтверждения своим опасениям, упрямо тряхнула головой.
«Нет, я должна его увидеть... Тогда все решится. Все!»
Она вернулась, обратно. Шаги были твердыми.
«Разнюнилась. Услыхала слезливые вздохи каких-та-
кумушек и раскисла. Точко не ты была на фронте, в
окружении, в пекле. Точно не ты, а кто-нибудь другой-
ампутировал сотни конечностей, каждый раз чувствуя,
дак обжигало все внутри».
Анна поднялась, по лестнице, постучалась.
– Бакшанов... Николай Петрович здесь живет?
Марфа Ивановна открыла дверь, прижав к груди
руки, вскрикнула:
– Анночка!
Потом, быстро скользнув взглядом по пустому рукаву;
Анны, обняла невестку, засыпала ласковыми словами,!
но лицо морщили слезы.
– Сейчас, Анночка... Я Коле позвоню... Ах ты,
касатка моя!
Снимая шинель, Анна заметила на вешалке
светлосерую женскую шляпу и демисезонное пальто. Острая
боль пронзила ее, она вошла в комнату, низко опустив
голову.
Здесь стоял небольшой письменный стол с тяжелым,
под мрамор отделанным, прибором, диван, обитый
желтой кожей, и круглый обеденный стол, покрытый белой
скатертью. Несколько стульев да этажерка дополняли всю
обстановку.
Над письменным столом висела картина в дубовой
раме: высокая женщина в черной газовой шали идет по
осеннему парку; желтые листья, как снег, тихо падают ей
на голову, плечи, руки. Уже оголились многие деревья, и
одиноко чернеют брошенные птицами гнезда. Лицо
женщины строго и печально, но какая душевная вьюга бушует,
в ней!
То ли в картине было много задумчивой тихой грусти,
то ли она отвечала настроению Анны, но она долго
смотрела, затаив дыхание.
В коридоре Марфа Ивановна говорила по телефону:
– Анночка приехала! В военной одежде... Как?
Выезжаешь?
Тяжелое чувство овладело Анной. В расстановке-
мебели, в каждой мелочи угадывалась заботливая мысль
и тонкий вкус молодой женщины. «Почему молодой? —
спрашивала себя Анна.– Разве Марфа Ивановна
неопрятная и заботливая хозяйка?..»
И в который раз, оглядев все вокруг, отвечала:
«Молодая... непременно молодая!..»
В дверь громко постучались. Анна встала, задрожав
от волнения...
Николай увидал серебряные нити на висках Анны,
мелкие, едва уловимые сетки морщин у глази, задыхаясь,
схватил ее своими, длинными крепкими руками. Сквозь
слезы он смотрел на чуть припухлые, вздрагивавшие углы
ее губ, на синие глаза ее, в которых – и любовь, и упрек,
и радость, и страдание...
Потом, когда схлынула первая радость и первая боль,
они оба замолчали, притихли.
Анна вдруг старым, привычным жестом ощупала его
шею, испуганно проговорила:
– У тебя опять увеличены железы. Нехорошо!
Николай робко усмехнулся:
– Что ты еще нашла у меня?
– Тот же нос и те же... добрые глаза,– задумчиво
•сказала Анна, стараясь высвободиться из его
цепких рук.
Он прижался щекой к ее руке, целовал пальцы и
снова слезы бежали по его почерневшему лицу.
Анну интересовал сын, как он жил эти годы, как
выглядит, вспоминал ли он ее, болел ли?
– За то, что ты сохранил мне Глебушку, я готова
простить тебе многое,– сказала она с грустной теплотой
в голосе.
– Многое или все? – спросил он, впервые сверкнув
своей прежней широкой улыбкой. К нему возвращалось
спокойствие.
– Многое,– тихо ответила Анна,– обрадовавшись
этой, так хорошо знакомой улыбке.
– А если Глебушку спас и сберег не я, а кто-то
другой?..
– Кто? – быстро спросила Анна.
Из коридора донесся молодой женский голос. Анна
уже забыла о своем вопросе. Кровь отхлынула от лица.
Страх заставил дрожать колени и, если ей пришлось бы
сейчас встать, она не удержалась бы на ногах.
Ей знакомо было тяжелое и острое чувство страха.
За два года она насмотрелась всякого. Но там, на
фронте, это чувство не было таким неотвратимым. Надежда
.в самые, казалось, безысходные минуты поддерживала,
122
ободряла. Здесь же та, которая должна была сейчас
войти, отнимет у нее самое дорогое, без чего жизнь
станет холодной и -мрачной.
И потом там, на фронте, Анна страх делила с
товарищами, как в дни окружения делила с ними хлеб...
Дверь отворилась, и она увидала... сестру.
Тоня тихо охнула и бросилась к Анне.
Николай отвернулся. За окном собирались синие тени
сумерок.
...За ужином Тоня была оживленной и хлопотливой,
часто выходила на кухню.
Потом прибежал Глебушка – красивый
пятнадцатилетний парнишка.
Появление сына вызвало такую бурю восклицаний,
поцелуев, слез и смеха, что ни Анна, ни Николай не
заметили затаенной горечи в глазах Тони.
Сын – большой, плечистый – обнимал за шею Анну,
гладил ее волосы, целовал мокрые от слез щеки.
Анна вспоминала, как четырехлетним карапузом
Глебушка изучал азбуку й когда он Забывал
какую-нибудь букву, смущенно останавливался:
– Буква «А»... буква «Б»... – Потом, подумав,
уверенно говорил:– Буква «не знаю»!
Постепенно этих букв «не знаю» становилось все
меньше и меньше. #
– Ты помнишь букву «не знаю»? – смеясь, спросила
Анна.
– Папа говорит, что у человека до самой смерти
остается очень много букв «не знаю». Только у одного их
больше, у другого меньше, – ответил Глеб.
Тоня неожиданно поднялась.
– Я совсем забыла, что мне надо на дежурство.
– Ты дежурила все время по пятницам. А сегодня
среда,– сказал Николай.
– Теперь по средам,– ответила Тоня с вымученной
улыбкой.
– Аня,– сказала Тоня, стараясь не смотреть в
глаза сестре.– Я вернусь не раньше завтрашнего вечера.
Пойдем, я тебе покажу, где что лежит.
Анна подавила минутное колебание и вместе с Тоней
вышла на кухню.
123
Ночью в лаборатории Тоня писала письмо. В кривых,
раскиданных в разные стороны буквах угадывалось
смятение...
«Анна!
Это письмо тебе принесут, когда я буду уже в пути.
Я еду далеко, сама еще не знаю куда, но как только
брошу якорь,– напишу непременно.
Я хочу тебе прямо и честно сказать, что я сделала эта
не из жалости к тебе, не из сострадания. К тому же я
знаю, что для таких людей, как ты, жалость
оскорбительна, как милостыня. Нет, сестренка, здесь причины более
глубокие. Чтобы понять, тебе придется набраться
терпения и прочитать письмо до конца.
Война застала меня в Луге, где я была на практике.
Я помню огромную толпу женщин и детей, спасавшихся
бегством. Я бежала вместе с ними по направлению к
Ленинграду. Ленинград фашисты не возьмут,– мы знали,
мы верили в это. И будто торопясь лишить нас этой веры,
гитлеровские пикировщики обстреливали толпу, и
многие падали замертво. Жалобные детские стоны и вопли
женщин рвали сердце, и мне казалось, что если я и
выживу, то все равно буду мертвой, как береза без листьев.
Мы шли много дней и ночей. Потом мы узнали, что
вражеские танки отрезали нас далеко впереди и нет
смысла дальше идти, потому что куда ни пойдешь,– везде
гитлеровцы. Вся тоска, вся боль, все долгие, страшные,
тяжелейшие дни и ночи моей жизни встали передо мной,
и я решила любой ценой пробиться в Ленинград.
Я пошла дальше. Где только я не побывала, сколько
деревень исходила! И в каждой избе одна беда...
Потом я пересекла линию фронта и едва живая
добралась до наших. А через месяц я была уже на Волге.
Анна! Ты знаешь, как я люблю талантливых людей!
Мне кажется, от них исходит какой-то внутренний,
притягивающий свет.
Николай по-настоящему талантлив, я наблюдала за
его работой и слышала об этом от многих. И
одновременно прост, умен, добродушен.
Николай жил неуютной, непутевой жизнью холостяка.
Его так и звали товарищи: «неорганизованный холостяк».
Он мог по неделе не есть ничего горячего, забывал дома
хлебную карточку и у него пропадал хлеб, носил
засаленные рубашки.
124
Я принялась за упорядочение его жизни. Он был
послушен, как школьник, и только когда я уж очень круто
поступала с ним, он, улыбаясь, говорил:
– У тебя характер сестры, Тонечка!
Потом, пришло извещение о твоей гибели. Николай
опустился, часами сидел в каком-то задумчивом
оцепенении. Стоило много трудов поднять его, утешить,
поддержать. Правда, в этом мне помогли заводские товарищи.
Однажды, помню, собрались у нас друзья.
Я пела «Не брани меня, родная!»
Николай встал и быстро вышел из комнаты. Через
полчаса он вернулся, низко опустив голову. Веки у него
были красные, опухшие.
«Плакал!» – подумала я и вспомнила, что это твоя
любимая песня.
Анна! В день твоего приезда я поняла, что только
сейчас к нему вернулись крылья, что все это время (без
тебя) он жил только тобой, любил только тебя. Я поняла,
что мне надо уехать.
Сестренка, не брани меня, что ушла, не простившись.
Как умеешь, объясни Николаю: пусть не обижается на
меня. О»н умный, он все поймет.
Поцелуй за меня Глебушку. Желаю тебе счастья,
сестренка!»
Анна незаметно, но зорко приглядывалась к сестре,
молча удивляясь новым чертам в ее характере. Казалось,
ничего не оставалось от прежней безвольной, неуверенной,
вечно, как заяц, к чему-то робко прислушивающейся Тони.
И в манере держать высоко голову, и в двух тонких
морщинках, прорезавших белый лоб, и в жестах – скупых,
но уверенных, и в густых переливах голоса угадывалась
сильная, неуклонная воля.
«Видно, всех нас закалили испытания»,– думала Анна,
но что-то еще неуловимое, затаенное,– то в задумчивом,
куда-то далеко-далеко устремленном взгляде, то в быстро
гасимой улыбке, то в неожиданно странной интонации —
отличало Тоню от прежней наивной девчонки.
«Что же?» – спрашивала себя Анна и где чутьем, где
наблюдательным взглядом отыскивала ответ. И она
нашла его.
125
Вот почему письмо, которое Тоня, стараясь это
сделать незаметно, положила на стол под альбом в тот
день, когда она собралась уехать, не было для Анны
неожиданным.
Они стояли вдвоем в комнате, густо залитой солнцем
и доносящимся с улицы бойким щебетом птиц, тихим
звоном ручьев.
– Возьми письмо,– твердо сказала Анна,– и считай
его неотосланным.
Тоня вздрогнула, побледнела, будто уличенная в чем-
то стыдном, нехорошем.
Анна подошла к Тоне, обняла ее и они долго молчали,
прислушиваясь, как на тысячи голосов пела весна.
– Я не буду читать...– низким и чуть дрожащим
голосом проговорила Анна,– и так все вижу, не слепая!
Тоня прижалась лицом к груди сестры, тихо
выдавила:
– Уеду..', говорила с директором, отпускает.
– Нет! Ты никуда не уедешь. Ты породнилась с
заводом, нужна ему. Сотни людей знают, ценят тебя. Мне
рассказывали, как ты выручила завод, найдя навый
способ получения эмалита, как организовала хор-. Это
прекрасно, думала я, это прекрасно, что у меня такая сестра.
Ты поднимаешься на высокую гору, Тоня. Не сдавай
позиций, не малодушничай, иди вперед!
Тоня слушала, широко открыв глаза, и слезы быстра
высыхали на ее пылающих щеках.
пиколай с Анной поднялись к парку. Отсюда, с
высоты крутого вала, был виден весь город. Стало быстра
светать. Белый дым тумана клубился у сизоватых
перелесков. Потом над темноголубыми массивами далеких
облаков нежно подрумянилось небо.
Внизу лежала земля, недавно освобожденная от
снега,– мягкая, темнобурая, набухшая влагой, с желтоваты-
мы пятнами примятой прошлогодней травы и острыми
яркозелеными молодыми побегами. Небо было чистое,
голубое. Высоко-высоко висела тонкая, едва уловимая
глазом паутина перистых облаков. Где-то переливчато звенел
первый, должно быть, в этом году жаворонок.
– Как красиво! – тихо проговорила Анна. Ее тонкие
126
брови круто изогнулись.– Ты знаешь, о чем я сейчас
думаю? Я вспомнила речь Вячеслава Михайловича по радио-
в первый день войны. Сколько в ней было гнева и боли!
Мне кажется, я никогда не забуду этот голос.
И еще вспомнилось мне сейчас... Седьмое ноября
сорок первого года. Фашисты подошли к Москве. А на
Красной площади, на ленинский мавзолей поднялся
Сталин. Войска стояли перед ним в строгом молчании. Не
колыхались знамена, не шевелились флажки линейных.
«Будет и на нашей улице праздник!» – сказал он. И вот
теперь праздник наступает.
– Ты знаешь,– произнес Николай, проникаясь ее
настроением,– мы в те дни как-то не думали о том, что
были на гребне истории.
– Может быть, и думали.– Анна упрямо взглянула
на него.– Везде партия, Николай! И там, на фронте, и на
заводах Урала, и здесь...
– Ив том, что ты меня любишь... тоже партия?
– Да, потому что партия возвышала наши души.
Она порывисто обняла Николая. Глаза ее
заблестели.
– Анна, когда я получил извещение о твоей гибели,4
горе оглушило меня. А потом... Я все больше и больше
стал верить в твое возвращение...
– Об этом злополучном извещении я узнала
совершенно случайно в Москве. Встречает меня один врач и
глазам не верит:
«Анна Сергеевна!»
«Ну, конечно. Что у вас такие страшные глаза?» —
спрашиваю.
А он говорит:
«Мы считали вас погибшей. Я работал заместителем
главного хирурга армии и сам выписал похоронную».
Представляю, сколько боли принесла тебе эта
ошибка,– заключила Анна, вздохнув.
– Превосходно! – воскликнул Николай.—
Превосходно, что это извещение оказалось ошибкой.
Стояло безветрие. День обещал быть светлым и
теплым. Небо раскинулось вольным шатром – голубым,
беспредельно высоким и ничто не нарушало его
чистоты.
127
– Какие интересные открываются горизонты, Анна! —
раздумчиво сказал Николай.– Я начал работать над
новым самолетом. Семен Павлович назвал его
воздушной эмкой. Хорошая будет машина! И вместе с тем не
могу расстаться со своим истребителем.
– Откуда в тебе эта склонность к истребителям? —
строго спросила Анна.
– Я влюблен в скорость. Скорость – золотая жила
моей машины. И потом, истребители нужны. Когда мы
заво_юем мир, его надо будет охранять.
Небывалый разлив затопил поля и низины. Внизу, у
самых окраин города, скользили белые, как чайки,
пароходы. Вдали, сверкая на солнце, отливала серебром
Волга. Вокруг парка, будто выйдя на праздник, гурьбились'
зеленые, с белой проседью ветвей, березы, серебристые,
статные тополя и кудрявые, как под венец разодетые,
липы. Свежий березовый дух, и тягуче-сладостный
смоляной запах тополя, и тонкий аромат липы наполняли
воздух хмельной брагой весны. *
На деревьях уже звенела хлопотливая птичья жизнь:
–строились первые гнезда.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Над Волгой полыхал закат. Багряное зарево неоглядно
разлилось по небу. Озаряя медленно наплывающие
сумерки, ярко рдели редкие облака, похожие на далекие
костры.
И река в розово-серебряной чешуе волн, и крутые
обрывистые берега в синеватом дыму тумана, и мглистый
бор с высыпавшими на опушку белотелыми березками в
узорчатых полушалках – все отражало это вселенское
пожарище.
Чардынцев стоял на взгорье и глядел с выражением
человека, увидевшего свое детство. Вон за холмом
раскинулось село Рыбаково. Исстари занимались здесь
рыбачьим промыслом да сплавляли лес в низовья Волги.
. Отец Алексея Степановича был великаном с темным
от ветра и солнца лицом, с большими серыми глазами, в
которых меж «густыми ресницами то светилась ласковая
теплота, то тянуло погребным холодком.
– Степану и в бездолье – раздолье, – говорили про
него. – когда разъярится – его сам Егор Кузьмич
сторонится.
Егор Кузьмич Старшинов – владелец буксирного
парохода и полдюжины барж – держал в своих хватких
руках все окрестные села.
Люди валили лес, сплавляли плоты, промышляли
рыбу, а Егор Кузьмич истово стучал костяшками на
счетах, будто творил молитву, чтоб продать товар
подороже, а людской труд купить подешевле.
Ф-144 – J 129
В пятистенном доме Старшинова – контора,
бакалейная лавка и галантерейный магазин.
У всех при встрече с ним, как колосья сильным ветром,
пригибало спины в учтивом поклоне. У всех в глазах
смирение и покорная готовность.
Только один Степан Чардынцев брезгливо
отворачивался и гордо держал свою огненно-рыжую строптивую
голову. В долги к Старшинову он не влезал: водку пил
редко, по большим праздникам, да и жена умело сводила
концы с концами.
Степана любили за веселый и смелый нрав,
недюжинную силу, искали у него заступничества. Он умел двумя-
тремя словами, произнесенными вполголоса, прижать
Старшинова к стенке.
Для Егора Кузьмича гордыня Чардынцева была
занозой в сердце, да сделать ничего не мог: Степанова
артель славилась по всей Волге честным и прямо-таки
колдовским мастерством.
Пытался однажды Старшинов урезонить Степана:
– Ты, Степа, спроть хозяина не ходи, – сказал он.—
У меня на волков и дураков капканы поставлены.
– Гляди, хозяин, как бы дураки ума не нажили! —
глухо ответил Степан и в потемневших глазах его прошла
до того студеная волна, что Старшинов, хоть и сам был
молод и славился силой, невольно поежился и больше на
эту тему не заговаривал.
С женой Степан всегда был весел и ласков, с сыном
часто крут. Алешка рос хрупким и пугливым.
– Негоже мужику за мамкин подол держаться. Бегай
с ребятами, учись удальству да прыти. Зря других не
обижай, но и себя в обиду не давай. В драку без причины
не лезь, но драки не бойся: уж коли началась потасовка —
кулаков не жалей, старайся, чтоб твой верх был! —
рассудительно наставлял шестилетнего сынишку Степан.
– Учишь чему? Охальник! – незлобиво заступалась
мать, а Алешка еще глубже зарывался в ее подол. – Не
бойся, колосочек ты мой зелененький, подсолнушек
тоненький.
– Овечка безответная! – в тон ей притворно пел
Степан, а потом сурово басил: – Вырастет – всяк шерсть
с него стричь станет. Алешка! Молока материного
пососал – будет! Теперь отцова духа набирайся.
Как-то раз, в знойный Троицын день Степан поднял
130
Алешку на руки и понес к маленькой, но быстрой реке
Шайтанке, втекавшей за деревней в Волгу. Мать побежала
следом: Степан был навеселе.
– Пора тебе, ядреный пескарь, к воде привыкать,—
сказал Степан, раздеваясь и снимая рубашонку с сына.
И вдруг с размаху швырнул Алешку в реку.
Мальчонка плюхнулся в воду и суматошливо забарах-
тал руками и ногами.
– Спасите! Ой, люди добрые, спасите! – закричала
мать, скликая соседей.
Алешка судорожно всхлипывал, задыхался. Кричать
он не мог – страх сдавил горло.
– Лешка! – зыкнул отец, подплывая.– Держись, не
поддавайся, ядреный пескарь!
Взобравшись на спину отца и крепко уцепившись
руками в его плечо, Алешка вдруг стал кричать во все
горло:
–• Мамка-а! Бо... боязно-о!
Мать стонала и металась по берегу, а Степан
раскатисто хохотал:
–• Эх, моряк,– зад в ракушках!..
В артели Степана были богатыри подстать ему.
Работали лихо, дружно ,с красивой жадностью к труду.
Однажды под Казанью прибился к Степановой артели
невидный из себя мужичонка с худым желтым лицом, в
рваном азяме и обвислых, не по росту портах.
– Возьми, атаман. Хлеба много не съем, а на работу
я спор.
– Хо-хо! – дернулся от смеха Степан.– Тебе,
ядреный пескарь, и доброй чарки до рта не донесть. Шел бы
в монастырь, там, сказывают, монашки ласковые.
– Ха-ха! Вали, не раздумывай!
– Там тело нагуляешь, – гоготала артель.
Мужичонка коротко глянул на Степана и круто
повернул к пристани.
Степан опешил. Обычно вспыхивала перебранка,
артельщиков засыпали злыми и солеными словами, а этот
только глянул, и у Степана отчего-то тревожно екнуло
сердце. Были во взгляде его не то, чтобы гордость либо
обида, а какая-то умная, незлобивая, сознающая себя
сила. Давно не видал Степан такого в глазах людей!
– Эй! – прокатилось вдруг по реке, – воротись...
Артельщики застыли от удивления: в голосе Степана
9* W
не слышалось насмешки. Мужичонка вернулся. На
восковом лице его играла тонкая и светлая улыбка.
С тех пор и прижился он в Степановой артели. Звали
его Фомой. Он так быстро и складно вязал плоты, что за
ним не угнаться было самому наторевшему в этом деле
силачу Никифору.
– Ты где, Фома, постиг такую премудрость? —
спрашивали сплавщики.
– В собственной семинарии, – отвечал Фома. – Вы
вот привыкли примеряться к человеку – широки ли
плечи, крепки ли ручищи, а про одну самомалейшую
штуковину запамятовали. – Он ударял себя рукой по
голове. – Она ведь, родимая, тоже в работе свою долю имеет!
– Верно, ты хоть и квелый, да в работе веселый, —
раздумчиво соглашался Степан.
По ночам, когда темное небо мягко опускалось на реку,
закрывая ее, казалось, от всего света, и плоты тихо
скользили по сонно причмокивавшей воде, любили артельщики
слушать рассказы Фомы о разных виденных им людях.
Много их повстречал Фома! И дивно – после его
рассказов крепче верилось в человека, светлей
становилось на душе.
– Человек,– говорил он, – завсегда в гору идет.
Ползал он на четвереньках может сотни, а может тысячи
лет, а потом встал на ноги и все живое вокруг ахнуло —
великанище! И пошел человек, Да так прытко пошел, что
всех тварей обогнал. Вырастали перед ним дремучие
чащобы, разливались безбрежные моря и реки, заманивали
мягкой муравой бездонные болота, а он, непокорный, шел
навстречу студеному ветру, подымался все вышей выше —
к солнцу, к простору...
– А ведомо ли тебе, Фома, что человека норовят
нынче сызнова на четвереньки поставить? – спрашивал
Степан и в голосе его закипал гнев.
– Ведомо, – тихо отвечал Фома и вдруг восклицал
с неожиданно злой и буйной силою: —А ты не давайся!
Кулачищи-то вон какие! На твоем широком хребте сидеть
вольготно. Выпрямись!
– Выпрямись, ядреный пескарь,– смущенно ворчал
Степан, – аккурат в домовину и угодишь. По мерке
сделают!
– Эх! – вздыхал Фома, – вот и надо всем разом...
выпрямиться-то! Кони и те от волков в круг сбиваются,—
132
да копытами, копытами! Либо наше дело взять: одному-
то бревну – немного цены, а вместе свяжешь – плот!
– Та-ак... – протяжно откликался Степан, налегая
грудью на рулевое весло. – Ты все о других сказываешь,
о себе что ж ничего не промолвишь?
– О себе болтать негоже,– щурился Фома.– А тебя
ежели спытают – отвечай: жил-де такой богатей Фома:
денег – кукиш, сказок – сума.
Артельщики переглядывались, а угрюмый Селиверст
доил свою бороду и басовито бросал:
– Видать, есть на тебе грех...
– Грех не орех, сразу не раскусишь,– отвечал Фома.
Степан облизывал горячие губы, глядел вверх.
Небо теперь было густо усеяно изумрудной россыпью
огней. Вдали, подчеркивая густую черноту земли, мягко
светлела бледнозеленая полоска горизонта —
предвестник -грядущего рассвета.
Егор Кузьмич, проведав про Фому, съязвил, глядя на
Степана своими белесыми глазами:
– Слыхал я, ты соловья завел. Гляди, Степанушка,
как бы пташечка беды не накликала!
Степан шагнул к Старшинову, вцепился всей пятерней
в его плечо:
– Язык – не помело, знай держи его за зубами. А
ляпнешь – гляди! Я себя отжалел давно.
Егор Кузьмич потер занывшее от боли плечо, елейно,
нараспев простонал:
– Что ты, Степа, господь с тобой! Я сказал, тебя
жалеючи.
– Пожалел волк кобылу, – сверкнул глазами
Степан, – от вашей жалости сызмальства синяки на душе
ношу!
И все же Степан встревожился: неровен час, выдаст
Фому Старшинов. Крепко, будто стальным канатом
привязался к Фоме Степан: был для него этот душевный
мужичонка живым огоньком в кромешной тьме.
Но в Самаре так же нежданно, как и объявился, Фома
ушел. Перед тем, вечером, он отозвал в сторону Степана
и с виноватой улыбкой сказал:
– Спасибо за хлеб-соль, за дружбу. Зовут...
Переждал, говорят, непогоду, теперь давай сызнова за работу.
– Полно шутить, Фома! Какая еще у тебя тут работа?
Фома снова усмехнулся, но лицо его стало жестким:
133
– А такая, брат, работа, что от нее у царя икота.
– Вон как! – удивленно промолвил Степан и вдруг
взял Фому за руки и, жадно заглядывая в глаза, спросил:
– А нельзя ли и мне в твою артель, а?
– Что ж, можно, – просто ответил Фома, словно
этот вопрос Степана не был для него неожиданным. —
Подходит время новых боев за справедливую жизнь.
После пятого года народ много постиг. – Потом, нахмурив
широкие брови, добавил: – Кому надо, я скажу. К тебе
придет человек.
Вскоре началась война. В Рыбаково она пришла
охапкой повесток о призыве. Вся Степанова артель,
кроме старика Селиверста, попала под мобилизацию.
В тот хмурый, не по-летнему стылый день по селу ку-
ралесила и хрипло кричала, надрывая душу, пьяная
гармонь Никифора. Потерянно голосили и стонали сразу
потемневшие от горя бабы, притихли, съежились в
непонятном страхе ребятишки.
Новобранцы невесело озирались: их оплакивали, как
покойников. Тоска и недоброе предчувствие сжимали
сердце.
Один Степан казался веселым.
– Да будет вам выть! – покрикивал он на баб. —
Прежде до нас никому дела не было. Живи себе как
хошь: коня нет, – запрягай вошь. А нынче царь Николай
берет нас в свою артель: харч мой, одежа – тоже
казенная, ваша только башка зеленая! Никифор! Жарь
шибче – плясать буду !
Красна девка у колодца
Целый день елозила,
На милого загляделась —
Косу приморозила.
И-эх, рассыпался горох
На четырнадцать дорог!
И пошел отбивать причудливую дробь.
Но за прибаутками и лихим пьяным приплясом
таилась горестная дума: как жить станет Стеша без меня?
Что будет с Алешкой? Мальчонке десять годов – все
равно, что цветок на луговой меже: кто ни пройдет —
топчет...
И ощупывая сына жадными и крепкими пальцами,
будто пробуя, выдержит ли он, устоит ли на ветру, что
поднялся над его судьбой, говорил, трезвея и задыхаясь:
134
– Алешка!.. Ты теперь единственный мужик в дому.
Не дожидайся приросту. Дуй в артель к деду Анисим»у!'
Я ему скажу, чай, не раз выручал его...
Дед Анисим Алешку в артель не взял. Стеша
нанялась к Егору Кузьмичу, ходила за коровами и телятами.
Алешка по ночам пас семерых старшиновских коней.
Месяц, толсторожий -и жирный, глядел на Алешку
строго и пристально. Среди репейников и польщи бродили
кони. Их глухое, сытое фырканье да мягкий стук подков
становились тише, отдаленнее.
Алешка спросонок вздрагивал, вырывался из дремоты.
В лицо глядел месяц, сердито насупив густые брови.
?Алешка замирал в испуге: месяц был похож на Егора
Кузьмича.
«Кони разбрелись, а ты дрыхнешь, стервец окаянный!
Может, тебе подушку пуховую принесть?»
Алешка вскакивал, бежал собирать коней.
Иногда лик месяца выглядел печальным,
благообразным и тогда он казался ему богом, оглядывавшим свои
несметные владения. Не мигая глядел Алешка на бога
и шептал, как молитву:
– Боже всемогущий и милостивый! Тебе сверху все
видать – страны чужедальные, моря и реки. И войну
видать тебе, чай. Разыщи там тятю моего, Степана
Васильевича, да скажи – жив ли он, тятя мой?..
Глаза Алешки заполнялись слезами и ему чудилось,
что бог смеется долго и страшно. Алешка испуганно
озирался: то в лесу хохотал филин.
Рано поутру, когда над Шайтанкой еще дымился
туман, Алешка уже сидел в лодке. С луп>в веяло
медовым запахом трав. Просыпаясь, с ленивым ворчаньем
шумел лес.
Рьвба хорошо удилась. Алешка насаживал новых
червяков, плевал на них точно так же, как это делал отец, и,
закинув лесу в воду, терпеливо ждал...
В 1918 году к крутому берегу села Рыбаково причалил
небольшой буксирный пароходишко, вооруженный
установленной на корме пушкой и грозным названием
«Беспощадный».
На берег выпрыгнул широкоплечий человек в черном
135
морском бушлате и побежал по крутосклону к крайней
избе, за которой начинался овраг.
Стеша полола огурцы, низко пригнувшись над
грядкой. На скрип калитки она оглянулась и обомлела: до
боли родные серые глаза опалили нестерпимо жарким
огнем...
– Степа!
Он обхватил ее своими сильными руками и целовал,
целовал плачущую, оглушенную внезапным счастьем.
– А Алешка где? – спросил он, оглядевшись.
– Рыбачит.
– Ядреный пескарь! Небось, уже вытянуло его.
– Ростом в отца, да только тонок, что лозинка.
Они присели на крыльце. Стеша, торопясь и задыхаясь,
рассказывала о своей жизни. Лицо ее было
устало-счастливое, с едва приметными дорожками от слез на щеках.
– Старшино©-то силушки нахватал. Пароход и
баржи »сумел продать. «Советы, – говорит, – все едино
бесплатно отберут». Теперь покупает землю. Истый паук!
– Оборвем клешни. Дай с беляками разделаться!
Фому помнишь? В пятнадцатом году я его в Балтийском
флотском экипаже встретил. Листовки матросам тайно
раздавал Фома-то наш. Дуй, говорит, Степан, ко мне в
артель. Революцию делать. Кто был ничем, тот станет
всем!
Эх, Стешка, с какими людьми меня он свел!
Пригляделся я к ним, послушал и порешил: у этих компас
верный. Настоящие носители рабочей и крестьянской правды,
а короче если назвать – большевики. Теперь Фома у нас
комиссаром Волжской флотилии.
Степан несвязно, урывками рассказал, как мытарила
его эти годы бесжалостная доенная судьба.
С теща вдруг встрепенулась:
– Пойдем в. горницу. Умыться тебе, чай, надо,
отдохнуть. Я самовар поставлю.
– Стой, Стеша, стой, лебедь ты моя белая, —
удерживая ее, сказал Степан грустно и вместе твердо. В этот
миг протяжно и тонко загудел пароход. – Слышишь,
зовет? Я отпросился на полчаса... Да вот незадача —
Алешки нет. (Кликнуть бы его, а?
Степан ^произнес это с такой досадой и тихой мольбой,
что Стеша, не успев осознать неожиданно страшного
смысла его слов, кинулась искать сына.
136
Но Степан уже увидал с высоты крыльца шагавшего
за плетнем светлоголового парня с удочками и корзинкой








