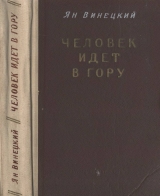
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Наташи своей щекой. Наташа вполголоса вторила чистой,
как родник, мелодии...
Оркестр так же неожиданно оборвал игру, как и начал.
Глебу показалось, что музыканты играли бессовестно
мало, но узкая прядка волос, прилипшая к блестевшему
лбу Наташи, рассеяла его недоумение.
– Выйдем на улицу,– сказала она.– Здесь
слишком много яркого: свет, музыка, речи – голова
закружилась!
Она хитровато улыбнулась, давая понять, что говорит
это в шутку.
– Уж не от моей ли речи головокруженье? —
засмеялся Глеб, пробираясь вместе с Наташей к выходу среди
образовавшейся после танцев толчеи.
На лестнице нижнего этажа стоял полумрак, и Глеб
хотел было взять Наташу под руку, как это делают все
молодые парни на выпускных вечерах, свидетельствуя,
что вчерашние десятиклассницы стали уже взрослыми
девушками, но Наташа быстро увернулась и, глядя на
него снизу вверх, строгим и немного по-детски
таинственным полушопотом проговорила:
– Ты хорошо сказал, Глеб: «быть токарем – это
большой подвиг!» Я об этом часто думала. И мне
кажется... Я решила... Да, да, решила, – повторила она,
как бы окончательно утверждая свое решение. – Я
пойду на завод. – И, улыбнувшись, добавила: – На
папин завод.
Глеб приостановился, не зная, принимать ли всерьез
ее слова. Он собрался уже что-то сказать насчет
благотворного влияния своей речи, но, взглянув на
доверчиво-строгое и какое-то, словно озаренное внутренним
светом лицо Наташи, горячо произнес:
– Это очень правильно! Ты помнишь, лет пять тому
назад я говорил, что девчонка 'не может быть
токарем.
– Помню, – ответила Наташа.
– Я был глуп. Прости меня, Наташа!
Он воодушевился и стал рассказывать о своей
работе.
Маленькая кепочка с узеньким козырьком лежала на
тугой копне его рыжеватых, с багрянцем волос. Два
236
чуба, как два широких языка пламени, выбивались из-
под кепки, выдавая неукротимый его характер.
– Девочки говорят, что надо продолжать учебу.
Завод никуда не убежит. Зато ты придешь сразу
инженером. А я считаю, что прежде чем стать инженером, надо
поработать, узнать жизнь, производство.
– А почему нельзя учиться на заводе? У нас
открывается нынче филиал машиностроительного института.
Улица была завьюжена добела щедрым майским
цветеньем. С запорошенных палисадов головокружительно
тянуло сиренью. Звезды и те казались диковинными
цветами.
Эх, заплутаться бы в этой сказочно-чудесной немой
метели, чтобы до утра не найти дорогу к дому. Вот бы
напился он сладостно-хмельной неутолимой наташиной
улыбки, вот бы нагляделся ее лукавых и чистых глаз!
Глав а вторая
Наташа проснулась с ощущением
радостно-тревожного ожидания, как семь лет назад, когда она в первый
раз после приезда из Ленинграда собиралась в школу.
Она поминутно взглядывала тогда на стенные часы и,
плохо еще разбираясь в мудреных перемещениях
стрелок, громко звала:
– Мама, уж верно семь часов!
– Спи, стрекоза! Я знаю, когда разбудить, —
отвечала Марфа Ивановна с напускной строгостью, но и она
не спала, дивясь спокойствию Петра Ипатьевича,
который сладко похрапывал.
Потом начиналась праздничная суета сборов.
Наташу наряжали в новое, специально сшитое платьице, со
снежной белизны воротничком, придававшим ее
озорному личику некую праздничную степенность; в
коротенькие косички вплетали два больших банта.
Наташа брала черный портфель и с уморительной
важностью шла в школу под торжественным эскортом
Петра Ипатьевича и Марфы Ивановны.
Теперь Наташа встала тихо, чтобы не разбить
чуткого сна стариков, и вышла в соседнюю комнату.
В глаза ударило солнце – все окна густо позолотила
заря. Небо было глубоким и чистым. Только чуть
повыше горизонта угадывались тонкие, как паутина, белые
кружева облаков.
237
Стройная и немного уже кокетливая березка ласково
перешептывалась с резвым ветром.
Наташе стало необъяснимо весело.
Чем больше ей становилось лет, тем огромней и
глубже, как вот это бездонное небо, казался мир, тем
просторней и светлей было в ее душе, тем больше новых,
небывалых ранее чувств и мыслей рождалось в ней.
За стеной часто ворочалась и вздыхала Марфа
Ивановна. Вчера у Наташи с ней произошла размолвка.
Марфа Ивановна продолжала противиться поступлению
Наташи на завод.
– Вот докторицей бы! – беспрестанно повторяла
она. – Завсегда чистая и белая, как лебедь. Или
артисткой – орлицей гордой. Ты ведь любишь
представлять на сцене.
– Ах, мама, мало ли что мне'кажется сейчас
любимым. Нужно проверить себя по-настоящему и тогда
сделать выбор. Я ищу...
– А чего искать, коли давно до тебя найдено.
Слепому видно, кем лучше быть: докторицей либо токарем.
– Мама, у тебя старые-престарые взгляды на жизнь.
Извини меня, но над подобной мудростью сейчас
посмеются.
– Я стара и глупа, конечно, только скажу тебе:
пожалеешь, что не послушалась, да поздно будет!
Молодая-то дурь развеется.
– У всякого свой ум...
– Свой ум! – закипела Марфа Ивановна. —
Нажила уже!
Петр Ипатьевич сидел насупившись. Но не оттого,
что не одобрял решение Наташи, тяга ее к заводу – это
частица его души, это его рассказы о мастерстве и
характере своих товарищей, это та драгоценная жилка,
что передана им Наташе, как эстафета, чтобы не
переводились в роду Бакшановых умельцы, влюбленные в
работу с металлом. Не уверен был старик в прочности ее
выбора. «Не агитнул ли ее какой-нибудь шустрый
заводской парень? – опасливо думал Петр Ипатьевич. – И
она ее из интереса к делу, а из тяги к искусителю
возмечтала о заводе?» Он строго взглядывал на высокий
лоб Наташи.
– Вишь, светлый месяц, притча какая... – сказал
238
он, обращаясь к жене. – С одной стороны, девку
приневолишь – навек обездолишь, с другой"же... – Он вдруг
повернулся к Наташе, спросил: – Ты на какой участок
думаешь проситься? Не к Глебу, случайно?
Наташа смущенно поджала губы, отвела глаза.
Потом, пересилив минутное замешательство, круто
повернула голову к отцу:
– А почему случайно? Не ты ли мне сам хвалил
бригаду Глеба? – Наступил черед смутиться Петру
Ипатьевичу: он не ожидал такой прыти от Наташи.
– Так-то оно так, – неопределенно затянул Петр
Ипатьевич. – Парень он хоть куда... Да только...
петушиный больно у него характер!
– Что же, хорошо. Бригадиром нельзя быть с
характером курицы.
– Да нет, видишь ли... Собственная персона у него
на первом плане. Я, да я, да сызнова я! Рабочей,
понимаешь ли, скромности маловато.
– Ты мне об этом прежде не говорил, – задумчиво
отозвалась Наташа.
– А ты прежде не спрашивала, – хитро
прищурился отец. – Вот ты сказала: «Я, мол, ищу...» Но нужно,
милая моя, знать, что ищешь. И нужно очень хотеть
найти,..
– И ты с мамой заодно! – с обидой в голосе
бросила Наташа. – Будто я уж такая глупая девчонка.
В ее глазах увидал Петр Ипатьевич сполохи того
огня, что живет в людях сильных и верных душой. Он
резко поднялся со стула и, шагнув к Наташе, взял ее
за руки:
– Я – заЬ Благославляю и верю в тебя, дочка!
Марфа Ивановна вышла из комнаты, сердито
хлопнув дверью. Оба разом—'И Петр Ипатьевич и Наташа—
раскатисто рассмеялись...
Так выглядела размолвка Наташи с Марфой
Ивановной.
А время двигалось до того медленно, что Наташа не
поверила часам и включила репродуктор. Но молчание
гюпрежнему нарушалось только сонными посвистами
Петра Ипатьевича да полным достоинства, уверенным
тиканьем будильника. До гудка оставалось еще целых
сорок минут.
239
Где-то вдали задумчиво, «может быть еще не
проснувшись, пропел петух. Ему тотчас, будто эхо, откликнулся
скрип отворяемой калитки. Наташа молча засмеялась:
калитка кукарекнула самым естественным образом.
Первый рабочий день начинался весело. Всю
минувшую неделю Наташа оформлялась на завод: заполняла
анкету, писала автобиографию, фотографировалась.
Анкета и после того, как Наташа поставила свою
подпись, казалась незаполненной: Наташа, к сожалению,
не участвовала ни в одном из исторических событий*
потрясавших мир: Октябрьской революции,
гражданской войне, Великой Отечественной войне. Правда,
учась в школе, Наташа преобразовала кружок
рукоделия, где прежде делались цветочки и кружева, в кружок
помощи фронту—девочки стали шить -белье для бойцов
Советской Армии, но это не давало ей, конечно, права
считать себя участницей Отечественной войны.
Автобиография и вовсе оказалась до смешного короткой:
родилась в таком-то году, у таких-то родителей, поступила
в школу, окончила ее. Все.
– Не густо, – сказал работник отдела кадров,
молоденький паренек, прочитав ее.
– А у вас гуще? – сузив глаза, спросила Наташа.
Паренек покраснел и смущенно нахохлился: удар был
меткий...
Наташа еще с вечера выгладила простенькое, но
очень ладно сшитое коричневое платье, почистила туфли
на низком каблуке. Теперь, поглядевшись в зеркало,
Наташа не удержалась от соблазна приладить к платью
белый кружевной воротничок —• она привыкла к нему за
школьные годы. Потом долго старательно заплетала
косы и соединила их так, что они легли двумя тугими
полувенками на шее.
Наташа вспомнила, как однажды, когда ей было
года четыре или пять, она, услышав гудок, спросила отца:
– Кто это?
– Завод, – ответил отец.
– Что ж он так громко кричит? Он, верно,
великан?
– Великан, Наташенька.
– И злой, верно?
– Нет, Наташенька, добрый.
– А чего он кричит, раз добрый?
240
– Это он дает знать людям, что началось самое
важное: труд!
С тех пор, заслышав гудок, Наташа говорила:
– У-у... дядя Завод кричит.
Наташа усмехнулась милому воспоминанию и,
пройдя в спальню, осторожно приблизилась к Петру Ипатье-
вичу, зажала ему двумя пальцами нос.
Петр Ипатьевич дернул головой и открыл глаза:
– Уже собралась? Ну, ну, в добрый час...
Высоко летали птицы, предвещая ясный день.
Свежие потоки воздуха мягко коснулись лица.
Наташа шла молча, но в груди, не утихая, звучала
музыка.
Она идет на работу! И вместе с ней идет приемный
отец, идет Глеб, идет Ибрагимов, идут все
замечательные люди, о которых не раз рассказывал Петр
Ипатьевич. Она так полюбила этих людей, что сознание
предстоящей работы с ними доставляло ей неизъяснимую*
радость. Она быстро изучит токарное дело. Это же не
так сложно. Главное – захотеть, очень захотеть, как
говорит Петр Ипатьевич. И потом, Глеб ей поможет. Он
лучший токарь цеха. И он вообще славный. Петр Ипатье-
вич сказал, что Глеб слишком петушится. Вот она
овладеет токарным станком и обгонит, непременно
обгонит Глеба. Тогда посмотрим, как полетят с него
петушиные перья. У Наташи тоже есть характер, и она умеет
добиваться цели!
– Ты почему, светлый месяц, попросилась в цех
Добрьивечера? Выбрала б какой-нибудь передовой... —
проговорил Петр Ипатьевич.
– Интересней вытягивать отстающих, – задорно*
ответила Наташа.
– Вытягивать! Хо-хо!—затрясся он в неудержном
смехе. – Тебя самое вытягивать за уши надо—учить да
показывать.
'– Ничего, в ученицах не засидимся.
– Шустра, матушка, шустра! – хохотнул старик.
Потом спросил, метнув в нее взглядом, снова норовя-
застигнуть врасплох:
– А.все же кто присоветовал тебе пойти к Добры-
вечеру? – И тут же, словно прицелившись: – Глеб?"
Наташа подняла глаза – веселые, полные озорной1
смелости:
Ф-444-16 241
– Глеб. – Лицо ее залилось румянцем, но она не
опустила глаз: от приемного отца .у нее не было тайн.
Петр Ипатьевич молча жевал ус...
Его внезапное молчание вызвало в Наташе треволу.
Что скажет ей Добрывечер? Как встретят ее рабочие?
Не затянется ли и впрямь ее токарное обучение и не
покажет ли она себя несмышленой на работе? Не слишком
ли Mrforo в ней самоуверенности? Все эти вопросы вдруг
заворошились в ее голове, омрачая так чудесно
начавшееся утро.
В проходной Наташа с независимым видом
предъявила пропуск по-медвежьи большому и грузному
охраннику с лихо закрученными усами на загорелом лице.
На животе у него болтался крохотный коровинский
пистолет, словно по законам контраста подчеркивая всю
громоздкость своего хозяина.
То ли оттого, что пропуск был совершенно
новеньким, то ли желая наглядеться на хорошенькую девушку,
охранник довольно долго вертел пропуск в руках и
глядел на Наташу так пристально, что она не без испуга
спросила:
– Что-нибудь не в порядке?
Охранник, будто разом стряхнув с себя не в меру
.обуявшее его любопытство, молодецки щелкнул
каблуками и, просияв, зычно ответил:
– Наоборот! Порядок – на все сто!
«Чудак!» – отметила про себя Наташа и одарила
–его снисходительной улыбкой.
Петр Ипатьевич подождал ее и, когда они подошли
к механическому цеху, быстро проговорил:
– Пойдем вдвоем к Добрывечеру.
– Не надо, – остановила его Наташа,—я не
маленькая и не нуждаюсь, чтобы меня водили за руку. —
Гася прорвавшуюся вспышку излишней резкости, мягко
добавила: – Иди, папа, работай.
– Ну, девка!—сказал Петр Ипатьевич тоном не то
порицания, не то одобрения и, покачав головой, пошел
к себе, в пристройку слесарной мастерской.
–В темном тамбуре цеха Наташа едва не столкнулась
? высоким, в военном кителе человеком, который тоже
ощупью искал дверь. Наконец, дверь распахнулась, и
242
мужчина, пропуская Наташу, проговорил глубоким
грудным голосом:
– Ну и темень! Мы рисковали с вами украсить лбы
изрядными шишками.
Наташа рассмеялась:
– Что ж, для начала шишки неизбежны.
– Для начала? Стало быть, и вы здесь новичок?
– Да, первый день.
– Очень хорошо!
Наташа сразу почувствовала какое-то безотчетное
расположение к этому сероглазому, с седыми нитями на
висках «дядьке». (Наташа всех мужчин старше себя
называла «дядьками».) «Интересно, кем поступил ое?
Инженером? Диспетчером? Китель у него офицерский. И
лицо волевое, умное. Наверное, инженер...»
Вся территория цеха была заставлена токарными,
револьверными, сверлильными станками, напоминая
беспорядок оставляемой квартиры. Повсюду чернели ямы
взрытого фундамента. Тут и там, освещенные солнцем,
кипели золотые фоетаны пыли.
– Ого! Мы, кажется, не во-время. Тут идет
настоящее переселение, – сказала Наташа, смущенно
подернув узенькими плечами.
Она ожидала встретить строгий порядок
расставленных, как в школе парты, станков, ровный гул моторов,
сосредоточенные лица рабочих. Именно так выглядел
этот цех, когда год тему назад Наташа приходила сюда
с экскурсией.
Человек шесть рабочих, облепив токарный ставок,
ритмичными движениями проталкивали его к дверям.
– Р-ра-аз, два-а, взяли!—петухом заливался круто-
плечий парень в солдатской гимнастерке.
И хотя он сам и не поднимал станка, а только
командовал, пот покрыл его лоб и круглые щеки серебристой
росой.
– Р-ра-аз, два-а... – снова запел парень и вдруг,
глянув на дверь, осекся да так и остался стоять с широко
раскрытым ртом. Потом бросился к шутнику Наташи,
чуть не сбив ее с ног.
– Т-товарищ полковник! Т-товарищ полковник! —
повторял он, крепко пожимая руку человеку в военном
кителе.
– Здравствуй, Ваня, здравствуй, дорогой.
Ж* 243
Видно было, что обоих встреча очень взволновала.
«Полковник?» – Наташа испуганно скосила глаза;
она впервые видела так близко «настоящего
полковника».
– М-меня к-контузило на другой день после в-вашего
р-ранекия, – продолжал парень, – язык отнялся. Думал*
в общество г-глухонехмьих з-записьюаться. Да на счастье,
капитан медицинской службы один повстречался... 3-3оя<
Ивановна...
Попробуй, говорит, Иван Александрович, в
младенца обернуться. Что, думаю, смеется она надо мной, что^
ли? Ничего себе младенец – пять пудов весом. А она все
свое: старайся, Ваня, очень старайся «ма-ма»
выговорить. И обидно и смешно! Пришлось подчиниться.
Сначала мычал, потом обучился «мама» выговаривать. А
там пошло! С-стихи читал, басни Михалкова!
Наташа хотела пойти поискать контору начальника
цеха, но Ваня встал у единственного узкого прохода меж
станками, и ей невольно пришлось остаться на месте.
Она поняла, что рассказчик, напуганный внезапно
свалившейся было на него немотой, боялся теперь молчания,
– Я вижу, ты не только говорить, но и командовать
обучился.
– Командую! Г-горлом только и беру. А работатьг
между нами– говоря, не умею. – Он покосился на
Наташу. – Начальник цеха на людей не смотрит, а все куда-
то мимо, будт'о главное где-то там, ч-чорт его знает гдеГ
Он снова опасливо оглянулся на Наташу, все еще не
взяв в толк, кем она приходится Чардынцеву.
– Уйду я отсюда! Не привычен я быть в хвостовом;
положении.
– Стало быть, собираешься дезертировать? Похоже^
при контузии из тебя весь боевой дух вытряхнуло.
– Т-товарищ полковник...—мучительно перекосил
брови Ваня.
– Понятно! Пока ты тут болтал, бригада твоя
разошлась курить. Иди. Поговорим потом.
Услышав резкие и одновременно -сдержанно-строгие
ноты в его голосе и хорошо помня, что после этого с ним
говорить небезопасно, Ваня повернулся и, обойдя станок,,
пошел искать свою бригаду.
Наташа взглянула на своего спутника. Лицо его
помрачнело. Серые улыбчивые глаза стали строгими.
244
– Вы, вероятно, к начальнику цеха? – спросил он.—
Пойдемте. Я тоже к нему.
В конторе цеха было сильно «накурено. В голубом
^папиросном дыму, одни на длинной скамье, другие —
прямо на столах, сидели мастера, наладчики станков,
контролеры ОТК – весь комсостав цеха. У двери,
ведущей в кабинет начальника, стучала на машинке молодая
девушка с высокой и, вероятно, очень непрочной при-
яеской. В ее розовьих маленьких ушах дрожали и
приплясывали сережки, широкие и ослепительно-блестевшие,
как две блесны.
«Эх, беда тому окуню, что клюнет на эту
приманку», – отметил про себя Чардынцев, быстро глянув в ее
узкие злые глаза.
– Вы к Добрывечеру? .Он занят,
– А разве так бывает, чтобы человек на работе не
был занятым? – громко спросил Чардьшцев. Все дружно
засмеялись, довольные тем, что вновь пришедший
удачно «отбрил» заносчивую девицу. Но в следующую
минуту, смекнув, что это замечание может относиться и к
ним самим, они поспешно стали гасить папиросы и по
одному выскальзывали из конторки.
Секретарь Добрывечера покраснела и хотела было
уже ответить дерзостью, но в это время отворилась дверь
кабинета и показалась голова начальника цеха —
крупная, с рассыпавшимися русыми волосами.
– Что тут за шум? – спросил недовольно
Добрывечер.
– Мы к вам, – ответил Чардынцев, опережая
секретаря, которая, судя по ее холодному лицу с надменно
перекошенными тонкими губами, собиралась -сказать
что-нибудь язвительное по их адресу.
Добрывечер окинул Чардынцева медленным
взглядом, словно пытаясь угадать, кто такой этот незнакомец,
затем перевел глаза на Наташу, и ей показалось, будто
он силился что-то вспомнить.
Наконец, отворив дверь настежь, Добрывечер
пригласил их войти. В кабинете был тот же беспорядок, что и в
цехе. Пыльные, давно немытые стекла окон, раскиданные
по всей комнате стулья, чугунные отливки, шестерни,
болты, валявшиеся на полу.
Проходя к столу, Добрывечер споткнулся об одну из
деталей и сердито отшвырнул ее ногой.
245
На столе среди исписанных крупным размашистым
почерком бумаг, как еж, ощетинилась окурками
пепельница. Дым синеватым облаком дрожал у потолка,
смешавшись с паутиной.
Пока рассаживались, Наташа успела бегло
разглядеть Добрывечера. Это был большой, грузный для своих
лет, мужчина с широким открытым лицом и горячими
карими глазами. Бьмо в этих глазах что-то глубоко
затаенное, страдающее, и—удивительно! – такое
выражение появлялось ненадолго лишь тогда, когда он
задумывался, глядя поверх собеседника. Так в межветрие
можно заметить камни на дне реки, но вот снова подул
ветер и тебе видна лишь зыбкая чешуя волны...
– Из редакции? По поводу наших душевных
переливов в связи с отдачей знамени сборщикам? —
спросил Добрывечер, протягивая Чардыяцеву коробку
«Казбека». Он принял их за корреспондентов.
– Не угадали, – засмеялся Чардынцев, беря
папиросу. – Впрочем, об этих душевных переливах нетрудно
догадаться.
Добрывечер молча махнул рукой.
Наташа понимала, что ей нужно начать разговор с
Добрывечером первой, так как ее гаутник намеренно не
торопился, желая, видимо, остаться с начальником цеха
наедине.
– Я прибыла в ваше распоряжение, – сказала она?
чеканя каждое слово, и подала Добрывечеру приемную
залиоку.
Против ожиданий Наташи, Добрывечер приветил ее
"с шумной веселостью:
– О, дочка нашего Щпатьевича! Це дило! Мне как
раз требуется шустрая дивчина —диспетчером.
– Вы невнимательно прочитали, товарищ начальник
цеха, – улыбнулась Наташа. – Там написано —
«ученица токаря».
Добрывечер залюбовался игрой ямочек на ее щеках.
– А це мы передилаем. Диспетчер—это ж
начальство!
– Нет, я хочу работать именно ученицей токаря,—
решительно отрезала Наташа, поправив рукой
падающую на лоб упрямую прядь волос.
Добрывечер удивленно присвистнул:
– Ого!
246
– Ага!– в тон ему ответила Наташа. И Добрывечер
и Чардьшцев громко расхохотались от этого милого, по-
детски простодушного ее озорства.
– И прошу поставить меня на ученье к Глебу Бак-
шаиову.
– А почему именно к Глебу? – спросил Добрыве^
чер, прищурясь. Наташа покраснела, но тут же, прогнав-
смущение, смело ответила:
– Глеб – лучший токарь.
– Вы видали? – спросил Добрывечер у Чардынце-
ва, как бы призывая его в свидетели. – Сначала сказала,
шо явилась в мое распоряжение, а теперь
распоряжается сама!
– Я думаю, что4 девушка права, – поддержал
Наташу Чардьшцев, – получить профессию необходимо. И
надо ей пойти навстречу.
Наташа с восхищением и благодарностью взглянула
на Чардынцева. Нет, этот дядька ей положительна
нравился. В нем виделось что-то большое, умное,
сердечное, такое, что заставляет верить ему, идти за
ним.
Добрывечер повернулся всем корпусом к Наташе:
– Ты знаешь, дивчина, сколько получает диспетчер,
а? Шестьсот карбованцев в месяц! Шестьсот! А ученицей
ты поначалу будешь получать карбованцев двести, да
разве только еще синие очи Глеба впридачу.
Наташа вскипела, сердито поджала губы.
– Ну, ну, – заторопился Добрывечер, заметив ее
негодование, – понимаю! Синие очи дороже
карбованцев.
«Ничего-то вы не понимаете!» – хотела ему крикнуть
Наташа, она уже уставила на него свои отчаянные,
цыганские глаза, но Добрывечер протянул ей пропуск и
примирительно сказал:
– Добре. Иди к Глебу. И нехай он тебя учит так,
шо'б ты в ученицах ее засиделась.
Наташа вся засветилась от радости и, поблагодарив,
вышла из кабинета.
– И вы – в ученики? – проницательно спросил
Добрывечер.
– И я, – ответил Чардьшцев.—До сих пор
заведовал парткабинетом.– Потом, взглянув на Добрьшечера,
улыбнулся: – Я знаю, что вы сейчас подумали: «Ну, кг
247
сидел бы в своем кабинете. Зачем людей отрывать от
работы!» Так?
– Так. Вы отгадыватель мыслей. Можно поступать
в цирк.
«Ого! Колется!» – заметил Чардынцев и быстро
ответил:
– Я решил поступить к вам.
– Тот же цирк, хотите вы сказать?
– Вы тоже отгадыватель мыслей.
– Цирк, верно! – с горечью вздохнул Добры-
&ечер. – Кем же вас поставить?
– Диспетчером, – ответил Чардыицев.
– Диспетчером? – удивился Добрьивечер. – А вы
знаете, якие качества должны быть у диспетчера?
Быстрые ноги, меткий глаз и широкое горло!
– Все это у меня есть, – улыбнулся Чардынцев.
Глава третья
В воскресенье Чардынцев направился домой к Добры-
вечеру. В комнате Ивана Григорьевича царил такой
беспорядок, что хозяин ее густо покраснел от неловкости.
Кровать была наубрана. На столе, рядом с
радиоприемником «Рекорд», на газете стояла черная от сажи
сковородка с остатками яичницы. На раскиданных
вокруг стола трех стульях валялась как попало брошенная
одежда. В простенке между окнами в<исел большой
портрет молодой женщины с тугой косой, обернутой вокруг
головы. Ее лицо показалось Чардынцеву знакомым.
– Здравствуй, Иван Григорьевич! Одиночествуешь?
– Оди-и-н... – протяжи-ю, будто простонав, ответил
Добрьивечер.
– Нехорошо одному быть, Иван Григорьевич.
Человек – животное общественное.
– По теории так... сам читал! А в жизни... иной
раз... усе летит вверх тормашками.
Чардынцев улыбнулся этому его украинскому
произношению – усе.
– Разве наша теория не в ладах с практикой?
– Не то я хотел сказать... Теория—главная ось
жизни... Знаю сам!.. Да ты в ней, в жизни-то...
случается... як вылетевший из станка болт.
248
– Надо поднять его и поставить на место, – сказал
Чардьшцев, пристально глянув ему в лицо.
– Нельзя, – вздохнул Добрывечер и понуро опустил
голову. – Уся резьба сорвана! ¦
– Слабая, стало быть, была резьба, никудышная!
Добрывечер вскинул голову. В карих глазах его
блеснул слабый протестующий огонек.
Чардынцев удовлетворенно постучал пальцами по
столу. Он знал теперь, где в Добрывечере можно высечь
искру.
– Человек – не болт, Алексей Степанович, —
грустно возразил Добрывечер.
– Именно! Он крепче болта, крепче стали!
Добрывечер молчал.
«Как к нему подойти? Словно черепаха, спрятал
голову под панцырь... Э, прямая дорога короче!»
– Познакомился я недавно с историей второго
механического цеха, – начал Чардынцев негромко.– Славная»
история! Цех всегда шел первым. Кто вел его* вперед?
Молодой инженер Добрывечер. Красиво! Таких людей
стоит любить, стоит уважать. – Чардынцев подошел к
окну, и лицо его осветилось воспоминанием. – Был и у
меня в дивизии один полк... гвардейский! Майора
Сухова. Ах, какие то были орлы. Души в них не чаял! – On
отвернулся от окна, и Добрывечер увидел суровую
складку"'разрубившую его переносье. – И вот, узнай я сейчас,
что Сухов и нынче, и в мирной учебе – не первый, ее
лучший командир, а, извини, предмет для склонения на
всех совещаниях, прорывщик, отставший обозник, я быг
честйое слово, не только перестал бы его уважать, а
возненавидел бы. Люто возненавидел!
Чардынцев помолчал, выстукал пальцами длинную
и, как Добрывечеру показалось, оглушительно громкую
дробь.
– Как же ты, Иван Григорьевич, дал себя
отодвинуть в третий эшелон?
Добрывечер пружинисто встал. На сером, в синих
тенях от бессонницы лице сверкнуло негодование.
– Кто вы такой, шо я должен перед вами отчет
держать? – вскричал он неожиданно тонким
фальцетом.– Кто вы такой, шо пришли растравлять мне душу?Г
– Садись, – сказал Чардынцев решительно. Серьге
глаза его потемнели.
249
Добрывечер, невольно повинуясь непреоборимой
внутренней силе этого голоса и упорного, повелительного
взгляда Чардынцева, быстро сел.
– Садись, крутой кипяток, – продолжал Чардьин-
цев, помолчав. – Кто я такой? Тебе обязательно
нужен мундир, высокие полномочия? SA если меня
уполномочила совесть, если я пришел к тебе как коммунист —
поговорить откровенно и честно?
Добрывечер медленно поднял глаза. Во взгляде Чар-
дьшцева он прочел живое участие и какую-то теплую,
обнадеживающую мысль. Сердце Ивана сжалось новой
болью.
– Расскажи, Иван Григорьевич, что у тебя
приключилось? – тихо опросил Чардынцев.
– Приключилась беда: сеял рожь – выросла
лебеда.
Чардынцев молчал. Он понимал, что Добрывечеру
нужно теперь внимание, одно внимание.
– Студентом когда был... усе смеялся над теми, кто
нежданно влюблялся и ходил потом ясной зорькой,
будто зажглась в хлопце душа чудным светом! Смеялся...
А потом тот огонь запалил и меня. И, поверите ли, все
во мне разом вспыхнуло, як в сухом, забитом буреломом
лесу. И понял я: великая сила – любовь... праздник это
у человека. Понял и испугался: а вдруг як погаснет
озаривший меня огонь, вдруг кто выкрадет его у меня?
Бывало, уйдет Лиза в институт – боязно, задержится на
комсомольском собрании либо в кружке – озноб меня
бьет. И Лиза приметила во мне этот страх. Смеется,
колокольчиком заливается.. Нравилось ей, чертяке,
тайное беспокойство мое...
А потом... Лиза увлеклась конькобежным спортом.
Призы стала брать. И тренер возле нее... бедовый такой
хлопец... кружится, як муха возле чашки с медом... Кто-
то– добрая душа! – в неделю дйЗа раза в мой
почтовый ящик аккуратно письма подбрасывал. Безвременно
теряете, дескать, жену, дорогой товарищ. У
заслуженного мастера спорта с вашей Лизой полный и
безусловный контакт образовался. И усе в таком духе.
Копил я, собирал тучи темные, да одним вечером
враз распорол терпение... невмоготу стало! Под ливнем
моих бешеных слов, упреков, обвинений съежилась,
сжалась Лиза пружиной, да пружиною и выпрямилась:
250
– Ну и чорт с тобой, раз ты такой дурень!
Больше ни полслова не сказала. С месяц или
побольше жили мы так: каждый заперся на замок, ключ
неизвестно куда забросил. Гордые мы оба и обиженные
до смерти! Ждала она, должно быть, пока образумлюсь,
да так и не дождалась. Ушла. Переселилась в
общежитие института... *
Думал – стерплю. Перегорит, уляжется обида. На
пожарище и -то, глядишь, весной зеленая травка золу
забивает... Да нет, чего боялся, – то и вышло. Погас
мой огонь,, я не стало видать дороги...
С обмякшим помятым лицом и безвольно
опущенными плечами Добрывечер выглядел совсем стариком.
Чардынцев снова забарабанил по столу пальцами.
Взгляд его был строгим и 'Пристальным.
– Она? – опросил он, показывая на портрет
женщины с ясными, как весвдний рассвет, глазами.
– Она...
– Тебя и ©прямь не за что любить!—закончив
перестук, громко сказал Чардынцев.
Добрьивечер резко поднял плеча, будто его
встряхнули.
– Да! Не за что! Незадачливый путник,
потерявший дорогу! – Чардынцев встал и начал прохаживаться
по комнате. – Я скажу твоими словами – мыслишь вверх
тормашками, Иван Григорьевич! Шиворот-навыворот
мыслишь, оттого и дорогу потерял.
Ты ушел в свою каморку, заперся в ней и – опять
же твоими словами скажу – ключ неизвестно куда
выбросил.
Ты выбился из ритма нашей жизни! – Чардынцев
расставил по местам стулья, поднял валявшуюся на
полу книгу. – А Лиза – молодец! Ей стало душео с тобой,
Иван. Ее потянуло к коллективу, к строителям. Она
поднялась на леса, и свежий тугой ветер (встретил ее
молодой песней. Молодчина, Лиза, честное слово! И я
никогда не поверю, что Лиза способна на такое, о чем
тебе нашептала старая сплетница – ревность. И письма
тебе подбрасывал наверняка какой-нибудь негодяй!
На лице Ивана появилось оживленное, открытое
выражение, в глазах крепчал, борясь с сомнением,
ликующий огонек: «Неужто? Неужто Лиза вернется? Ты
умнее меня, Чардынцев, да и со стороны лучше видать,—
251
скажи, правда ли, что мы разошлись из-за глупой
подозрительности, из-за проклятых тех писем, что
метнула мне в сердце чья-то расчетливая рука? Правда ли,
что Лиза все еще любит мшя?»
Так: по крайней iMepe виделось во взгляде Ивана
Чардынцеву. И он обрадовался этому еще слабому, но
неугасимому огоньку.
– Лиза вернется, – продолжал Чардынцев, – если
ты покажешь себя сильным, веселым душой человеком,,
а не кашей-размазней, не пустым, как вывернутый чулок.
Чардыадев помолчал, следя за тем, как исподволь
светлеет лицо Ивана и, прогоняя тени, едва приметным
рождающимся солнечным лучом проступает на нем
надежда.
– А если Лиза не вернется?—круто повернулся на
каблуках Чардынцев. – Что тогда? Имеешь ли ты
право подводить людей, которые верят тебе, идут за тобой?
Знай, Иван Григорьевич, что коллектив завода
никогда не простит тебе этого дезертирства. И тебе надо








