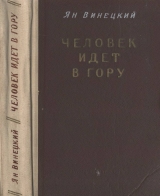
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
пить к опытам немедля. *
– Выйдет! – сказала она уверенно, и в глазах
заблестели синие огоньки.
– Отлично,– произнес он удовлетворенно,– Бери-
за опыты.
389
Тоня вместе с инженером Сурковым продолжала
опытные плавки чугуна. В литейный цех по нескольку раз в
день заходил директор, интересуясь результатами плавок.
Чардынцев не приходил, но она знала, что он
пристально следил за ее работой: то вызовет парторга
литейки Сизова и между делом спросит – а что там у
Антонины Сергеевны получается или нет? То позвонит
Суркову и тоже между делом попросит – ты ж там помоги
Антонине Сергеевне. Она – химик, а ты химик и
металлург, чуешь, какая мощь получается!
Толстостенные детали простой конфигурации
получались удовлетворительно. Но требовалось, главным
образом, мелкое фасонное литье.
«В каких пропорциях вводить в жидкий чугун
модификатор? – думала Тоня.– Какую держать температуру?»
Записав результаты двенадцатой плавки, Тоня велела
готовить новую.
«Тринадцатая! – вну'тренне ужасалась она.—
Тринадцатая плавка, а мне еще неясно главное: пропорция
модификатора».
Тоня словно бы ощущала на себе ожидающие взгляды
не только директора и Чардынцева, а всего огромного
коллектива завода. И теперь, когда плавки одна за другой
кончались неудачно, ей казалось, что она подведет, не
сдержит данного Чардынцеву слова.
Вечером литейный цех пустел (пока еще работали в
одну смену), все уходили домой, а Тоня поднималась к
себе в лабораторию.
Она снова и снова просматривала данные всех плавок,
искала закономерности в изменении структуры и цвета
чугуна, читала «по аналогии» литературу о плавке стали:
о мелком фасонном литье из чугуна литературы не было.
В один из таких вечеров в лабораторию пришел
Чардынцев. Тоня испуганно метнулась навстречу, но глаза
заискрились радостью.
– Трудно вам. Вижу. Трудно,– сказал он, пожимая
ей руку.– Но ведь и интересно, Антонина Сергеевна, а?
Чертовски интересно! Я, например, когда нахожусь в
отпуску или на какой-нибудь легкой работе, невыносимо
скучаю по трудностям. Вы в себе не замечали такой
блажи?
390
– Замечала,– слабо улыбнулась Тоня.– Но очень
мучительно бьгаает, когда трудности...– она хотела
сказать – непреодолимы, но, поиграв пальцами, нашла
нужное слово:– кажутся непреодолимыми.
– В этом-то вся острота,– засмеялся Чардынцев.—
Слабый человек бьет отбой после первых неудач, а
сильный грузит их на спину и, не сгибаясь, идет дальше. По
теории вероятности, на десять неудач одна удача
приходится.
– Ну, тогда моя практика опрокидывает теорию. Из
двенадцати моих плавок все неудачны,– горько
усмехнулась Тоня.
– А вы не согнулись под тяжестью этих неудач?
– Н-нет,– тихо ответила Тоня, смело встретившись
с ним глазами.
– Ну тогда грузите еще. На втором десятке могут
прийти две удачи сразу.
Тоня засмеялась. На сердце стало легко и празднично.
Он взглянул на часы.
– Собирайтесь, Антонина Сергеевна. Двенадцатый
час! Я вас провожу. А впрочем, может быть, есть другой
провожатый...
– Никого нет,—быстро ответила Тоня, и поспешность,
с какою она это промолвила, вызвала у Чардынцева
улыбку.
Глава пятая
Павлин, неожиданно для всей молодежи второго
механического цеха, был назначен управляющим делами
завода. Он стал ходить в новом сером, с серебристой
елочкой, костюме, завел невероятно длинные бакенбарды.
– Все дела, прежде чем попасть к директору,
проходят через мои руки,– бахвалился он, забежав как-то в
цех. Никифоров, пряча улыбку, проговорил:
– Выходит, ты, по существу, тот же директор.
– Да... только по мелким делам! – с озорством в
голосе добавила Наташа.
Все расхохотались, окружив смутившегося и не
знающего что ответить Павлина.
С тех пор и пошла за ним эта кличка – «директор по
мелким делам».
Клава Петряева после работы, успев быстро умыться
и переодеться то в еветлоголубое платье, то в кремовую
39]
с горошком блузку и синюю юбку, теперь каждый день
поджидала Павлина у заводских ворот.
Он нарочно задерживался подольше либо,
подкараулив выезжавшую с завода машину, нырял в нее и, высоко
подняв воротник,– «уходил от преследования», как он
выражался, объясняясь со своей совестью.
Клава, отчаявшись ждать, звонила по телефону, но
дежурный секретарь директора отвечал, что «Павлин Евти-
хеевич давно уехал домой».
Утром она приходила в цех с красными опухшими
веками.
– Что с тобой? – встревоженно спрашивала
Наташа.– Повздорила с Павлином?
Клава низко опускала голову. Молчала.
– Пройдет. Милые бранятся – только тешатся,—
успокаивала ее Наташа.
Подавленность Клавы заметил и Яша Зайцев.
– С Клавой надо разобраться,– сказал он Наташе.—
Ты видала, с какими глазами она приходит в последнее
время на работу?
– Знаю. Поцарапалась с Павлином. К свадьбе
заживет.
– А если свадьбы не будет? Так с незажившей раной
Клаве и ходить? Надо, Наташа, поговорить с ней.
– Говорила...
– Этого мало. Надо выяснить ее отношения с
Павлином и... наладить их.
– Навалимся организованно? – улыбнувшись,
спросила Наташа.
– Не шути... Вопрос очень серьезный. Очень!
Он пытался нахмуриться, собрать свои светлые,
широко раскинутые брови, но ничего не получалось, и Наташе
стало еще веселей.
– Да, и еще одно... Как твое мнение, Наташа, если
мы созовем открытое комсомольское собрание с таким
вопросом – об учебе молодежи. Интересно?
– Очень!
Наташа упрекнула себя в том, что, учась в институте,
думала по существу только о себе, считая этот вопрос
сугубо личным.
– Только надо это собрание подготовить. Выясни,
какое образование у .твоих девчат..;
392
– Знаю и так. У Зои – десятилетка, у Гульнур —
восемь классов, у Клавы – семь.
– Поставь перед ними задачу продолжать
образование. Возьмите обязательство, и ты от имени бригады
выступишь на собрании, 'хорошо?
– Отлично, Яшенька!
Все девчата охотно согласились продолжать учебу,
только Клава, опустив глаза, сказала:
– Трудно мне, Наташа...
– Поможем. Вот трусиха! Прежде чем взяться за
какое-нибудь дело, тебе обязательно надо поохать.
Клава отрицательно покачала головой.
Она собиралась учиться уже давно, но все время
откладывала, всякий раз находя причины. Иной раз
нападет тоска: все учатся, а ты не можешь «взять себя в руки».
Но не долго бередило ее сожаление. Жить было весело,
легко, и она отгоняла от себя и без того редко
донимавшие ее грустные размышления.
Теперь же, когда у нее с Павлином случилось
невыносимо-обидное, нежданное... нет, теперь об учебе нечего
и думать.
Она прикусила губу, сдерживая слезы. Вынула резец
и машинально вертела его в дрожащих руках. Наташа
взяла из рук Клавы резец.
– Пойдем, я тебе его заточу.
Она взяла Клаву под руку и, заглядывая в глаза,
спросила:
– Скажи откровенно, что у тебя стряслось с
Павлином?
Гримаса боли перекосила лицо Клавы. Наташа крепко
сжала ее руку:
– Говори, Клава. Или ты от меня стала таиться?
Клава взглянула на озабоченную морщинку,
пересекшую наташино переносье, на строгие, чуткие и чистые
глаза подруги.
– Беременна я, Наташа... А он... теперь – в кусты!..
Если, говорит, хочешь дружбы... сделай аборт.... Ребенок
превратит поэзию нашей любви в скучную прозу жизни...
Вот какой подлец!
Наташа помолчала. В словах Клавы было что-то
очень большое и светлое, и вместе с тем потрясающе-
страшное, уродливое.
– Я с ним поговорю,– сказала Наташа, нахмурясь.—
393
Я с ним так поговорю, что... что...– она не нашла
нужного слова, которое выразило бы ее негодование, потом,
взглянув на Клаву, встряхнула ее за плечи:– выше
голову, Клавка! Это же замечательно – ребенок! Это же
чудесно!
Клава едва заметно горестно усмехнулась.
Как объяснить умной и доброй Наташе всю обиду
оскорбленной, обманутой любви? Как объяснить ей,
счастливой девчонке, не испытавшей этого леденящего душу
чувства?
– И учиться ты будешь, Клава. Непременно! Ты ведь
помнишь наше правило – шагать, взявшись за руки?
Помнишь?
– Помню... Только трудно мне будет...
– И отлично! Это-то и интересно. А я тебе помогу.
Только условие: не раскисать, не размагничиваться.
Держи выше голову, Клава!
Наташа ветром влетела в кабинет управделами.
Павлин перебирал бумаги, мурлыча слова песенки:
– Почти пешком по небу шагаем, как всегда... А-а,
Наташа... категорический привет!
Наташа глубоко и часто дышала – она бежала по
крутой лестнице,– сдерживаясь, чтобы не кричать,
сказала:
– Я пришла, как комсомолка и подруга Клавы...
Правда ли, что ты решил порвать с ней?
– Что такое? – опешил от неожиданности Павлин.—
Я тебя не понимаю...
– Не юли! Ты прекрасно знаешь, в чем дело.
Павлин оправился от внезапного смущения. Он встал,
возмущенно подняв плечи.
– Что это за допрос? Ты не имеешь права
вмешиваться в наши... интимные отношения. Они касаются
только меня и ее.
– Неправда! – закричала Наташа.– Это касается
нас всех, всей комсомольской организации!
– Тише! – остановил ее Павлин.– Ты расшумелась
на все заводоуправление. Повторяю, это касается только
нас с Клавой.
Он опустился в кресло и, взяв из открытой пачки
папиросу, закурил, глубоко затянувшись и густо окутав
лицо дымовой завесой. Когда из-за рассеявшегося дыма
394
появилось" вновь его побледневшее лицо, Наташа
заметила, что узкие глаза его испуганно бегали.
Наташа молчала, глядя на Павлина широко
открытыми глазами, будто перед ней было нечто невыносимо
омерзительное.
– Чего ты так смотришь на меня? И какое тебе до
этого дело?
Она вдруг подошла вплотную к Павлину и потрогала
рукой кресло.
– Что это ты? – удивился Павлин.
– Я хочу узнать, прочно ли ты сидишь в своем
кресле,,, директор по мелким делам!
– Ну-ну, без намеков. Не ты меня ставила.
– Иной человечишка сядет на высокий стул и думает,
что он выше всех, Подлец ты, Павлин, вот что я тебе
скажу!
–• Ты... Какое ты имеешь право! Если хочешь знать, я
ничем Клаве не обязан. Мы не зарегистрированы...
Наташа до крови закусила губу и с размаху ударила
Павлина по щеке.
– Ты ответишь за это! – крикнул Павлин, но Наташи
уже в кабинете не было...
Она столкнулась со Сладковским, едва не сбив его с
ног. Он покачал головой и, открыв дверь приемной,
увидел Павлина – растерянного, с взъерошенными волосами
и ярко рдевшей правой щекой.
– Ого! – сказал он входя.– Здесь происходили
бурные события.
Против собственного ожидания, Павлин все рассказал
Сладковскому.
– Как вы опрометчивы, молодой человек! – пожалел
Сладковский. Он был всего лет на восемь старше своего,
собеседника, но в его словах «молодой человек» звучала
покровительственная интонация видавшего виды
старика.– В отношениях с женщинами нужна, прежде
всего, осторожность. Дело теперь получит нехорошую
огласку. Знаете, как вам нужно сейчас поступить?
– Посоветуйте, Виктор Васильевич,– попросил
Павлин, с надеждой глядя на Сладковского.
– Надо, так сказать, опередить противника.– Он
понизил голос до шопота.– Подайте заявление в комитет
комсомола о грубости и оскорблении вас этой... как ее...
Наташей.
395
И еще одно средство... Вот вам две тысячи рублей... не
смущайтесь! Я знаю, что вы мне их отдадите. Так вот...
передайте их жертве вашей неосторожной любви – пусть
сделает аборт.
– Спасибо,– пробормотал Павлин.– Вы думаете,
это поможет?
– Непременно!.. Только, пожалуйста, напишите
расписочку в получении...
Комсомольское собрание, разбиравшее заявление
Павлина, исключило его из комсомола за недостойное
отношение к девушке – жить с Клавой он наотрез
отказался.
Но именно с тех пор и началось сближение между ним
и Сладковским. Когда директор завода по просьбе
комсомольцев снял Павлина с должности управделами, Слад-
ковский посоветовал Павлину подать заявление .об
увольнении и помог ему устроиться в ОКБ, к Бакшанову.
Павлин стал захаживать на квартиру к Сладковскому,
встречал там женщин – немолодых и манерных. Сладков-
ского они неизменно звали "* Витюньчиком, а Павлина
дразнили: «Точка, куда вы девали свою запятую?»
Они много курили, мешая запах дорогих духов с
папиросным дымом...
Чаще Сладковский бывал один. Трезвый, он с
Павлином говорил мало, но, выпив несколько рюмок коньяку,
начинал философствовать.
– Жизнь, если мыслить образами, есть море, а
люди – пловцы. Море безбрежно, неспокойно и студено,
но есть в нем множество островков – прекрасных тихих
уголков среди бушующей стихии.
Особенность, молодой человек, в том – и это
запомните! – что райские островки невидимы простому глазу,
они открываются только тем, кто умеет их увидеть.
– Это, Виктор Васильевич, бесплотная философия, а
я ее всегда не терпел. Ее да математику! – отзывался
Павлин.
– Напрасно! Философия – это как раз и есть тот
ключ, который открывает невидимое. И если вы, молодой
человек, не обучитесь философии, вы станете пловцом,
который плывет в никуда.
Итак, продолжаем мыслить образами. Люди плывут,
барахтаются в холодной воде, борются с волнами Одни
396
плывут быстро, саженками, вкладывают все силы, другие
плывут неторопливо, экономя силы, часто
перевертываясь на спину и отдыхая. Кто доплывет первый?
– Конечно, тот, кто плывет быстро...
– Нет.
– Ну тогда тот, кто часто перевертывается на спину.
– Тоже нет, доплывет тот, кто первый увидит свой
остров.
– Ну, достигли своего острова, а дальше что?
– А дальше закрепись на нем так, чтобы тебя
штормом не смыло...
Потом заходил разговор о работе. Сладковский
рассказывал заводские новости*
– А как там Николай Петрович? Что слышно о его
машине? – спрашивал он у Павлина.
– Уже сборку заканчивают. Вчера на аэродром
выкатили... Красавица! – ответил раз Точка.
– Мне Николай Петрович сказал, что на его машине
реактивный двигатель.
– Реактивный,– подтвердил Павлин.
– Где же он его монтирует? Неужели. под
фюзеляжем?
– Нет, внутри фюзеляжа.
– Странно,– пожал плечами Сладковский.– Как же
у него осуществлен выход газовой струи? – Он достал
блокнот, нарисовал фюзеляж, задумался.– Вы не
помните? – стрельнул он глазами в Павлина.
– По-моему, вот как.
Павлин взял карандаш и стал рисовать.
– Так, так. Стало быть, реактивная игла имеет ход
примерно сто семьдесят миллиметров? А как выполнено
сопло?
Сладковский подливал в рюмку Павлина коньяку и
задавал новые вопросы...
Г лав а шестая
С утра на стене у конторы цеха появилось красиво
оформленное объявление:
«Товарищи! Сегодня лучшему стахановцу нашего
цеха Якову Игнатьевичу Зайцеву исполняется двадцать
лет со дня рождения. Горячо поздравляем тебя, дорогой
друг, и желаем новых успехов в твоей жизни»,
397
А вечером, после работы, в красном уголке цеха
собрались все рабочие и служащие первой смены. Пришли
представители от других цехов.
Яша Зайцев краснел, в смущении теребил полы своей
спецовки.
Чардынцев притянул Якова за плечи и по-русски
трижды поцеловал его.
– Поздравляю тебя с большой и счастливой жизнью!
Потом Зайцеву стали вручать подарки. Наташа
подарила книгу «Чайка», Шура «Повесть о настоящем
человеке» с надписью: «Дорогому комсоргу в день его
двадцатилетия от Никиты и Шуры». Гульнур бережно поднесла
ему снежной белизны сорочку в целлофановой обертке.
– От имени всех девчат... носи на здоровье!
– Рубашка счастливая. Теперь от девушек отбою не
будет! – смеясь, заметила Тоня.
Зайцев взял сорочку и, не выпуская руки Гульнур,
сжимал ее с такой силой, что она едва сдерживалась,
чтобы не скривиться от боли: минута для подобной
гримасы была крайне неподходящей.
– Полагается поцеловать юбиляра! – крикнул Глеб,
подмигнув товарищам/
– Да-да! – поддержали озорные голоса ребят.—
Поцеловать!
Гульнур, наконец, освободила онемевшую руку и, сколь-
внув по крикунам лукавым взглядом, ответила:
– Согласна... когда Якову исполнится... трижды
двадцать!
Все засмеялись.
К Зайцеву подошел дед Ипат. Он положил свою
узловатую теплую руку на крутое плечо молодого
токаря.
– Счастливый ты! Когда мне стукнуло двадцать лет,
я только стружку убирал да за водкой-селедкой для
токарей бегал.
И предложь кто-нибудь Путилову либо его
акционерной компании юбилей рабочего справить,– подумали б —
рехнулся человек.– Дед Инат достал из кармана
штангенциркуль.– На, бери. Еще на Путиловском он мне
служил.
Берег я его, в шелковом платочке держал. Бери!
Яков вдруг почувствовал, как у него защипало в
главах. Оц принял из рук деда Ипата ^штангенциркуль и
898
обнял старика, крепко прижался к его седой бороде
розовым лицом.
Они долго стояли обнявшись – старый и молодой,—
а кругом хлопали в ладоши, кричали что-то приветливое
и шутливое, шумно двигая стульями.
Когда подошел черед говорить парторгу, Тоня
поправила рукой волосы, переглянулась с Чардынцевым и,
улыбаясь, начала:
– Обычно на юбилеях не принято говорить о
недостатках, но мы отступим от этой не совсем хорошей традиции.
Вместе с подарка-ми мы вручим сегодня Якову и наш
счет. Не кажется ли тебе, дорогой юбиляр, что ты
васиделся на трех нормах? Слов нет, три нормы —
хороший показатель. Но предел ли это для Якова? Неужели
нельзя двигаться дальше?
Теперь второй вопрос. Вы знаете, какая сейчас
пародия распевается по цеху?
Соколы Якова,
низко вы летаете:
без штурма без всякого
вы план не выполняете.
Вот от чего не освободилась твоя бригада, милый
юбиляр!
Чардынцев улыбался. Он был доволен речью парторга
второго механического.
Яша Зайцев глубоко и часто дышал, словно он только
что пробежал большую и непривычно трудную дистанцию.!
Яркая кровинка комсомольского значка алела на от-'
вороте темной спецовки.
– Спасибо!.. За дружеские слова... за подарки.
Особое спасибо Антонине Сергеевне! Она нарушила
юбилейную традицию и хорошо сделала. Мы принимаем ее слова
как наказ партийной организации нашей бригаде. Низко
мы еще летаем, правильно поют про нас! – Зайцев
облизал пересохшие губы, шумно перевел дыхание. На
круглых щеках его зыбились лукавые ямочки.– Только и я
нарушу традицию, товарищи! Обычно юбиляры не просят
подарков, а я, пользуясь случаем, прошу у Ивана
Григорьевича подарка.
Добрывечер встретил его слова доброжелательным
вниманием. «Интересно, что ты еще надумал, милый
мой?» – было написано на его лице,
399
– Я прошу немного: переоборудовать станки в нашей
бригаде.
– Мы их недавно переоборудовали! – ответил Добры-
вечер.
– Слышали, от нас требуют новых скоростей, а для
этого нынешней мощности не хватает.
– Конкретно, что же вам надо, хлопцы? – спросил
Добрывечер, вынимая блокнот.
– Первое? вместо пятикиловаттных установить
моторы в тринадцать с половиной киловатт.
– Не знаю, достанем ли сразу...– неуверенно
проговорил Добрывечер, записывая.
Ребята из зайцевской бригады разом всполошились:
• – А уж это вы побеспокойтесь!
– Не знаю – легче всего сказать!
– Соревноваться,– так уж всем: и начальству и нам!
«Ишь, токарята! – удивился про себя Добрывечер,—
давно ли из ФЗУ пришли, а уже с начальством басом
разговаривают!»
Он вспомнил четверостишие в последнем номере
«Резца».
У Зайцева фабзайцы
Дают две нормы кряду,
И знает твердо Зайцев:
Взять верх – его бригаде!
– Второе,– продолжал диктовать Яша:– заменить
ременную передачу фланцмотором. Третье: вместо трех-
кулачкового патрона поставить пневматический.
– Послухайте, хлопцы,– хитровато прищурился
Добрывечер,– вы все просите, а шо же вы собираетесь
дать сами?
– А это вы потом увидите,– коротко ответил Яша.
– Согласен! – сказал Добрывечер, протягивая
Зайцеву руку.– Цех набирает добрый темп. И твоя бригада
в нем далеко не последний винтик.
– Спасибо, Иван Григорьевич! – проговорил Яша,
сжимая пальцами крепкую, будто из железа, ладонь
начальника цеха.
Девчата неожиданно расступились, и белый,
сверкающий перламутровыми ладами баян разливисто заиграл
плясовую.
Чуб Вани Никифорова лихо повис над быстрыми
пальцами.
400
– Шире круг! – крикнула Наташа и, выйдя не
середину, лебедем поплыла к Зайцеву, в лад шевеля плечами^
Яша сбросил спецовку, расстегнул ворот рубахи ш
начал отбивать ногами безудержную, отчаянную дробь^
Потом, лихо раскинув руки, пошел вприсядку, волчком
завертелся вокруг Наташи.
– Вот это скорость! Тысяча оборотов в минуту!
– Наташа! Не подводи бригаду!—подзадоривали/
со всех сторон. Уже бисером пота густо покрылось
распаленное лицо Наташи, и Никифоров чаще косил глазами
на танцоров, а Яша плясал и плясал, выбрасывая все
новые коленца, неистовый и счастливый...
Добрывечер лично руководил переоборудованием)
станков бригады Зайцева. Когда Петр Ипатьевич -стал
устанавливать проводку для сжатого воздуха и какой-то*
новый неизвестный агрегат, Яша озадаченно спросил:
– А это что за штука?
– Не штука, а тормоз,– поправил Петр Ипатьевич,—
Иван Григорьевич изобрел.
Добрывечер улыбнулся:
– Сколько раз, Яша, тебе приходится останавливать
станок за смену?
Зайцев пожал плечами:
* – Бог его знает... не считал!
– Напрасно! А все-таки приблизительно сколько?
– Ну, раз триста, не меньше.
– Триста,– повторил Добрывечер.– А эта штука^
дает возможность экономить на каждой остановке
тридцать секунд. Посчитай, сколько времени подарил я твоей
бригаде?
– Сто пятьдесят минут... Два с половиной часа а
смену! – воскликнул Зайцев, и на заалевшем лице ярче
проступили золотистые колоски бровей.– Спасибо, Иван
Григорьевич!
– Погоди благодарить. Я мужик корыстный: дал вам
два с половиной часа, а потребую в три раза больше.
– Дадим! —уверенно ответил Зайцев.
Добрывечер переглянулся с Петром Ипатьевичем.
– Мне рассказывали,– проговорил он,– что ты
сконструировал какие-то мудреные кулачки.
«Ну вотг уже все знают!» – подумал Яша и широко
Ф 444 – 26 401
улыбнулся. Он не умел скрывать своих замыслов. Только
возникала в нем какая-нибудь идея или предложение, как
он уже рассказывал о них товарищам.
– Да, Иван Григорьевич! – произнес он гордо.– Эти
¦кулачки... вернее, комбинации кулачков позволят нам
решить немало вопросов. Помните, вы советовали нам
подбирать наиболее выгодный технологический режим,
комбинируя скорость, подачу и глубину резания? Вот мы
и стали добиваться увеличения мощности станка. Но
секрет все-таки не столько в мощности, сколько в
способе крепления детали. Мы направили свои поиски в этом
направлении...
– Интересно! – заметил Добрьшечер.– А все же
кто это мы?
– Наташа, я, Сережа Поздняков, Петр Ипатьевич
помогал.
– Покажи-ка кулачки, конструктор. Кстати, как у
дела с учебой в институте?
– На второй курс перешел.
Зайцев достал из инструментального ящика кулачки.
Кулачки были и впрямь оригинальны по конструкции
<й, главное, открывали широкие возможности для их
применения при обработке и других деталей. Теперь токарь
получал возможность обрабатывать деталь с одной
установки вместо прежних трех.
В первый день после переоборудования станка Яша
дал семьдесят шкивов вместо прежних девяти штук.
Завод еще не знал о прорыве. До конца ноября
оставалось десять дней и по старым временам собственно
^только они и решали судьбу программы. Но теперь стало
уже очевидным; план выпуска самоходных комбайнов
будет сорван. '
В кабинете сидело четверо: Булатов, Мишин, Солнцев
л Чардынцев. Все напряженно молчали.
– Вы понимаете, что произошло? – все более мрач-
здея, проговорил Булатов.– Тысячи людей ежедневно
отдавали свой труд, свою энергию большому делу, они
шли за вами, а вы куда их завели, командиры?
Глухо тикали стенные часы, словно кто-то пристыжи-
прищелкив_ал языком.
402
– И главный виновник ты! – обернулся секретарь
обкома к Мишину. Тот сидел, не опуская головы,– злой,
отчаянный и изумленный.– У тебя горячее сердце. И
энергии море! Это-то и подкупило нас. Но не сумели мы
разглядеть порочный стиль твоей работы, стиль героя-
одиночки.
Лицо Чардынцева жарко запылало. «Все это я видел
давно. И вроде бы боролся...– Его разозлило нечаянно
сорвавшееся: боролся...– Разве так борются? Корил
директора по-семейному, вполголоса... А надо бы... Вот оно
как обернулось!»
Семен Павлович мысленным взором окинул все
обширное заводское хозяйство. Скольких закоулков, куда
не добраться и солнечному лучу, достигал орлиный
директорский глаз, сколько человеческих лиц, характеров,
судеб держала его цепкая память!
И вот поди ж ты, сорвался. Нашлись и такие закоулки,
что остались для него недоступными.
В быстром беге дней упустил, не разглядел многих
начальников, инженеров, рабочих. А ведь все решают
люди и каждому нужно найти свое место.
Многие начальники цехов и отделов привыкли сидеть
в затишье за широкой спиной директора, и колючий ветер
ваводских невзгод не обжигал их, не закалял их
выносливость.
«Семен Павлович все знает, все предусмотрит!» —
этот щит надежно служил не один год, но под конец
обветшал. И впервые почувствовал Александр Иванович
Солнцев, как лизнул его холодок ветра.
– Что скажет главный инженер? – спросил
Булатов.– Ведь на его обязанности, если не ошибаюсь,
готовить необходимый задел по всем деталям?
«Вот она, ноябрьская ледяная поземка!..» Александр
Иванович с трудом произнес:
•– Дефицит оказался... по некоторым позициям... Я
полагал, что Семен Павлович...
– Позиция у вас одна: иждивенческая!—с
ненавистью бросил Чардынцев.– Приживалки какие-то, а не
руководители! – Он откинулся на спинку дивана и
тяжело задышал.
– Продолжай, Алексей Степанович,– сказал
Булатов, чиркнув спичкой и жадно затягиваясь душистым
дымом папиросы.
до 403
– Виноваты мы тут все вместе! – поднялся Чардын-
цев.– И больше других – я! Отчетливо видел: всю
махину руководства заводом везет, по существу, один Мишин.
Понимал, что к добру это не приведет. Бранил
директора... с глазу на глаз! А обсудить его поведение на
партийном комитете не решился! И не из-за недостатка
принципиальности, а просто поверил легенде, что Семен
Павлович все сумеет! – Чардынцев хотел сказать, что
трудно ему было разобраться в сложном и новом для него
деле – партийном руководстве крупным заводским
коллективом, но сдержался: Булатов еще примет его слова'
за попытку оправдаться.
Мишин теперь глядел на Чардынцева с печальной
сосредоточенностью, точно речь шла о ком-то другом,
«бывшем».
«Да, да! Бывший! Все позади – и трудные годы
войны, и победы во всесоюзном многоборье сильнейших
заводов, и перестройка производства неслыханно
быстрыми, темпами... А теперь – поражение».
Сразу, как снежный обвал в горах, рухнул его
авторитет, его непререкаемая, гордая власть над людьми.
Чардынцев был прав: «Надо, чтобы весь оркестр участвовал
в симфонии». Не послушал. Упрямился, пока не
сверкнула крутизна под ногами...
Что же теперь? Остается одно: сказать и Булатову
и министру – не гожусь в дирижеры, ставьте рядовым
барабанщиком!..
И, откликаясь на свои мысли, Мишин глухо сказал,
уронив голову:
– Уйду.
Булатову было жаль смотреть на опущенные плечи
Мишина, на сразу ввалившиеся глаза, утратившие свой
прежний задорный блеск.
Но жалость – плохой советчик в таких делах.
Требовалось с жестокой прямотой вскрыть и отсечь ошибки,
как отсекают гнилые корни у здорового в целом
дерева.
– Некоторым казалось, что ты ближе всех стоишь
к массам – знаешь многих рабочих по имени и отчеству,
беседуешь с ними об охоте и детишках... А в самом-то
деле ты был далек от масс, ты не верил в людей. Да, не
верил! Оттого и старался все делать сам.
Больно, ох, как больно слышать такие слова! Не верил
404
в людей! Это он-то, тянувшийся к людям, как ветка к
солнцу.
И все-таки чем объяснить, что он все время подменял
и главного инженера, и главного технолога, и многих
других «главных» на заводе?..
– Сейчас ты обронил слово одно...– продолжал
Булатов.– Если бы не слышалось в нем только тяжело
пораненного самолюбия, я помог бы тебе избавиться на
будущее от всяких треволнений... Но мы знаем тебя, знаем
заводской коллектив и верим, что грубейшая,
непростительная ошибка может быть исправлена.
Мишин выпрямился. Две глубокие морщины залегли
меж бровями, а закручинившийся взгляд озарила
решимость:
– Камиль Хасанович!
– Ну, ну, я пятьдесят пять лет Камиль
Хасанович...– уже потеплевшим голосом отозвался Булатов.
– Урок тяжелый... Оброс я зазнайством,
самоуверенностью, поклонением своей непогрешимой особе, как некая
неумная порода птиц разноцветными перьями... сорвана яркая мишура оперения. Но я хочу сказать, что не боюсь предстать в таком... общипанном виде перед рабочими и инженерами,– Мишин глубоко вздохнул и посмотрел секретарю обкома в глаза,– что поделаешь, васлужил! – Заслужил,– согласился Булатов.– И помни: из избы сор выметают веником, а не одним прутиком! Предать анафеме старый стиль работы – полдела. Как будете исправлять положение, товарищи? – Я думаю, что вместе с партийным комитетом обсудим этот вопрос,– проговорил Мишин.– Сор будем выметать веником. Партийный комитет решили созвать в тот же день... Незадолго до начала заседания к Мишину вошел Глеб Бакшанов. – Разрешите, Семен Павлович... неотложное дело...— произнес он, краснея и хмуря брови. – Что там у тебя неотложного? Садись. – Отпустите меня, Сбмен Павлович... не могу я здесь больше работать! . Мишин с проникновением поглядел на Глеба. Этот девятнадцатилетний парнишка был живым укором ему, Семену Павловичу. Чардынцев как-то говорил ему: 405 > «Если хочешь знать, в твоих подражателях ты увидишь собственные черты, только, словно для наглядности, увеличенные, как в кривом зеркале». Семен Павлович смеялся над этими словами. Добры* вечера и Глеба все бранили, да и он сам отчитывал их, особенно Добрывечера. В чем же здесь подражание? И что общего между директором и этими молодыми людьми, служившими «притчей во языцех» на заводе?.. И вот сейчас к нему пришел самовлюбленный* оби* женный мальчик и произнес почти то же, что он сказал сегодня Булатову. – Ты хочешь уйти? – спросил Мишин вполголоса и торопливо достал из кармана пиджака трубку. Глеб машинально повторил движение директора. Семен Павлович в сердцах швырнул трубку на стол. В глазах Глеба отразилась короткая борьба, а в го- Лосе послышалась уверенность, что «уж кто-кто, а Семен Павлович в обиду не даст». Ни с кем не соглашался Глеб в своем затянувшемся, упрямом споре. –^*-Я токарь шестого разряда. На любом заводе мне место дадут. – Не то место твое, что дадут, а то, что заслужишь! — резко и одновременно задумчиво сказал Мишин. Глеб ухватился за это слово, он предвосхищал его: – Вот! Каждый пацан дразнит «асом», в стенгазете и на собраниях мыкают мою фамилию! А разве мало моих эаслуг на заводе? Портрет два года в цехе висел. Даже пылью покрылся! – Это-то и плохо... – Что висел? – Что пылью покрылся. Пылью мы с тобой оба по* крылись. Прошлыми заслугами любуемся. А время идет, вперед! Сегодня мне уши надрали за это. Ох, как больно надрали, Глеб! Глеб глядел на директора в немом изумлении. Выходит, и Семена Павловича бранят? Уж этого он никак не мог предположить: Мишин был для него идеалом. И откровенно говоря, пришел Глеб не столько с мыслью об уходе с завода, сколько с тайным желанием узнать, что скажет на это Семен Павлович. В упрямстве Глеба было пробито немало брешей, чаще








