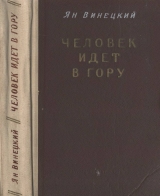
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Глава двенадцатая
Николай выехал на рассвете первого февраля, а на другой день вечером он был уже в Москве, озаренной великой победой. Закончилось сталинградское побоище. Слава тебе, матушка-Волга, вечная слава! Сто сорок семь тысяч фашистских трупов валяется на высоком твоем берегу, а остальные сто восемьдесят три тысячи псов-завоевателей бредут бесконечной колонной позора, подняв руки. Низкий поклон тебе, матушка! Ты вспоила своей водой, прославила гордыми песнями и легендами бесстрашный народ, победивший смерть. Это на твоих волнах сотни лет плыла мечта о воле народной. Давно ее испытываемое ощущение гордого торжества забило в Николае ключом. Он бродил с чемоданом по московским улицам. Улыбался, громко разговаривал
сам с собой. «Вот она, Россия карающая!» Николай захмелел от счастья. Шел, не зная куда, сталкивался с людьми, такими же радостно возбужденными. «Красивей этого я еще ничего не видал», – шептал он. Ночь была теплая и тихая. Казалось, весь мир осыпало нежноголубым снегом.
Утром в наркомате Николая принял Поликарпов, Николай Николаевич очень постарел. На желтом лице у, глаз, носа и рта часто набегали морщины. Он погладил чисто выбритую голову.
– Я наблюдал за вами все эти годы. Помните, в институте вы сконструировали самолет «Ленинградский комсомолец»? Талантливая работа. В «ней много было молодого задора, выдумки, смелых желаний, правда, не осуществленных. С тех пор я и следил за вами. Кабина ваша меня обрадовала необычайно, хоть она и легла на мой самолет тяжелым грузом. Но это был благородный груз.
Николай Николаевич оставлял от самого сложного и запутанного предмета лишь обнаженную сущность его.
Николай вспомнил, что в институте лекции Поликарпова отличались предельной ясностью, но тогда ему было невдомек, чем это достигалось.
– Между прочим, ваш истребитель – мне дали его проект на отзыв – забраковал именно я.
Николай изумленно поднял брови. Если бы это сказал не сам Николай Николаевич, он никогда бы не поверил,
– Да,– подтвердил Поликарпов, как бы отвечая на удивление Николая. – Ваш истребитель по скорости оставляет позади лучшие наши марки, в нем много конструктивных находок. И все же он не приемлем. Во-первых, он соткан из легированных сталей и сплавов Дорого, голубчик, неоправданно дорого! Этак вы половину государственного бюджета на свой самолет ухлопаете.
Во-вторых, сложен. И в производстве, и особенно в управлении. Очень строгая машина! А ведь нам нужен истребитель массовый, чтобьв средний летчик управлялся с ним. Опять, простите, к грубому примеру мне хочется прибегнуть. Возьмите вы деревенский ухват, которым бабы в печи горшки ворочают. Просто, а хитрей еще никто не придумал. И все-таки ваша машина обещает многое...
– Знаю! —грубо прервал его Николай.– Читал вашу бумажку. Я, кажется, на всю жизнь останусь
многообещающим...
– Нет успехов без неудач. Творчество – путь тернистый. Я вот старик уже, а настоящей машины еще не дал.
– Ваша «Чайка» – разве не настоящая машина? В свое время точти только на ней держал асывся наша истребительная авиация,– горячо возразил он
– Вы сами проговорились: «в свое время...» А сейчас?
Что дал я сейчас? Посмотрите, как молодые размахнулись.. Яковлев, Лавочкин. Это и радостно, и честно признаюсь – грустно. Грустно, когда тебя обгоняют. Это не зависть, нет! Это – старость. А вам еще до эндшпиля далеко.
Поликарпов выложил обе руки на стол, постучал короткими пальцами.
– Вызвал я вас вот зачем, Николай Петрович. Над моей машиной измываются все, кому не лень.
Привешивают, цепляют на нее всякую всячину, эдак она скоро окончательно потеряет христианский вид. Вот я и хотел, если с вашей стороны не будет возражений, назначить вас ответственным конструктором по моей машине, чтобы все изменения вводились только с вашего разрешения.
– А... вы? – спросил Николай с недоумением и смутной догадкой. Он был уверен, что Поликарпов задумал новую конструкцию и хочет отдать ей все свое время.
Николай Николаевич помолчал, потом поднял голову и сказал тихо, почти шопотом:
– Я плох здоровьем... И полгода не вытяну.
– Что вы! У вас бодрый вид, – взволнованно проговорил Николай, прибегнув к тому виду доброй и наивной лжи, которая единственная, кажется, не заслуживает осуждения.
– Не надо, – глухо сказал Поликарпов. – Не люблю пустых слов. Врачи тоже успокаивают меня разной чепухой, но я-то ведь знаю, что у меня рак.
Глаза его вдруг потеплели. Он встал. Николай тоже поднялся, чувствуя комок в горле.
– Вам я передаю свою машину. Берегите ее от глупых мудрецов, совершенствуйте, – в ней много
неиспользованных возможностей.
Он протянул Николаю руку. Николай бережно пожал ее. Это была последняя их встреча. Спустя два месяца Поликарпов умер.
Еще свирепствовали февральские морозы, и порой с гиком и свистом проносился шальной ветер, а в небе появилась уже нежнейшая весенняя синева, и дольше задерживались мягкие задумчивые сумерки, и все ярче и пышней горела вечерняя заря. Или людям причудились эти неуловимые признаки весны? Москва была какой-то обновленной, радость – яркая и улыбчивая, озаряла ее суровое лицо. На домах запестрели плакаты и портреты героев. На улицах громче был говор, звонче и раскатистей смех. И над всем этим нескончаемой музыкой, веселящей сердце, стояло гордое, навек бессмертное – Сталинград.
«В связи с разгромом шестой немецкой армии под
Сталинградом, в фашистской Германии объявлен
национальный траур»,– прочел Николай в газете.
«Ага! Вот оно когда началось».
Николай пробыл в Москве более месяца. В Научно-исследовательском институте испытания его шумопламягасителя прошли с успехом, и заводу было предложено организовать серийный выпуск самолетов с шумопламягасителями.
По вечерам в гостинице Николая охватывало неотвязное мучительное чувство грусти. Одиночество было той щелью, через которую все время улетучивался огромный заряд его творческой энергии.
Вместе с тем Николай заметил, что там, дома, его меньше беспокоила боль, она была глуше, отдаленней.
С Тоней не чувствовалось одиночества, к «нему возвращалась потребность в творчестве и он мог подолгу спокойно работать. Тоня! Как много доброго сделала она для него. Молодая, веселая, она за все это время ни разу не была в театре, все вечера ее после работы проходили в хлопотливой возне вокруг Глебушки.
Николай со стыдом признался себе, что эгоизм не давал ему до сих пор заметить этой подвижнической, заботливой доброты Тони.
В Наркомате за изобретательскую работу Николаю выдали премию. Он пошел в комиссионный магазин и, не
задумываясь, отдал все пять тысяч рублей за маленькие женские золотые часы.
Николай приехал поздно ночью. Стараясь не потревожить чуткого старушечьего сна Марфы Ивановны, Тоня приготовила ужин.
– Тоня ... извини, мне хотелось бы выпить... – сказал Николай, доставая из кармана пальто тяжелую бутылку шампанского.– С тобой,– добавил он с ласковой настойчивостью.
– Шампанское? С удовольствием. Я его, признаться, никогда не пила. Говорят, оно хмельное?
Тоня бесстрашно выпила, закусила горячей, обжигающей губы картошкой.
– Картину лучше оценишь на расстоянии.
Тоня улыбнулась: когда Николай выпивал, он тотчас начинал философствовать.
– Вот и ты, Тонечка, в Москве... красивей показалась.
– Спасибо,– проговорила Тоня с шутливой обидой.– Значит, вблизи наоборот.
– Нет, я не то хотел сказать. В Москве я по-настоящему разглядел тебя. Тоня густо покраснела. На белой шее трепетно билась тоненькая синяя жилка.
Николай налил еще вина.
– Хорошая ты, светлая, ласковая, как летнее утро.
Я человек восторженный и могу многое наговорить тебе. Выпьем, Тонечка, за будущее! За будущее нашей страны. Пусть еще ходит фашист по земле нашей, но мы отвоевали уже будущее. Сталинград, Тонечка, Сталинград!
Океан мысли и тревоги сердечной вобрало в себя это слово!
– Ты так красиво говоришь, что мне кажется, в тебе
дремлет еще и талант писателя.
– В молодости пробовал. Стихи писал. Даже.отнес
их однажды в «Комсомольскую правду». Кому бы ты
думала? Владимиру Маяковскому.
– Ну, и что же он ответил?
– Сказал: «Подите вы к чорту! Я бы таких рифмачей
штрафовал за перевод бумаги».
Тоня тихо засмеялась.
В окно робко заглядывал зимний рассвет...
Глава тринадцатая
Пуск главного конвейера совпал с важным событием:
правительство наградило завод орденом Трудового Красного Знамени.
На торжественном вечере в Городском театре стахановцы по-новому оглядывали друг друга, дивясь
неожиданным переменам в каждом из них. Они привыкли ежедневно встречаться в цехах, думать о работе, о том, что график под угрозой срыва из-за отсутствия труб или эмалита, следить за оперативными сводками Совинформбюро,– сначала печальными, а потом радостными, окрыляющими душу.
Уже были освобождены многие тысячи населенных пунктов, но каждому казалось, что он помнит название самой малой деревеньки.
Обугленные, с торчащими тут и там, как надмогильники, сиротливыми печами вместо изб, с почерневшими, обломанными ветками белых берез, с разбитыми крестами дедовских печальных могил стояли они перед глазами.
Люди узнавали все больше и больше городов и сел, будто на уроках географии. Страшные то были уроки!
Дымом и горем окутывали они сердца. И, может быть, именно теперь, в тяжком несчастье узнали они по-настоящему географию своей Родины.
Но никому и в голову не приходило оглядеть друг друга, посмотреть, как изменились они за эти долгие и тяжелые годы войны.
Николай сидел с Тоней в партере, в пятом ряду. Торжественная часть еще не начиналась. Справа от Николая молодой человек в черном, из грубой шерсти, костюме что-то рассказывал своей соседке – молоденькой, смуглой, робко поглядывавшей по сторонам девушке. Он говорил по-татарски, но Николаю голос показался знакомым.
– Здравствуйте, Николай Петрович!
– Ибрагимов? – неуверенно произнес Николай. И вдруг неистово стал обеими руками трясти его руку.—
Здравствуйте, товарищ Ибрагимов. Я вас не узнал. Николай вспомнил, что прежде называл его на «ты» и что теперь говорить ему так было бы нелепо. «Вырос!
На моих глазах вырос»,– подумал он.
И как бы «угадав его мысли, Ибрагимов сказал:
– Когда я пришел на завод, мне было пятнадцать. Теперь мне семнадцать.
Николай улыбнулся.
– Давно вы у нас на аэродроме не были, Николай Петрович. Многих не узнали бы. Костя Зуев стал
заместителем начальника цеха.
А Лунин-Кокарев? – поинтересовался Николай,– Все еще петушится?
– Обломали. Теперь меня «Ибрайкой» не зовет больше.– Товарищем мастером называет. А работает по– прежнему крепко.
– Так вы... мастером?
– Давно,—ответил Ибрагимов. Потом солидно до бавил:– С полгода уже.
Николай не успел засмеяться от уморительной серьезности, с какой Ибрагимов произнес «С полгода уже», – у стола президиума появился Мишин. Он был не в обычной своей полувоенной гимнастерке, а в темносинем штатском костюме, с орденом Красного Знамени на груди.
Для всех присутствующих это было неожиданностью: директор в будние дни не носил ордена.
– Предлагаю наметить кандидатов в состав -президиума.– Со всех концов зала полетели громкие возгласы. Николай встал и неожиданно сиплым голосом крикнул:
– Ибрагимова!
Ибрагимов покраснел, а сидевшая рядом с ним девушка испуганно вздрогнула.
В президиум избрали много знакомых Николаю людей.
Секретарь партийного комитета Гусев строго посматривал в зал, дядя Володя, степенно разглаживая рыжие подпаленные цыгарками усы, говорил что-то Александру Ивановичу, как всегда опрятному, поблескивающему своей полированной лысиной.
Среди избранных в президиум Николай увидел Миловзорова, начальника отдела снабжения. Николай улыбнулся, указывая на него, сказал Тоне:
– Ты знаешь, как на заводе зовут Миловзорова?
– Нет.
– «Декларация прав трудящихся».
– Почему? – удивилась Тоня такому странному прозвищу.
– Он страсть как не любит длинных рассуждений; когда ему приносят многословную бумажку на подпись, он возмущенно поправляет на носу пенсне и говорит:
«Э-э... что это за декларация прав трудящихся? Переписать короче и понятней!»
Тоня засмеялась.
После обстоятельного доклада Александра Ивановича о работе завода, выступил дядя Володя. Рабочие любили его веселую и острую речь, пересыпанную народным юмором.
– С праздником вас, товарищи! – начал дядя Володя.– Не зря, выходит, у станка мы стояли долгие дни и ночи, а потом, черного хлебца да постных щец навернув, – снова за дело! Зато услышали вскоре мы, как причастился фашист волжской водой... кровью закашлял! И будет кашлять, до самого Берлина кашлять будет, пока не подохнет, собака!
А нынче орденом завод наш удостоили. Много заводов в стране Советской, а расступилися все с почтением, дорогу нам дали: «Проходите вперед, братцы. "По заслугам вам и место на виду». Выходит, в трудовые гвардейцы произвели нас. Теперь я не просто маляр Володя Шикин, а гвардии маляр Владимир Шикин. Громкие аплодисменты прервали его речь.
– В пятнадцатом годе генерал мне «Георгия» вручал.
В публике засмеялись: дядя Володя затронул любимую тему.
– Говорит мне генерал: «Я тебе, рядовой Шикин, «Георгия» не затем вручаю, чтоб ты перед девками петухом ходил, а затем, чтоб примером ты был в службе воинской, чтоб все солдаты по тебе равнение держали!»
Вот я и думаю, что нам надо теперь так работать, чтоб все по нашему заводу равнение держали!
В президиуме и в зале бурно захлопали. Дядя Володя почесал рукой бороденку, прищурился:
– Хоть в праздник и не принято грехи вспоминать, а должен я и о них словечко промолвить. В суп и то перцу кладут! Всяко яблоко с кислинкой, известное дело. Вот сколько ни говорим, а гнилой мост через речку никто не починит. Рабочие проваливаются и, извиняюсь, в бога ругаются. Или возьмите вы дорогу от трамвая к нашему заводу. Ухабы, ямы, грязь непролазная весной да осенью. Разве это дело? Какой поселок выстроили,– его и поселком назвать стало неудобно – город – светлый, просторный, а дорога все портит. Вот я и говорю, товарищи. Не худо бы и на это дело серьезное внимание обратить.
Дядя Володя отошел от трибуны неторопливой, развалистой походкой.
Николай долго и восторженно аплодировал.
Пятого мая весь завод вышел на субботник.
Деревообделочные цехи чинили мост. Быстров заранее подвез лесу и теперь ввел в дело «гвардию» – неторопливых, уверенных в своем мастерстве владимирских плотников.
– Лихо работают! – говорил Быстров Гусеву, указывая на плотников.– Топорами, ровно иголками, орудуют.
Им прикажи комару терем построить,– сделают. Да с кружевами, с петушками, с расписными воротами. И все топором, топором, леший их возьми!
От заводских ворот через весь поселок растянулись строители дороги. Здесь работали сборочные цехи.
Десятки подвод подвозили песок, мелкий щебень. Дымили огромные котлы и чумазые асфальтщики длинными мешалками помешивали свое черное варево. Острый запах кипящего асфальта плыл в воздухе.
По середине заводского двора бригада слесарей сооружала фонтан, другая бригада усаживала его молодыми липами.
– Люблю работу артелью! – говорил дядя Володя, руководивший посадкой деревьев.– Артелью любое дело спорится. Потому – спайка!
Бригада девушек разгребала гору стружек, образовавшуюся на заводском дворе с незапамятных времен.
– Ну и девоньки! Хоть обручи на них надевай.
– Вы чем питаетесь, что вас так разносит, будто пшеничное тесто на опаре? – шутили слесари.
– Песнями,– отвечали девушки, и вот уже неудержимо-веселая, шуточная «Подружка моя» звенела десятками молодых голосов. На лицах многих рабочих жила довольная ухмылка: с песней и работа лучше спорилась.
– Правильно, девахи! – подмигивая, говорил дядя Володя.– Кто поет – того беда не берет!
Гусев в одной из них признал Тоню. Она была в синем стеганом ватнике и шерстяном платке.
– Не узнал я вас, Антонина Сергеевна. Вы похожи сейчас на бабу рязанскую.
– Мы питерские,– усмехнулась в ответ Тоня.
Подходя к фонтану, Гусев услышал мягкий грудной ее голос:
По Муромской дороге
Стояли три сосны,
Прощался со мной миленький
До будущей весны.
Девушки поддержали грустно и ласково:
Прощался со мной миленький
До будущей весны ..
Дядя Володя объявил своей бригаде «перекур». Они сидели на бревнах, угощая друг друга табачком, закручивали длинные «козьи ножки».
Дядя Володя рассказывал одну из историй, которых у него было неисчерпаемое множество.
– Председателем, конечно, дядя Володя? – шутливо осведомился Гусев, здороваясь с бригадой. – Бессменно, Федор Антонович! – ответил дядя Володя, широко улыбаясь. И вдруг поднялся, подошел к Гусеву и, взяв его под руку, заботливо зачастил:
– Полагаю я, Федор Антонович, сад свой нам ставить надо. Яблочек да грушек всякой породы. Опять же сливок, вишенок, крыжовничка. Земля-то здесь, как давно нерожалая баба... Заждалась!
– Сад поставим. Обязательно! Но надо и индивидуальное садоводство привить. Представь, каждый посадит по яблоне, – сколько наберется!
– Вот я и говорю,– обрадовался дядя Володя.– Человек теперь хочет жить лучше, чем прежде жил. Орлы наши Гитлера-зверя к берлоге погнали. И у каждого теперь дума: построить жизнь так, чтобы она была как чистый и светлый дом!
– Правильно, дядя Володя. В самую точку бьешь! – громко сказал Гусев.– По твоему почину мы и народ подняли. Все вышли на субботник. В Городском театре не зря всенародно избил ты нас.
– Я обидеть не хотел, Федор Антонович.
Вечером с тихим шелестящим шумом забил фонтан.
Сверкающие струи воды взлетали высоко над хороводом деревьев и, падая, рассыпались серебряной пылью....
Глава четырнадцатая
Анна лежала в маленькой светлой палате госпиталя и ей казалось, что на всем белом свете стоит сейчас усталая тишина. Окончились страдания и только пощипывания в левом предплечье да глухая ноющая боль временами врывались в сознание, как врывается холод в плоха притворенную дверь.
Часто кружилась голова, словно Анна взбиралась на высокую гору и, оглядываясь, пугалась сверкающей бездны. Каждый день она поднималась с кровати, делала несколько шагов, держась за стены. Палатная сестра часта заставала ее в таком положении, но никому не говорила:
–Больной пользуется в больнице особым расположением.
Анна, как ребенок, удивлялась цветам, запахам и звукам жизни. Фиолетовые сумерки, тонкий и необычайный рисунок вечерней зари, неожиданный крик птицы, весенние вздохи земли – все волновало ее и приносило новое,неизвестное прежде ощущение красоты жизни. Ей казалось, что прежде она не воспринимала так глубоко природу, не чувствовала ее так тонко, не понимала ее
великого смысла.
Анна подолгу стояла у окна. Ей виден был крохотный кусок сада, засыпанный тяжелым слежавшимся снегом.
На заиндевелой голой ветке яблони раскачивалась ворона.
Она кричала, звала кого-то, хлопала крыльями, и под ней с веток осыпался снег. Вот и все. Но Анна в этом тихом зимнем саду всякий раз находила нечто новое, интересное, незамеченное накануне.
«Глебушка... Он уже большой мальчик. Как он выглядит теперь? Такой же глазастый и большеголовый, как отец?» По-сле того, как у нее отняли руку, Анна старалась не думать о Николае. «Мое поле боя – чертежный стол», – вспоминала она его слова. «Поле боя, верно, но на нем не свистят пули, не рвутся снаряды и бомбы, не падают замертво люди. И инвалиды не
приходят с этого поля боя».
А Анна пришла инвалидом. Встретит ли ее прежний Николай – веселый, любящий, добрый, или изменили его эти годы, отняли его у нее, сделали навсегда чужим?
Нет! Николай не может быть мерзавцем. Анна знала eго большое доброе сердце. Война не могла замутить eго чистоты, нет! И как не стыдно клеветать на Николая, ничего не узнав, не зная даже, жив ли он?
В дверь палаты постучались. Вошла сестра. Она широко улыбалась.
– Пока вы были в тяжелом состоянии, Анна Сергеевна, накопилась корреспонденция. Целых три письма!
«От Николая!» – она шагнула навстречу сестре. Все гри письма были от Чардынцева.
Оживление слетело с лица Анны. Комната закружилась, запрыгали окна, будто все на земле сразу
стронулось с места и понеслось в бешеном беге...
Сестра вышла. Анна взялась за спинку кровати. «От Николая – ничего. Ни-че-го!..» Она устало опустилась на кровать.
Упавшие на пол письма вывели ее из задумчивости. Она подняла их, вскрыла первый конверт.
«Дорогая Анна Сергеевна!
Позвольте вас так назвать, потому что вы действительно дороги нам, как может быть дорог старый фронтовой товарищ. Мы любили ваш верный глаз и чуткое сердце. Бойцы мои верили в вас и, простите, меня иногда посещала зависть: мне хотелось, чтоб они так верили в мое мастерство, в мое предвидение. Когда мне сказали о вашей гибели, я понял, что вы больше, нежели дивизионный хирург.
Анна Сергеевна! Я никогда не сказал бы вам того, что пишу сейчас. И вы, вероятно, поразитесь тому, что обычно молчаливый и немного мрачный Чардынцев разразился чувствительными тирадами. Но сейчас я представляю ту самую константу физики, когда количество переходит в качество.
Начну сначала. Первая наша встреча была не из приятных. Вы выставили меня за дверь, и я ругал себя за слабость. Надо вам сказать, что за все сорок лет моей жизни у меня был только один друг. Это недостаток.
У человека должно быть много друзей. Я объясняю это моей необщительностью да еще и тем, что я к друзьям слишком требователен. Я долго присматриваюсь к человеку, недоверчиво выстукиваю и выслушиваю его, и если он мне понравится,– выдерживаю втайне мою симпатию к нему, как выдерживают молодое вино. Вы знаете моего друга. Это – Сухов. Но вот окончилась операция. По вашему, усталому лицу я понял, что вы пережили то предельное напряжение, на которое способны только решительные и честные люди.
Когда вы сказали короткое и уверенное: «Он будет жить»,– я подумал: «У этой женщины под внешней строгостью таится доброе сердце». Я впервые изменил правилу: не делать выводов о человеке, которого еще не узнал как следует. О вас вывод я сделал. Без взвешивания. Без выстукивания.
И представьте себе нашу радость, когда мы узнали, что вы живы.
Анна Сергеевна! Напишите о себе. Мы хотим знать все. Как идет лечение? Скоро ли вас выпустят на свет божий? Пишите в адрес нашего корпуса: оттуда сейчас ходит к нам самолет. Быстрей выздоравливайте!»
«Вас, Анна Сергеевна, конечно, интересует жизнь нашей дивизии. После вашего отъезда наступили белые ночи. Гитлеровцы усилили свои карательные операции. Мы ведем с ними бои, маневрируя по району. От пленных узнал, что на моем «фронте» появились две новых дивизии: одна снята с Волховского фронта, другая – из Парижа. Судя по их действиям, они явно не представляют себе особенности борьбы с партизанами. Они считают, что мы все время живем в лесу. Стоит им встретить на своем пути лес, и они «прочесывают» его из всех видов оружия. А бойцы наших засад сидят где-нибудь в овражке и смеются. Конечно, не всегда наше небо столь безоблачно. Недавно полк Сухова четверо суток отбивался от гитлеровской дивизии. Серьезно встревоженный, я прибыл в расположение полка. Полыхало несколько деревень, занятых противником. Фашисты подтянули скорострельные орудия и минометы. Вся глубина нашей обороны простреливалась. По существу, мы были окружены.
Сухов скороговоркой отдавал приказания. Он был возбужден. Это был не страх, не боязнь ответственности, а возбуждение творчества, вдохновение. Казалось, чем труднее положение, тем ярче. огонь в его глазах, тем тверже голос. В те дни я снова вспомнил вас с благодарностью за то, что вы спасли жизнь этому человеку.
Анна Сергеевна, как ваши успехи в лечении? Уже, вероятно, считаете, сколько перевязок осталось?
Привет вам от Сухова».
«Анна Сергеевна, не сердитесь за мое долгое молчание: оно было наполнено грозой и бурей – мы вели наступательные операции. Теперь мы диктуем свою волю фашистам и они только огрызаются. Сегодня исполнилось два года нашего «подполья». Это очень волнующая годовщина, Анна Сергеевна! Два года назад дивизия вырвалась из кольца, заплатив за свою дерзость дорогой ценой. Но мы не выпустили из рук оружия, врагу не удалось подавить нашу волю к сопротивлению. Мы укомплектовались новыми бойцами, пополнились вражеской артиллерией. И удивительно, раньше у Чардьпнцева был только один непосредственный противник– генерал фон Вейс. Его дивизия стояла против моей, и мьг знали примерно силы и возможности друг друга. Теперь, когда по гитлеровским сводкам моя дивизия разбита, – против меня действуют несколько генералов. Я знаю об их дивизиях очень многое, а они обо мне ничего. Интересный парадокс, не правда ли?
Я сегодня сказал об этом бойцам и надо было видеть, какой гордостью засветились их лица. Три года тяжелых лишений принесли свои плоды: мы владеем обширным районом Ленинградской области – «Семнадцатой республикой», как шутливо говорят бойцы. Да, Анна Сергеевна! Много пришлось пережить нашей Родине и каждому из нас. И знаете, что самое удивительное и самое волнующее? Верность. В самые мрачные дни, наполненные горечью неудач, болью и тоской, мы сохранили верность. Вот что самое дорогое в наших людях. Верность Родине, делу, другу. Верность партии, которая вела нас сквозь ураган войны. Теперь, когда позади самое страшное, вспомнить об этом особенно радостно. Анна Сергеевна! Когда я думаю о нашей победе,– она рисуется мне встречей старых боевых товарищей. Мне хочется, чтобы мы снова увидели друг друга и сказали то, чего не успели сказать, или не расслышали в урагане войны. На этой встрече мы вспомним пережитое. Каждое слово будет хмельным, как добрая чарка вина. Я надеюсь, вы поддержите мое предложение и пришлете свой новый адрес? Итак, до скорой встречи!
Чардынцев».
Анне показалось, что она прочитала эти письма за одну минуту.
Она снова почувствовала себя счастливой, будто крылья воспоминаний перенесли ее на фронт, к боевым друзьям. Вместе с ними кружила она по лесам и селам Ленинградской области, ускользала от карателей, била ашистских генералов неистощимым мужеством и изворотливой партизанской сметкой.
Странное дело! Вначале она чувствовала себя на войне сиротливым и хрупким существом, жертвой, потом обвыклась, втянулась в напряженную фронтовую жизнь, узнала настоящую цену людям. И главное – она все время ощущала себя на гребне событий, полных великого значения. Анна с энтузиазмом, на какой только способна была ее деятельная натура, отдавалась работе.
И вдруг тяжелая волна качнула землю...
Да, как это все-таки произошло?
Немцы ворвались в Грачевку с тыла, и когда Анну отбросило взрывом мины, они уже хозяйничали в деревне, обыскивая избы и повети. Мария Егоровна, та самая крестьянка, что позвала Анну к болылой дочери, вместе с двумя другими бабами перенесла раненую на руках в избу.
Никогда не забыть Анне, как бесстрашно заботились о ней эти три женщины – приносили хлеб, печеную картошку, обогревали ласкою в холодном подполе. Добрые женщины были вне себя от счастья после того, как, долго не приходя в сознание, Анна, наконец, открыла глаза и спросила непослушными губами:
– К-то в-вы?
– Русские мы! Русские бабы!
О, каким теплом повеяло от этих слов – русские бабы!
Она повела глазами, ища окно, и, не найдя, поняла все.
– Там... немцы, да? – спросила она снова после долгого молчания.
– Немцы. Только ты не тревожься, касатка, не выдадим...
Между тем ездовой, чудом уцелевший от взрыва мины, доложил Чардынцеву, что сам видел, как убило наповал Анну Сергеевну и санитара.
Штаб дивизии сообщил об этом на «Большую землю».
А для Анны мучительно тянулось время.
Будто назло, немцы не оставляли Грачевки, а, напротив, усиливали здесь свой гарнизон.
Нестерпимо ныла раненая рука, и сколько ни «испробовала Анна народных средств, облегчения не наступало. Осколком ей размозжило левую кисть и оторвало три пальца.
Рука продолжала распухать и Анне уже нельзя было приподнять ее.
«Начинается, должно быть, флегмона... Надо выбираться отсюда!» – решила она на исходе третьей недели своего необыкновенного плена. «Эх, противогангренозную сыворотку бы сейчас!»
– Завтра ночью я уйду,– сказала она своим спасительницам.
Те в ужасе всплеснули руками:
– Что ты, милая! У них что ни шаг – патруль.
Лучше уж так: шепнем одному мужичку...
– Кто такой? – насторожилась. Анна.
– Не бойся, человек верный. Да не знаем, возьмется ли сообщить партизанскому командиру.
Анна откинулась на подушку в бессильной досаде:
– Скажите ему, непременно скажите. Мне теперь ничего уж не страшно!..
Однажды у избы» остановилась пролетка, в которой сидел немецкий офицер. Анна быстро глянула в окно (она теперь часто поднималась из подпола), прищурилась и вдруг заметалась в радостной тревоге: она узнала Сухова. Через несколько минут пара добротных коней мчала их по проселку.
В тот же день ее вывезли на «Большую землю». Но исход болезни был все-таки печален: у Анны отняли пальцы.
Потом острая боль в левой руке вернула сознание, и Анна увидела склонившихся над ней товарищей. Она не могла вспомнить, кто именно находился тогда около нее, в памяти осталось лишь выражение их глаз, в которых были испуг и жалость.
И удивительно, что уже тогда больно ударило в сердце немое выражение жалости. Позже Анна перехватывала это выражение у санитарок и врачей, хотя они и пытались скрыть его профессиональной холодностью и напускной веселостью. Жалость преследовала ее, и она больше всего ненавидела это, в сущности, безобидное– чувство.
Вот и теперь подозрение шевельнулось в душе Анны.
А что, если и Чардынцев написал ей только из жалости?
Почему он во втором и третьем письме не интересуется причиной ее молчания? Значит, он знает все. Ну, конечно, Чардынцев нигде не пишет о том, что они ждут ее возвращения. Она – отрезанный ломоть!
Анна подошла к окну, стараясь отвлечься от тяжелые мыслей. Старые яблони стояли с низко опущенными ветвями. Медленно падали белые хлопья последнего, должна быть, в этом году снега...
Глава пятнадцатая
Анна шла со станции, разглядывая незнакомый город.
Блестели сырые, только что освободившиеся от снега крыши. Перебивая друг друга, весело спорили о чем-то воробьи. Молодыми голосами шумели ручьи, пели о летних грозах, травах и цветах, о душистых яблонях, о лесной тиши, о счастье. Вдали, смешавшись с горизонтом, синела Волга, отдохнувшая за зиму, бурлившая свежей силой. Сама ие зная отчего, Анна почувствовала, как теплая волна прошла по сердцу. Вместе с птичьим гомоном, с острыми, хмельными запахами весны вставали воспоминания.
...Зима. На белом снегу черные скелеты обгоревших изб. Ветер# плачет, воет в разбитых печных трубах разными голосами: то жалобными, то свирепыми.
Анна идет рядом с Чардынцевым. Он говорит о завтрашней операции, о санитарном обеспечении боя. Потом умолкает и после долгой паузы вдруг спрашивает тихо, с трудом подбирая слова, будто стесняясь:








