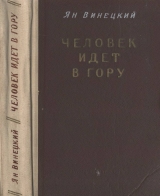
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
«Это наши засады» встречают огнем карателей», – догадалась она.
В Грачевке сохранилось лишь несколько изб. Их: окружали черные -гнезда пепелищ.
Анна прошла к пологу, за которым лежала больная, отвернула одеяло: у женщины были обожжены руки и, колени.
– За дитем она кинулась, – пояснила старуха, вытирая рукой глаза. – Двоих выволокла из полымя. А третий – два годка ему было – Петенька – задохся, видать. Не вытащи я ее оттудова – сгорела бы.
Анна прижгла обожженные места марганцовкой, смазала рыбьим жиром. Когда ода бинтовала лицо, больная приоткрыла глаза. В них отражалась боль, бессилие и тоска....
Анна думала о великой жертвенности матери. Перед глазами встал Глебушка. «Смотри, как мать боролась за ребенка, а ты? Оставила его в осажденном Ленинграде...»
«А я! – вспыхнуло в ней возражение. – А я разве не борюсь за сьина? За его будущее?»
И вдруг, глянув в окно, старуха мелко-мелко стала креститься. Зашептала бледными лубами:
– Господи!
Огромный ворон бил крыльями по заиндевелым веткам рябины. Ветки глухо стучали по стеклу. Так и запомнилась Анне эта черная птица в белых брызгах осыпающегося снега. Анна кинулась к окну. В деревню верхом на конях въезжали два гитлеровца. У Анны заколотилось сердце.
«Попалась», – пронеслось в мозгу ледяное, колючее.
«Живой не дамся!» – решила Анна, отстегивая кобуру пистолета. Она пожалела, что ни разу не сделала из своего пистолета ни одного выстрела. «А вдруг не попаду? Говорят, у него силыная отдача».
Старуха не переставала креститься дрожащей, высохшей, как осенняя ветка, рукой. Анна встала за пологом. Тяжелый пистолет дрожал в ее руке, словно его било током...
Отворилась дверь.
Старуха быстро засеменила навстречу и повела гитлеровцев на другую половину избы. Анна услышала за стенкой заискивающий, со стариковским присвистом, голос:
– Милости прошу, господа офицеры.
Егор Кузьмич Старишнов – бескорыстный друг и поклонник германской армии. Я при советской власти при кооперации состоял. Мылом да спичками промышлял. В мыло стекла яатолкешь, спички водичкой окропишь – смехота!
Смотришь – баба руку повредила, совецкую власть в 'бога ругает. Мужик спичку не запалил – опять же..'
– Очень хорошо! Чем же советская власть не по вкусу пришлась? Она тебя, можно сказать, возвысила, – спросил офицер.
– Из кулька в рогожку! Лошадок и коровок в колхоз угнала, хозяйство товарищам, язви их душу, на вечные времена отдала, а самого в Соловецкий монастырь на богомолье отправила. Годков через восемь явился смиренный соловецкий монах в Ленинград, выправил документишки, да и укатил на Урал, в кооперацию, смычку города с деревней налаживать.
– Есть у тебя в деревне такие мужики, которые отказываются германской армии хлеб сдавать?
– Все. Все они, как волки из леса, на немецкую армию глядят. Я прямо скажу: тяжелые у нас мужики, разбаловали их большевики, истинный бог, разбаловали. Я немецкой армии верой и правдой служу... Так они убить грозятся, истинный бот! Я писульку написал, пожаловался, значит.
– Ну и помогло?
– Давеча господин начальник района фон Вейс сам сюда пожаловал, да деревеньку и спалил.
Через несколько минут гитлеровцы со старостой уехали. Вошла старуха – бледная, усталая от пережитого напряжения.
– Я все время у дверей стояла. Думаю, ежели сюда войдут – не пущу, глаза выцарапаю!
– Добрая вы женщина, спасибо вам! – проговорила Анна. У нее дрожали губы.
– Тебе спасибо, родимая. Из-за нас ты едва смерть не приняла. Я уж так боялась.
– А староста—мерзавец, – сказала Анна и только сейчас заметила, что продолжает держать в руке пистолет.
– Собака староста, лютая собака! – подтвердила старуха. – Дохтур был у нас, душа-челбвек! Роман Ефимычем звали. Из Ленинграда вакуированный. Ласковый такой старичок, веселый. Все ребят учил, как ершей ловить. Червяка в бутылочке с валерьянкой выкупает...
Покойник, царствие ему небесное. Сказывают, пришел третьего дня староста к нему и говорит: «Дохтур, птица залетная, не полечишь ли от недуга?»
– А какой у тебя недуг?
– Совецкая власть по ночам снится. Аж в холодный пот бросает,—говорит староста, а сам щупает глазами, не выдаст ли страх дохтура.
Поглядел ему в глаза Роман Ефимыч, усмехнулся:
– Для недуга твоего одно лекарство есть – веревка.
– Нет, брат, тебе висеть первому! Кончилось твое дворянство!
– А твое началось? Смотри, счастье вора коротко. Староста толкнул ногой дверь, в сенях стояли два
немца.
Наутро Романа Ефимьича вызвал на допрос Вейс.
Спрашивает: «Ну как, придет твое дворянство?»
«Придет», – отвечает Роман Ефимыч. «Мое дворянство —советская власть, она что солнце: следом за ночью придет». «Ну так получай свое дворянство!»—закричал Вейс и застрелил старика.
...Айна добралась к штабу уже к вечеру.
Сухов вел бой с наседавшим с обоих флангов противником. Гитлеровцы били из минометов, окружая батальон огневым кольцом.
Анна принялась за свое дело: высмотрела двор и передала по цепи, что медпункт размещается у обгорелой избы, вызвала двух санитаров с медикаментами, и вот потянулись уже к ней раненые, хромая и пригибаясь под пулями.
Работая хирургическим ножом и зажимами, Анна отчетливо слышала лающие голоса врагов.
– «Он» недалеко... – сказал раненный в живот веснушчатый парень и прислушался, вытянув вверх острый, подбородок.
– Ничего, захлебнется! – успокоила Анна, а у самой зубы стучали в нервном ознобе. «Он» кричал уже в рупор заученно-жестокое: «Рус, сдавайся!» '
В руке у санитара дрожал электрический фонарик.
Много раз меняла в эту ночь Анна расположение своего медпункта, пока не очутилась на въезде в Грачевку.
Разрывные пули свистели вдоль деревни. От бронебойно– зажигательных пуль загорелась изба, соседняя с той, где днем была Анна.
Тягуче ревел скот. Выли собаки. Тьма озарялась вспышками разрывов мин, разноцветными строчками трассирующих пуль, мертвенно-белыми немецкими ракетами.
Перед рассветом прибежал связной от Сухова. Он был ранен в голову, и кровь заливала лицо.
– Читайте!—протягивая записку, отчаянно крикнул связной, но Анна стал перевязывать ему голову, а он не давался и все просил: – Читайте!
Закончив перевязку, Анна развернула записку:
«Немедл. отх. Трехозерку».
Она вздрогнула. Так лаконично Сухов еще никогда не писал. «Стало быть, «он» скоро будет здесь!»
– Есть, – сказала она негромко связному. Потом кликнула ездового, вместе с ним и санитаром погрузила на подводу тяжело раненного. Испуганно прядая ушами, рослый мерин, диковато рванув поводья, пошел вперед.
Анна шла следом, едва передвигая ноги. Она так устала, что все звуки боя походили теперь на страшный сон, а отрывочные виденья полудремы казались явью.
– Николай, родной мой... Ты видишь, как тяжело мне?
У выезда из деревни подводу нагнала мина. Со звоном рванулась земля. Анна упала навзничь... Ее закружило в бешеном водовороте и холодные сильные волны помчали на острые, как волчьи клыки, камни.
Анна хотела кричать, звать на помощь, но рот не открывался, сведенный судорогой...
Глава одиннадцатая
Лунин-Кокарев увидел, что Ибрагимов по-своему построил технологический процесс сборки самолета. Вместо того, чтобьг сначала подвешивать верхнее крыло, как это было указано в технологической карте, он, наоборот, прикреплял нижнее и затем по расчалке продвигал верхнее крыло.
– Ишь ты, на чем выиграть хочет! – проговорил Лунин-Кокарев и пошел в контору цеха. Вскоре он привел в ангар инженера-технолога.
– Поглядите, какую отсебятину порют: сзаду наперед машину собирают.
Инженер строго посмотрел на Ибрагимова.
– Вы почему технологию нарушаете? В технологической карте указано...
– Карту можно переписать,– сказал Ибрагимов, нахмурившись.
– А как быоъ, если рабочий вперед ушел, а карта ваша, товарищ инженер, его назад тащит? Неужто она икона? Можно рабочему критиковать технологическую карту или она написана «на веки вечные? – вмешался один из «шплинтов».
– Карта подписана главным технологом завода! – многозначительно вставил Лунин-Кокарев.
– Технологическая карта – не икона, – сказал технолог. – Но самовольничать нельзя.
– В этом моя вина, – согласился Ибрагимов.
– Ну, расскажите, что же у вас получается, молодой человек? – спросил инженер.
– А то получается, что по моему методу вместо двух рабочих на подвеске верхнего крыла только один занят. Эта расчалка мне заменяет человека! – Ибрагимов ударил рукой по расчалке. Она весело зазвенела, откликаясь на его движение.
Лунин-Кокарев удивился, как этот простой способ не маг ему раньше прийти в голову. Ведь тут нет ничего особенного.
«Вот тебе и «шплинты»! – воскликнул про себя Лунин-Кокарев. – Заносчив ты, брат! Задрал нос, ровно профессор какой..,. А тебе бы следовало присмотреться к Ибрагимову да перенять все подходящее».
Он боялся глянуть Ибрагимову в глаза.
– Технологическую карту перепишем. Выходит, действительно, устарела она, – сказал инженер, пожимая Ибрагимову руку.
Это было большой победой комсомольцев. С тех пор рабочих бригады Ибрагимова уже никто не называл «шплинтами».
С пуском конвейера завод почти удвоил выпуск самолетов. Напряжение возросло.
В последний день января внимание всего завода было приковано к сборочному цеху. Справится он с графиком, – можно докладывать наркому о выполнении месячного плана, не справится – соревнование завода за знамя Государственного Комитета Обороны будет сорвано.
Успех дела, теперь решали две самые сильные бригады сборочного цеха – Лунина-Кокарева и Ибрагимова.
Положение осложнялось еще тем, что неожиданно заболел один рабочий из бригады Ибрагимова и заменить его было некем.
Ибрагимов пел какую-то очень замысловатую татарскую песню; голос его то поднимался до очень
высоких нот, то внезапно обрывался и доходил до полушепота, быстрые, нарастающие, подмывающие плясать мелодии сменялись протяжными, заунывными, точно он ехал по бескрайной степи и задумчиво тянул песню, глядя в звездное небо...
В бригаде знали, что если Ибрагимов запел, значит, работа в разгаре, ему теперь мешать нельзя. И действительно, руки его быстро переходили от одной детали к другой, кивком головы либо взглядом он поправлял своих товарищей, которые понимали все его движения. Если гайка не наворачивалась или обнаруживалось, что неправильно пропущен в роликах трос,– голос Ибрагимова стихал, будто замирая, потом, исправив дело, Ибрагимов выводил такие мощные, торжествующие рулады, что работавший в другом конце ангара Лунин– Кокарев удивленно бросал:
– Ишь разобрало парня!
Во второй половине дня начальнику цеха стало ясно, что бригада Ибрагимова сборку самолета во-время не кончит. Из других бригад снять никого нельзя: все работали с полной нагрузкой.
Пока начальник цеха и секретарь парткома Гусев обдумывали, как выйти из создавшегося затруднения, в кабинет влетела (именно влетела) диспетчер Клава Петряева. Тоненькая, легкая и подвижная, она чем-то неуловимым напоминала птицу.
– Забавная новость! – сказала она, подбегая к столу.
Потом, очутившись у окна и откинув назад голову, продолжала:– На самолете Ибрагимова работает... Ну, кто бы вы думали? – Петряева округлила свои искрящиеся смехом глаза:—Лунин-Кокарев! Честное слово!
Это было и впрямь невероятно. Между Луниным– Токаревым и Ибрагимовым шло соревнование за звание лучшего сборщика завода. Лунин-Кокарев. Пережил немало неприятных минут от поражений, которые из месяца в месяц постигали его бригаду. И вот теперь, когда Лунин-Кокарев мог, наконец, победить своего соперника, получить большую премию и добиться удовлетворения своего оскорбленного самолюбия, он от всего этого отказался и пришел на помощи Ибрагимову.
– Молодец! – сказал Гусев восхищенно.– А мы его считали «человеком с причудами».
В кабинете директора Николай неожиданно встретил Тоню. В ее глазах он сразу прочел тревогу.
– Что случилось? – спросил Николай.
Мишин мягко взял его за плечи, подвел к столу.
– Тебе две бумаги...
Первая была телеграммой наркома авиационной промышленности, поздравляющей «Николая Петровича Бакшанова с высокой правительственной наградой – орденом Красной Звезды».
А вторая...
Три слова, как электрический разряд, вспыхнули в сознании.
Они сочились горем и болью...
«Анна»... «смертью храбрых...»
Николай закрыл своей большой рукой глаза. Губы его дрожали, будто он непрерывно что-то шептал.
– Николай,– проговорил директор тихо и мягко, словно боялся дотронуться даже «голосом до его раны.
Он хотел продолжать, но умолк, поняв, что нет таких слов, которые были бы сейчас нужнее простого молчания.
Лето стояло ветреное, холодное. Со стороны Волги бежали беспорядочные толпы облаков, будто и они спасались от нового фашистского натиска. В кубанские степи прорвав ростовские ворота, хлынули танковые и мотомеханизированные армии врага.
Газеты мужественно и строго говорили об опасности, призывали драться до последнего дыхания.
В городе был создан Комитет Обороны. Тысячи людей рыли укрепления в приволжских районах.
Великая русская река с глухим рокотом катила тяжелые волны. Казалось, будто сама ярость народа вскипала меж ее берегов.
Николай не помнил, как он жил это время. Анна погибла! Николай видал, как она собирала морщинки на переносье, как смеялась, забросив (назад голову, слышал, как строго и заботливо выговаривала ему, что он давно не мыл голову или не застегнул пальто, когда выходил из дому.
В голодный девятьсот семнадцатый год в Петрограде заболела тифом мать. Николай помнил, каким неожиданно чужим и страшным стал мир. И вместе с холодом нетопленной петроградской квартиры его бил холод потрясенной детской души.
Теперь сиротливость Николая была ужасней. Вместе с Авной погас для него целый мир надежд, радостей, красоты. Он впервые испытал тупую безысходную тоску одиночества.
Случалось, что едва только встретив человека, Николай влюблялся, боготворил его, а потом, поздно заметив свою ошибку, неожиданно и жестоко разочаровывался.
Он оставался большим ребенком – доверчивым, добрым и наивным. Анна говорила, что Николай не умеет разбираться в людях. Самое незначительное внимание, теплое слово, брошенное вскользь, вызывали в нем глубокое волнение.
Но зато каждая мимолетная, случайная встреча с злобными и подлыми людьми оставляла тяжелый осадок горечи.
Николай слег в постель. В карих, всегда спокойных и умных глазах Николая теперь жило ненастье.
– Не сберегли здоровьице, Николай Петрович. Все у вас «нараспашку: и душа, и пальто. Комсомольский душок не выветрился, а возраст уже не тот,– сказал врач.
– Душу я застудил, верно,– сказал Николай и закашлял надрывно и тяжко.
По ночам он бредил. Глебушка просыпался, испуганный громкими вскриками отца. Потом долго молча плакал, смутно понимая, что с отцом что-то неладно.
Для Тони эти ночи были бессонными. Она то успокаивала Глебушку, то укрывала одеялом Николая, метавшегося на кровати, то грела воду, наливала в бутылки и прикладывала их к его ногам.
Поутру, полусидя у изголовья Николая, она забывалась в коротком и тяжелом сне. Проснувшись, Тоня пугалась и стыдилась своей слабости, будто она позволила себе что-то нехорошее. Николай лежал с открытыми глазами. На бледном, обросшем рыжими волосами лице временами блестели
слезы. Тоня готовила завтрак Глебушке, варила бульон или кашу, насильно кормила Николая. Когда она прикрикивала на него, он, слабо усмехнувшись, Говорил:
– Ого, узнаю Анину породу.
Приходила Марфа Ивановна, укладывала Тоню спать, а сама оставалась у постели сына. Сергей Архипович к Анна Спиридоновна были тут же.
Вечером являлись товарищи Николая, справлялись о его здоровье. Тоня не пускала их в комнату. Она выходила в коридор и подробно отвечала на все вопросы.
– Мне надо с ним срочно поговорить, понимаете? – отрывисто частил Солнцев своим глухим баском. Но Тоня была неумолима.
Однажды приехал директор завода. Он привез в маленьких мешочках рис, сахар, муку. Тоня отказалась, на Мишин, сдерживая раздражение, сказал:
– Вы знаете, что значит для завода Бакшанов? И если вы не поставите Николая Петровича на ноги...
Взглянув в ее усталые глаза, он добавил:
– Впрочем, вас агитировать не нужно. Одно прошу: если встретятся какие-либо затруднения, звоните мне. Прямо звоните, несмотря ни на какие заседания и совещания.
Он крепко пожал ей руку. Тоня сразу почувствовала себя сильнее.
Болезнь Николая постепенно шла на убыль. Но странное дело, выздоравливая, он становился мрачнее, молчаливее.
Только однажды, немного оживившись, вспомнив о чем-то, он сказал:
– Вот вышло солнце. Смотри, сколько тепла, света, красок вокруг! А уйдет – ночь, темень... Тоня, я думаю о том, что у каждого человека есть свое солнце. Пока оно светит,– тепло ему на земле, празднично. А погаснет...
Он спрятал лицо в подушку.
– Нет, у всех у нас одно солнце – Родина! – тихо сказала Тоня. Николай поднял голову и долго, не мигая, молча смотрел на Тоню воспаленными глазами.
Тоня поняла, что ему неофсодимо теперь общение с людьми, и она задерживала навещавших его друзей подальше, боясь оставить Николая наедине со своим горем.
Он расспрашивал их о заводе, благодарил за газеты и журналы.
С Солнцевым примирение произошло просто и немногословно. Александр Иванович сказал, что шумопламягаситель, вероятно, вскоре пройдет испытания в Научно– исследовательском институте.
Уходя, Солнцев, покраснев, проговорил:
– Прости меня, Николай... Не понял я тогда твоей кабины. Ты дальше меня видел. А я, вместо помощи, помехой был.
– Чего там! И я тоже хорош. Обозлился, насупился.
Спор по службе перевели в личную ссору. Петухи!
...Тяжелые вести с фронта подняли Николая с постели. Он не мог больше оставаться в комнате и, улучив момент, когда Тоня уехала на завод, вышел на улицу. У газетных витрин толпились люди, молча и угрюмо читая о новом наступлении врага. Николай, нахмурив широкие брови, долго ходил по городу. Он сильно ссутулился и выглядел стариком. Ноги подгибались от слабости.
Николай свернул в городской сад и присел отдохнуть на длинной низкой скамье напротив фонтана. Ветер копался в густой шевелюре лип и кленов. Могучий тополь осыпался белым пухом. Ветер подхватывал хлопья, кружил их, подбрасывал вверх.
Николай поймал пушинку, долго разглядывал желтое зернышко семени. На тяжелой ветке тополя медленно раскачивалась ворона.
Молодая воспитательница вывела на прогулку детей.
Они расположились напротив Николая. Веселия ватага мальчишек с шумом окружила его.
– Дядя, у меня дома патроны есть. Я стрелять умею! – звонко сообщил один мальчуган, а второй, черный, с раскосыми живыми глазами, взобрался к нему на колени и с детской непосредственностью спросил:
– Дяденька, дай мне очки, а? На одну минуточку . Только на одну минуточку! Я никогда еще из них не смотрел.
Николай улыбйулся. Эти озорники вывели его из оцепенения. Мальчишки примеряли очки Николая и ему было смешно их разочарование.
– А у моего папы есть очки... вот уж очки! Я в детском саду на голове Володьки пальцами рога строил, а домой пришел – мне от папы влетело. «Смотри у меня!– говорит.– Я все вижу!» Вот у него очки какие!
Выждав, покуда все мальчуганы примерят очки, Николай поднялся и с трудом оторвался от звонкой, цеплящейся за него детворы.
Николай сел в трамвай, шедший к аэродрому. Ему захотелось повидать летчиков, мотористов.. Юн любил говорить с ними о самолетах, любил их простую, умную, проверенную опытом критику, которая была беспристрастной потому, что шла от души.
Когда Николай вернулся домой, там сидел Мишин, 'беседуя с Тоней. Всматриваясь в Николая, директор; сказал:
– Больной, а не лежишь. Этак недолго и в симулянты записать.
На бледном лице Николая блестели воспаленные глаза.
– Побродил, солнца напился,– ответил он и закашлял.
«Плох ты еще, брат, плох!Одумал .Мишин,– И горе тебя гложет...»
Николая взволновало внимание директора, и он стоял растерянный, не зная, что сказать этому доброму ,человеку.
Мишин был свежий, крепкий, веселый. Если бы Николай не знал, что директор весь день провел в беспокойном труде по руководству огромной махиной завода, и что ночью в коротенькой тужурке и простой, сдвинутой немного набок кепке его будут видеть то в сборочном, то в механическом, то в деревообделочном цехах, если бы этого Николай не знал, он мог бы подумать, что Мишин недавно встал после дневного послеобеденного сна.
В углах рта у Мишина все время пряталась улыбка, и казалось, что нет такой трудности, нет такого несчастья, которые смогли бы стереть эту живую, лукавую усмешку.
– У тебя большое горе,– сказал Мишин, придвигая Николаю стул.– Я понимаю. Это очень тяжело. Но ты его еще больше усугубляешь. Война – ураган. Одних сшибает ветром, другие – у кого слабые сердца – падают от страха.
– Я принадлежу, конечно, к последним? – спросил Николай.
– И да и нет,– засмеялся Мишин.– Видишь ли... тяжелые испытания для сердца человечьего это то же самое, что высокая температура для металла – закалка!
– Но бывает и пережог,– с затаенной грустью сказал Николай.
– Вот-вот-вот! Перед тобой сейчас эта опасность и стоит.– Мишин помолчал. Потом, кашлянув, сказал той твердой скороговоркой, которую Николай не раз слышал на заседаниях:– Получено задание правительства о выпуске опытной серии машин.
– Новая модификация? Чья? – оживился Николай.
– Поликарпова.
– Николая Николаевича! Интересно!
– Вчера я говорил с Москвой. После наркома к аппарату подошел Николай Николаевич. Он просил назначить ведущим инженером именно тебя. Так!
– Меня? Значит, он помнит Кольку Бакшанова – долговязого студента, мечтавшего стать великим конструктором?!
К Николаю пришло веселое настроение.
Мишин широко улыбался: он радовался удаче.
Тоня стояла, прислонившись к двери. В глазах ее блестели слезы.
На другой день Николай поехал на завод. На площадке трамвая широкоплечий, ладный военный, положив руку на плечо девушке, рассказывал ей что-то интересное.
Он стоял к Николаю спиной. Девушка низко опускала голову, краснела. Потом вдруг резким движением вскидывала голову и в глазах ее копилось столько боли, страдания и... жалости, что было странно, как не замечает этого военный.
А он, неугомонный, рассказывал ей, рассказывал...
Его веселый басок был исполнен внутренней нерастраченной силы. Искорки здорового, неунимающегося смеха сверкали в его голосе, как светляки.
Военный обернулся, Его лицо рассекали лилово– красные шрамы. Он был слепой.
У Николая перехватило дыхание.
«Сколько жизненной силы в этом человеке! – подумал Николай.– Сколько в нем душевного здоровья, если обезображенный, он так смеется и шумно, весело рассказывает!»
«Вот человек! – внутренне восклицал Николай, не спуская с военного восхищенного взгляда.– Вот красавец-человек!»
На заводе формировался комсомольский полк ночных бомбардировщиков. Он должен был направиться в Сталинград. Летчики – молодые парни, более полугода просидевшие в запасе на положении «безлошадных», – так звали тех, кто потерял в боях самолеты – теперь с жадностью и нетерпением поглядывали на новенькие машины, выстроившиеся гуськом в сборочном цехе. На головном самолете к цилиндру мотора был прикреплен красный флаг с белыми, будто стреляющими словами:
«Не отдадим Сталинград!».
Летчиков знакомили с лучшими рабочими, приглашали на собрания. Военные краснели, беспокойно поглядывали друг на друга: чем заслужили они такое внимание?
Героического за ними пока еще ничего не водилось. Весь прошлый год они отступали, встречаясь с немым выражением укора и тоски в глазах населения, потом сидели в запасном полку, играя в «козла» и дожидаясь, когда их снова введут в дело.
Они слышали лаконические диспетчерские сводки, яростные телефонные звонки, отрывочные приказания начальников, выкрики рабочих, вой электродрелей, грохот моторов на заводском дворе и им казалось, что они на передовой линии в момент самой горячей операции.
«Тот же фронт!» – удивленно думали летчики и им становилось обидно от того, что они ходят туристами среди этой бурлящей трудовой страды.
Когда самолеты были окончательно готовы, в сборочный цех созвали рабочих и служащих завода. Открывая митинг, директор предоставил слово Маше Лаврутиной.
На импровизированную трибуну поднялась смуглая, кареглазая девушка с густой шапкой темных волос. Сильнее волнение вздымало ее грудь.
– Товарищи! – сказала она, обращаясь к выстроившимся в одну шеренгу перед трибуной летчикам. – Рабочие, инженеры и техники нашего завода поручили мне сказать вам напутственное слово. Оно будет коротким.
Гитлеровцы у Волги! В ком из нас не горит сердце яростью, не стучит великой тревогой? Нельзя пускать их дальше! Как душа народа, священная река наша должна остаться чистой! Там, у Сталинграда, на том берегу Волги решается судьба России. Мы передаем вам эти самолеты, в которых заключен упорный труд и воля к победе. Стойте насмерть! Отбросьте фашистскую нечисть и гоните ее прочь с нашей земли!
Ответное слово сказал командир полка, молодой низкорослый майор с круглым, добродушным лицом. Он хмурил густые бро'ьи, но от этого его лицо не переставало быть смешливым. Майор, видимо, не был мастаком говорить, но слова его были твердыми и острыми, как гвозди.
– Товарищи рабочие! Спасибо за машины. И за доверие спасибо! Не посрамим вас. Будьте уверены! А фашистов мы знаем. Злые мы на них, как черти: второй год на сердце мозоли носим! Все бурно захлопали.
– Позвольте мне! – крикнул дядя Володя. Он выбрался из густой толпы рабочих, постаревший, в своей неизменной курточке, усеянной красками.– Крепко тут Маша говорила, да только словом одним обмолвилась она не совсем верно. «Там, у Сталинграда, – сказала она, – решается судьба России». А здесь-то мы что решаем? Россия – она в великом и в малом. Завод наш ведь тоже Россия. И твой станок, Маша, тоже Ро-ссия. И судьбу ее, России-то, решаем мы все.
– Правильно! – громко сказал Мишин.
– То-то! – продолжал дядя Володя, польщенный возгласом директора. – Передний край обороны, он ведь проходит здесь, в цеху, понять это надо! А военным от себя по-стариковски скажу: бейте крепче, ребята! Бейте так, чтобы у фашиста дух вон и пятки кверху! – Он опустился с трибуны и обошел всех летчиков, пожимая им руки. Все смеялись и rpoмкo аплодировали.
Николая поразила простая и глубоко верная мысль, выраженная старым рабочим дядей Володей – «Передай край обороны проходит на нашем заводе». Именно здесь. Именно у каждого станка. И если бы это понимали все, абсолютно все рабочие и инженеры! Передачей двадцати опытных самолетов комсомольскому полку заканчивалась очередная работа Николая и мысль уже искала новых задач. Он все еще считал себя виноватым перед заводом и старался наверстать время, которое упустил. Засиживаясь допоздна в конструкторском отделе, он забывал о последнем автобусе и потом глухой ночью, в стужу, шел пешком пять километров по белесой от снежных вихрей дамбе. Случалось, когда нахлынут невеселые мысли, вызванные неудачами на фронте или болью воспоминаний об Анне, он спускался в цех, к рабочим. Они заражали его своим энтузиазмом, спокойным мужеством.
После митинга Мишин вызвал к себе Николая.
– Не пора ли подумать тебе о гражданской машине?
Соорудить бы эдакий воздушный фаэтончик.
– Сейчас? – удивился Николай.
– Думаешь, рано? – спросил Мишин. – А ты слыхал мудреное такое слово – реконверсия? Многие же из нас себе под ноги смотрят. Надо, Николай, по-хозяйски вперед глядеть. Представь, окончилась война, а мы будем продолжать народные деньги на войну бухать. Или приказа ждать?
«Что это – оптимизм или потеря чувства реальности?» – шевельнулась »у Николая мысль.
– Я знаю, что ты сейчас подумал, – улыбнулся Мишин. «Гитлеровцы к Волге пришли, а он о мирной продукции болтает». Верно? Ну, так ведь о нашей Волге и в песне поется: «широка и глубока». Эльба или Одер поуже да помельче будут! Мишин взглянул на Николая серыми улыбчивыми глазами:
– Нужен нам самолетик, нечто вроде небесной эмочки. Комфортабельный, простой в эксплуатации.
Воздушному транспорту принадлежит большое будущее: ни тебе , ни вьибоин, ни светофоров, «и милиционеров, – засмеялся он. Потом, глубоко затянувшись трубкой, выпустил длинную струю дыма и продолжал: – Завод не может просто возобновить довоенное производство. Он должен подняться на ступень более высокую. Так!
– Я подумаю,– сказал Николай, нахмурившись. Он все еще не мог представить себе, как можно говорить о послевоенном производстве сейчас, когда гитлеровцы захватили чуть ли не весь юг и запад России.
– Мрачный ты, – сказал Мишин. – Тебе больше смеяться надо.
Николай поднял брови.
– Нет причин.
– А надо. Смех проветривает душу. Когда на собрании дядя Володя важно, словно генерал, пожимал летчикам руки,– все смеялись, а ты даже не улыбнулся.
– Меня поразила глубокая мысль дяди Володи о ереднем крае,– задумчиво проговорил Николай.
У Мишина заблестели глаза.
– В чем героизм русского солдата, знаешь ли ты? – спросил он и сам ответил: – В спокойном, будничном мужестве. Не то ли самое и в героизме русского рабочего, во сто крат более терпеливом и будничном?
Зазвонил телефон. Обком партии требовал немедленно выделить двести человек для рытья противотанкового рва на берегу Волги.
– Ох! Где же мне их взять – двести человек? – вздохнул Мишин, но спорить не стал: дело было
серьезное.– Ну, желаю успеха! – сказал он, подавая Николаю руку. – Завидую я тебе, конструктор. Ты рожаешь, а мы только няньчим.
Николай задержал руку директора в своей руке.
– Семен Павлович, я собирался поговорить с вами об одном очень важном для меня деле. Если разрешите...
– Пожалуйста, Николай Петрович.
Николай волновался. Он почему-то снял очки, оставившие розовый след на переносье. Губы его едва приметно дрожали.
– Я много думал об этом, но не мог решиться. Кто я такой, в сущности говоря? Инженер-конструктор, беспартийный специалист. Слово-то какое, а? Как веет от него старым, давно пережитым. Я сам помню этих «лойяльных» специалистов, прошлое тяготело над иими. Но почему я беспартийный? Сын рабочего, в детстве бывший пионером, в юности комсомольцем, почему я теперь беспартийный? Ответа на этот вопрос не еашел. Я просто оставил передовые ряды и ушел в обоз.
– Обоз тоже нужен. Без обоза и передовые недолго впереди пробудут, – сказал Мишин, склонив голову набок и лукаво прищурясь.
– Но когда предстоит атака, и атака трудная, все здоровые бойцы из обоза идут вперед, – ответил Николай. – Я хочу просить вас... дать мне рекомендацию в партию. Мне кажется, только вы можете определить, по плечу ли будет мне эта большая ноша.
Мишин встал и, выйдя из-за стола, молча обнял Николая...
Бакшанов шел по заводскому двору, рассуждая вслух:
«Кажется странно – в одно и то же время отдавать приказание о рытье противотанкового рва и готовить производство к выпуску мирной продукции. А подумаешь, – не в этом ли главное и решающее, чего не поняли, да так и не поймут гитлеровцы, аккуратно подсчитавшие все наши возможности».








