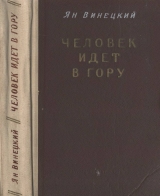
Текст книги "Человек идет в гору"
Автор книги: Ян Винецкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
– Я не сумею! Да я левой рукой весь график сделаю!
– Ну, хватил! – засмеялись рабочие.
Утром кабины были готовы. Темиозеленые, остро пахнущие эмалитом, они действительно напоминали бутафорские огурцы. Николай лег на носилки, и рабочие по полозкам вставили их в кабину: Задняя крышка захлопнулась. В кабине стало темно и душно.
– Откройте! – попросил Николай.
– Что так скоро?—полюбопытствовали рабочие, открывая кабину.
– Весело... как в гробу, – вздохнул он и попросил вырезать в кабинах по два окошка и затянуть их слюдой,
сделать вентиляцию. Быстров принес ремни для привязывания раненых.
– А то иной в беспамятстве начнет буйствовать и вывалится, как птенец из гнезда.
– Верно, – согласился Николай.
– Ну, поздравляю!—сказал Быстров, крепко пожимая ему руку. – Поздравляю!
– Спасибо. Но, к сожалению, рановато, – ответил Николай. – Сделано только полдела. Кабины надо еще установить на самолет, а он может заупрямиться и не потащить их...
Николай пошел к главному инженеру просить самолет для испытания кабины. Александр Иванович уже все знал.
– Что это вы придумали? Плод, так сказать, возбужденного бомбардировкой ума? Конструирование скоростным методам?
– Я придумал кабины для перевозки раненых и считаю, что на нашей машине это вполне осуществимо,– спокойно ответил Николай. Он слишком устал, чтобы обращать внимание на колкости Солнцева.
– Кабины? На «ПО-2»? Что, по-вашему, самолет, которого можно увешать корзинами?.
– Увешаем. И будем возить!
– Николай Петрович, если бы это сказал Быстров..;
(Главный инженер вспомнил вчерашнее заседание парткома.) Но вы! Как вы решились на эту авантюру?
– Я пересчитал коробку крыла с кабинами. Коэффициент запаса прочности...
– Эт-то... – перебил его Солнцев. – Эт-то назьается.,. насилием над аэродинамикой.
Солнцев задыхался. На покрасневшем лице выступил пот. Он нервно провел рукой по гладкой и блестящей, как крыло самолета, лысине.
Николай начинал злиться.
– Мы с вами отличаемся от инженеров~буржуазной школы тем, что, кроме науки сопротивления материалов, знаем еще науку сопротивления человеческого духа, идеи.
Об этом-то вы и забыли, Александр Иванович.
– Не понимаю, причем тут философия? – пожал плечами Солнцев.
– Притом, что сегодня... – Николай подчеркнул слово «сегодня», – ...мы не можем руководствоваться обычными нормами, не имеем права!
Он помолчал и тихо добавил, в упор глядя Солнцеву в глаза:
– Родина в беде. Мы должны мыслить смелее и не бояться риска. – Александр Иванович отвел взгляд.
– А не сорвется в штопор?—как бы невзначай спросил он.
«Боится», – подумал Николай и с обидою в голосе ответил:
– Расчет самолета вам известен.
В кабинет вошел директор, и Николаю показалось, будто сразу стало светлее, солнечней. На чистом открытом лице Мишина сияла добродушная улыбка.
– Я был в парткоме и узнал от Гусева о вашей кабине. Прекрасно, Николай Петрович! Как только закончим дам испытания, я доложу наркому. – Мишин, повернулся к Солнцеву и сказал, понизив голос: – Сегодня же издайте приказание по заводу а проведении , испытаний самолета с кабинами Бакшанова. Назначьте комиссию и составьте смету.
Николай в каком-то неожиданном порыве пожал руку директору. Затем, на мгновенье задержавшись, шагнул к Солнцеву. Рука главного инженера была холодной и
влажной...
Среди летчиков пополз осторожный слушок: самолет с кабинами Бакшанова имеет тенденцию срыва в плоский штопор.
Люди говорили об этом мало, как бы невзначай, но косились на самолет, нагруженный непосильной ношей.
– Не узнал бы Пал Палыч... заклюет! – с опаской говорили они, дивясь репейной цепкости слуха. Но узнал об этом Бирин очень скоро. Машину выкатили на зеленую площадку
испытательной станции для подготовки моторной группы. Бирин собрал испытателей и стал их знакомить с летными данными нового самолета. Никто не разделял его восторга»
Лица у всех были скучные, в глазах угадывалось тайное спокойствие.
– Ведущий летчик еще не назначен. Но думаю, честь эту мне окажут, – закончил Бирин, довольно улыбаясь.
– Невелика честь-то, Пал Палыч!—громко сказал
Жуков, обычно говоривший тихо и невнятно.
– Как? – не понимая, вскинул брови Бирин.
– Так! Лбом землю как бы буравить не пришлось.
Кукарача эта... из плоского... не выходит.
Бирин рванулся к Жукову, схв-атил его за плечо.
– Кто тебе сказал?!
– Пусти... чего уцепился?.. Весь завод говорит!
Подошел Бакшанов. Жуков отвернулся.
– Ты слыхал? Кто-то пустил слух...
– Знаю. Сюда выезжает директор с главным
инженером.
– А вот и они... легки на помине!..
Директор завода резко затормозил автомобиль недалеко от самолета. Он был в синих брюках и зеленой саржевой гимнастерке, которая, казалось, стесняла его крепкую фигуру. Расстегнутый ворот белой русской рубашки открывал загорелую, сильную шею. Главный инженер шел рядом неторопливой походкой. Он всегда держал голову чуть набок, будто прислушивался к чему-то.
Позади двигались члены комиссии по испытанию опытного самолета. Здесь были и военные представители.
Директор пригласил всех сесть на траву.
– Обстановка для совещания несколько необычная, – добавил он, коротко усмехнувшись.
– Вот и хорошо! – отозвался Бирин. – Чем тверже сидеть, тем короче заседать.
Главный инженер дольше всех выбирал место, потом подстелил носовой платок и осторожно опустился на траву. Минуту спустя подъехал на своем газике секретарь парткома Гусев.
– В связи с тем, что некоторыми членами комиссии,– директор посмотрел на главного инженера, – высказаны подозрения, что самолет предрасположен к плоскому штопору, я решил перед началом испытания обменяться мнениями. Если подозрения обоснованы, то мы не можем рисковать ни жизнью, ни машиной. Необходимо будет найти конструктивное решение этого вопроса.
Затем взял слово главный инженер и начал туманно изъясняться, что, вследствие изменения габаритных размеров рулей высоты, горизонтальное оперение самолета оказалось в зоне затенения от вертикального оперения, то-есть обнаружился явный признак склонности к плоскому штопору. Кроме того, значительно изменена центровка самолета...
Речь его была усеяна техницизмами, как подсолнух семечками.
Николай защищался вяло: он был подавлен самой мыслью о возможности несчастья. Бирин снова окидывал расчетливым взглядом хвост самолета. «Руль глубины у него высокий... не может быть, чтобы самолет не выходил из плоского... Да его с таким рулем и не загонишь!..» – думал летчик, и все больше и больше нарастала в нем неприязнь к глав-ному инженеру, к его самоуверенному, бархатному голосу, даже к его бородке «лопаткой».
– Расчет самолета не подтверждает этих опасений,– ответил, наконец, Николай, глядя немигающими глазами на главного инженера.
– Авиация – такая область техники, где точность эксперимента превышает точность теоретического расчета, – сказал Солнцев многозначительно. – Я думаю, что надо взвесить возражения на весах опыта. Для этого я разработал предложение, которое заключается в подвеске к килю специального парашюта. В штопорном положении летчик дергает за трос, соединенный с парашютом, и самолет выходит из штопора. Я предлагаю отложить испытания на время, необходимое для изготовления парашюта. »
Лицо Николая горело темным румянцем. Он окинул Солнцева строгим, почти злоб-ным взглядом и глуховатым, не своим голосом начал:
– Предложение главною инженера нельзя расценивать иначе, как глумление не только над аэродинамикой, но и над здравым смыслом...
Завязался напряженный технический спор. Бирин вполголоса сказал секретарю парткома:
– Парашютик, Федор Антонович, не столько рассчитан на выход из штопора, сколько на то, чтобы опорочить самолет с кабинами Бакшанова. Я, как летчик, протестую против подобного трюка!
Главный инженер запальчиво бросил, перебивая Николая:
– Немедленное испытание самолета... эт-то... по меньшей мере самоубийство! Да, да! Более того, самолет с полной загрузкой даже не взлетит!..
В лукавом прищуре глаз директора таилось пристальное внимание.
Бирин до сих пор считал неуместным ввязываться в сугубо научной спор инженеров, но, наконец, не выдержал:
– Гляжу я ца вас, товарищ Солнцев, и диву даюсь: откуда у вас столько спокойствия, эдакой ученой неторопливости? Не оттого ли, что фронт от нас еще далеко и вы забыли, что идет смертная война с фашизмом?
– Не митингуйте, пожалуйста! – дал волю своему раздражению Солнцев. – В технике митинг как метод решения вопросов неуместен.
– Значит, техника сама по себе, а война – сама по себе? Так я вас понял?
Солнцев нервно передернул плечами.
– Удивительная манера у людей вмешиваться не а свое дело!
– Не в свое дело? – вспыхнул Бирин. – Если бы самолет был только Николая Петровича, – шут с ним, пусть бы Бакшанов барахтался с вами в паутине ученых споров. Но это наш самолет! Это мой самолет! – Тонкие губы главного инженера зазмеились в иронической улыбке. – Не улыбайтесь! Я кое-что понимаю в самолетах»
Как старый летчик, я заявляю, что предложение о парашюте на киле – нелепо! Это все равно, что на лошадь надеть цилиндр.
Многие члены комиссии одобрительно засмеялись.
Директор дал слово секретарю парткома. Гусев пригладил свои кудрявые, чуть тронутые сединой волосы и, как всегда, начал негромко, но твердо:
– По-моему, прав Бакшанов, прав Бирин. Нам дорог сейчас каждый день. Подумайте, сколько раненых бойцов было бы спасено, двинь мы наши кабины на фронт?!
Я слышал разговоры, что кабины Бакшанова вызовут много дополнительных работ, надо менять технологию и прочее. Нет ли, товарищ Солнцев, и в вашем предложении отложить испытания отзвука этих вредных настроений? Партия требует от нас отдать все силы борьбе с врагом. Этот самолет – первый экзамен нашей работы по-новому, по-военному!
– Так! – резко выдохнул директор, будто ставил точку над принятым уже решением. Он глубоко затянулся трубкой.– Приступим к испытаниям,– и он поднялся первым, дав понять, что совещание окончено.
Бирин тщательно осмотрел самолет. Осмотр еще больше укрепил в нем уверенность, что машина не должна входить в плоский штопор. Когда он садился в кабину, провожающие с трудом скрывали тревогу.
Павел Павлович долго пробовал мотор, резко меняя обороты, проверяя надежность регулировки, и, наконец, дал сигнал убрать тормозные колодки. Через полминуты он был уже в воздухе. Летчик осторожно проверил управление рулями, пролетел над аэродромом, плавно развернулся вправо и влево, потом, положив машину в глубокий вираж, стал смело кружить в небе.
Кабины на крыльях совершенно изменили привычный вид «ПО-2», и он казался каким-то диковинным трехмоторным самолетом.
– Ведет себя отлично!—доложил Бирин после посадки.
В кабины на крыльях загрузили вместо людей тяжелые мешки с песком. Залили полные баки горючего. В самолет сел Николай.
Александр Иванович пристально следил за ним.
– Николай Петрович, вылезайте! – сказал он тонам, не допускающим возражений. – По программе испытаний в задней кабине самолета должен находиться мешок с песком.
– Зачем неоправданно рисковать? – поддержали Солнцева члены комиссии.
– Нет, нет! – решительно сказал Николай, застегиваясь привязными ремнями. – Во-первых, отдавая предпочтение мешку с песком, вы тем самым оскорбляете меня и, во-вторых... – он посмотрел в сторону Солнцева... – иных инженеров это убеждает больше самых точных расчетов!..
Бирин дал полный газ мотору, и самолет, пробежав больше обычного, взлетел. Он плавно набрал высоту и вскоре исчез в бледном мареве неба.
Через час самолет вернулся, и Бирин на рулежке высунул руку с поднятым вверх большим пальцем.
Военный представитель крепко пожал руку Николаю:
– Вы добились исключительно удачного решения.
Вместо одного человека, самолет сможет брать троих, причем двух тяжело раненных. И главное, получена возможность существующий самолетный парк быстро переключать на перевозку раненых.
– Ну, теперь уже поздравляю вас окончательно! – обнял Николая Быстров.
Директор пригласил Николая и Солнцева в свою машину. Серые глаза его лучились радостью.
– Александр Иванович, возьмите на себя руководство подготовкой чертежей и технологических карт. Через три дня запустим в серию.
– Хорошо,– холодно ответил Солнцев и отвернулся.
Глава четвертая
Николай отворил дверь, и сразу пахнуло на него родкым, волнующим, грустным. Анны не было. Глебушка спал. Лицо его побледнело, осунулось. Мать сказала, что Анна пошла на работу. Марфа Ивановна часто заморгала, краем платка утерла слезы.
– Лица на ней не стало: почернела вся, глаза ввалились. На Глебушку все смотрит и плачет...
«Марфа Ивановна, – говорит, – родимая, за сыночком смотрите. Одна на вас только надежда. Николай, знаете, какой у нас непутевый: за ним самим, что за малым дитем, ходить надобно». – Извелась я с ней. «Куда ты, – говорю, – матушка, собираешься? Лукавый тебя что ли опутал? Где же это видано, чтобы баба сама дите бросала и на войну, ровно солдат, уходила?»
«Нельзя мне сидеть, Марфа Ивановна, – говорит, – Советская власть меня учила, доктором сделала, а теперь я помочь ей должна».
«Неужто ты одна у Советской власти-то?» – спрашиваю.
«Все и должны подняться. А я за себя в ответе перед ней».
Николай понял, что тревожило Анну в эти дни. Его самого волновали те же мысли и чувства, та же боль колола сердце. И хотя он хорошо понимал и одобрял ее решение, ему стало– тяжело от сознания, что ветер войны уже разрушает их семью.
Сын проснулся. Николай прижался к нему небритым лицом.
– Папа, вчера было страшно. Стреляли из пушек.
«Бедный ты мой мальчик! – думал Николай, прислушиваясь к дыханию Глебушки. – Тебе будет тяжелее моего. Для тебя ведь мама – все: и солнце, и песня, и сказка...»
Вечером пришла Анна. По тому, как она кинулась к нему и, схватив руку, долго не выпускала, как смотрела глубокими и печальными глазами, – Николай понял, что это – прощание. Он хотел спросить, почему она так поторопилась, не посоветовалась, не сказала ему даже, но сидел молча и жадно вслушивался в ее голос.
– На площади Революции роют укрытия, – глухо проговорила Анна. – Николай угрюмо молчал, и Анна круто изменила направление разговора. – Ну, как твой самолет, инженер? – громко спросила она, стараясь казаться веселой и непринужденной. Это ей плохо удавалось. На лбу собирались морщины, глаза оставались строгими.
– Мой или наш? – озабоченно спросил Николай.
Анна вопросительно подняла крутые брови.
– Мой самолет еще рассматривают в Москве. Что касается нашего самолета, то мы можем поздравить друг друга с успехом, фронт получит тысячи санитарных самолетов.
Николай рассказал о своих кабинах. Анна обняла его и поцеловала в губы.
– Я всегда говорила, что ты умница.
– Идея твоя, а идея – главное...
– Я великодушна. Уступаю тебе авторство. И, пожалуйста, сними очки: я люблю тебя подслепов-атым.
Николай снял очки, принудил себя улыбнуться:
– Не храбрись, Анок. Я и без очков вижу, что у тебя на сердце...
Анна устало опустилась на кушетку возле Николая.
Удивленно и испуганно посмотрела на мужа, сморщила переносье, закрыла лицо руками. Она плакала молча, чтобы не испугать Глебушку, но сколько усилий требовало от нее это молчаливое рыданье!
Николай глядел на ее вздрагивающие плечи, на мокрые от слез пальцы маленьких рук. Он прижал голову Анны к своей груди, гладил волосы, аккуратно заколотые шпильками.
– Я боялась, что не увижу тебя. Завтра уходит эшелон, – тихо сказала Анна.
– Завтра? – едва слышно переспросил Николай. – '
И ты...
– Да... с эвакогоспиталем. – Потом, помолчав, задумчиво добавила: – Я не ожидала, что эвакогоспиталь выедет... Думала, буду вместе с тобой, с сыном... А получилось иначе... И будто оправдываясь перед мужем в том, что не сказала ему раньше о своем решении, Анна подняла голову, быстро заговорила:
– Я видала эвакуированных... из Выборга. Они смотрели на нас – будто мы из другого, далекого мира. Они удивлялись тому, что еще есть люди, которые спокойно живут, улыбаются, 1путят. Ты не представляешь, Николай, как они правы! Нельзя сейчас жить как прежде. Это преступление. Перед собственной совестью преступление! Не могу объяснить словами, но я поняла это.
Анна обняла Глебушку, целуя его и плача, говорила отрывистым полушопотом:
– Казалось... все ясно, все решено... а увидела его, услышала его дыхание... Почему так тяжело? Где я возьму сил оторвать ею завтра от себя? Или... остаться? Пойти оказать... что передумала, что ребенка жалко?
– Господь тебя надоумил, – одобрительно подхватила Марфа Ивановна, – верно твое слово, Аночка.
– Верно мое слово... – медленно повторила Анна, как бы отвечая своему раздумью. Голос ее потвердел. – А слово это я уже сказала. Всем... И самой себе!
...На углах улиц и домов появились указатели:
«Бомбоубежище», «Пункт первой помощи». В парках желтели холмы свежей земли: ленинградцы рыли укрытия. Над гранитной колоннадой Казанского собора висело алое полотнище: «Смерть немецким захватчикам!»
У призывных пунктов толпились молодые парни.
Девушки говорили ИхМ жаркие напутствия, давали заботливые и наивные советы, клялись «любить до гроба». Иные, грустные -и усталые, молча держали своих парней за руки. Казалось, обо всем говорено в бессонные прощальные ночи, но у каждой оставалось что-то недосказанное, оставленное напоследок, самое заветное, чего они, быть может, так и не успеют сказать своим любимым. В трамваях стоял густой запах резины: у многих были противогазы. На площадях и в парках обкладывали мешками с песком и зашивали досками памятники. На Аничковом мосту снимали чугунных коней. Трех уже сняли, и рабочие обступили четвертого. Конь вздыбился, грозно подняв передние ноги над толпой рабочих, и, казалось, не хотел оставлять своего привычного места...
Николай с тревогой читал газеты. Оперативные сводки пестрели горькими словами: «После упорных боев...» или «По приказу Глав-нокомандующего наши войока оставили город...» Враг захватил уже почти весь юг России, металлургию, уголь, руду. Горит хлеб Украины, полыхают города Белоруссии... Николай представил себе, как бредут по дорогам беженцы, – седые от пыли, с потухшими от горя глазами...
И все-таки надежда ободряла Николая. Вот-вот услышит он о контрнаступлении Красной Армии, где-то уже сосредоточиваются отборные силы– готовятся мощные удары по врагу.
Но шли дни, недели, и новые неутешительные вести летели с фронта. В огне и дыму пожарищ метались миллионы советских людей, отрезанные от Красной Армии, от Родины, от жизни. Гитлеровские захватчики жгли и вешали, бросали детей в огонь, как в старину тевтоны...
В эти дни из Москвы пришло Николаю письмо. В нем сообщалось, что Наркомат авиационной промышленности отклонил его проект по причине «острой дефицитности потребных на изготовление самолета материалов». В конце письма «инженеру Бакшанову» рекомендовалось: «продолжать работу в направлении удешевления машины путем максимального внедрения в конструкцию дерева».
Неизъяснимое чувство тоски, пережитое после отъезда Анны, вновь охватило Николая. Проект, над которым он трудился четыре года, его первая большая работа – забракована. Окончилось тревожное и терпеливое ожидание – все, чем он жил это время.
«Заменить материалы» – советует наркоматское письмо. Но ведь это значит изменить всю конструкцию, все расчеты летят к чорту, и, по существу, надо начинать заново.
Солнцев вызвал его к себе и когда увидел посутулевшего, с усталым, будто застывшим лицом Николая, ему стало жаль его. После недавнего столкновения они почти не разговаривали, ограничиваясь скупыми, строго официальными репликами.
Николай не мог простить Солнцеву непонятной враждебности, а Солнцева обидела резкость, даже злость, с какой Николай отстаивал свою конструкцию.
– Николай Петрович! – сказал Солнцев, тяжело вздохнув. – Получено распоряжение... об эвакуации завода на Волгу.
– Я никуда не поеду! – неожиданно громко, будто защищаясь, проговорил Николай.
– Николай Петрович!..
– Никуда! И я прошу вас, Александр Иванович, о моем решении поставить в известность директора.
– Но... Николай Петрович... чем продиктовано ваше решение?
– Продиктовано совестью! – отрезал Николай и вышел из кабинета. Казалось, будто вместе с Анной ушло от него и счастье. Отклонение Москвой его истребителя тяжким камнем легло на сердце. И вслед за этим новый удар – эвакуация. Как нехватало сейчас Анны! Только теперь он понял, до чего много в ней было оптимизма, зрелого и умного...
Оставить Ленинград... город, где он рос и учился, где каждая ' улица – легенда, каждый камень – история...
Бросить Ленинград, когда к нему подходит враг и по ночам уже горят от бомб дома...
«Но тебе приказывают выехать. Значит, ты там нужен, а Ленинград будут защищать другие. Ты должен подчиниться!»
Да, Николай сознавал: нужно подчиниться. Но чувствовал, что це может это сделать. Здесь, под
Ленинградом, защищает свой родной город Анна.
Воображение рисовало уже встречу. Они станут сражаться рядом.
«Наивно!» – сказал бы Николай в иное время, но сейчас твердо верилось, что так и будет.
Если враг подходит к Ленинграду, то уже излишни рассуждения о том, что Николай нужней за чертежным столом. Надо браться за оружие. Всем! И рабочим, и инженерам, и академикам. Всем, кому дорога Родина. Ленинград погибнуть не может. Это Николай знал твердо.
...На заводе грузился первый эшелон. Рабочие на деревянных катках катили штамповочный пресс. Огромный и гладкий, как слон, пресс медленно плыл вперед, блестя на солнце широкой полированной спиной.
– Легше! Легше! – кричал мастер, бегая вокруг штампа и следя за катками.
Увидев Николая, мастер поздоровался, по-стариковски приподняв кепку.
Ватага молодых ребят несла большие белые листы жести. Ребята дурачились, ударяли по листам.
– Бомбят! – кричали сзади под дружный хохот.
«Эти всегда веселятся. Молодость!» – вздохнул Николай.
К вагонам подходили рабочие, неся на плечах чемоданы и узлы. В некоторых теплушках уже висело на веревках белье, иные женщины кормили грудью детей.
Мужчины, свесив ноги с площадки, пили чай из жестяных кружек, прикрикивали на ребят, сновавших, как галчата, меж колесами вагонов...
«Уже-обжили. Русского рабочего трудно выбить и в колеи!»
Николай взял пропуск и побрел по опустевшим цехам. В механическом чернели ямы от вырванных из цемента станков. Многочисленные ряды развороченных ям с насыпями свежей земли по краям напоминали могилы. Чуть ли не в каждом окне были выбиты стекла. Над головой тонко завывал ветер, да высоко, среди железных балок потолка, била крыльями какая-то черная птица...
Николай быстро вышел из цеха, чувствуя удушье от нахлынувшей ярости.
Во дворе он встретил отца, временно исполнявшего обязанности председателя завкома. Поздоровавшись, Петр Ипатьевич спросил:
– Я слыхал, ты бросаешь завод? – в глазах его светились насмешливые огоньки.
– По-моему, завод бросаете вы, – ответил Николай.
Ямы механического цеха еще стояли перед глазами. По обычаю, издавна существовавшему в их семье, он отца и мать называл на «вы». – Вы торопитесь уезжать, будто Ёам все равно где работать, – на Волге – так на Волге, на Клязьме – так на Клязьме. А Ленинград кто держать
будет?
Петр Ипатьевич прищурил глаза, у него от волнения дрожали губы.
– Давеча тесть твой, Сергей Архипович, стал у своего станка и никого не подпускает: «Не дам станок из земли вырывать и сам отсюда не уйду! От беды бегать с малолетств-а не приучен. Беда всегда в спину бьет, а коли в глаза смотришь, она хвост поджимает». Видишь ты, как тяжело рабочему завод покидать.
– Он понизил голос: – Может, и у меня винтовку взять руки чешутся. Может, и мне остаться охота. Да нельзя! Приказа такого нет.
– Конечно, остаться – приказ подай, да со всеми печатями! – с каким-то беспощадным сарказмом– проговорил Николай.
Петр Ипатьевич сжал кулаки, презрительно сощурился.
– Не ломайся, слышь? Героя из себя не выкомаривай! Тестом жидковат!—старик резко повернулся и пошел злой, прыгающей походкой. Николай побледнел. Отец обидел его. Но ведь и он задел старика!
Садясь в трамвай, Николай с грустью взглянул на широкие, приземистые корпуса завода.
«Беда всегда в спину бьет», – вспомнились слова Сергея Архиповича, не дававшего вырывать свой станок.
Николая вызвал директор. Он был очень возбужден.
Николай уловил это по гневным ноткам в голосе Мишина.
Семен Павлович немилосердно дымил трубкой, перебрасывая ее то в левый, то в правый угол рта.
– Ваше настроение явилось для меня неожиданным.
– Я хочу защищать свой город, – перебил Мишина Николай, желая сразу оборвать неприятный разговор.
– А заводу он чужой, ваш город? Посмотрите, как вырывают рабочие из фундамента станки, взгляните им в глаза, и вы поймете, что значит для завода Ленинград.
Но завод умеет сжимать сердце в кулак, если этого требует партия, а вы не умеете... так! – Мишин говорил о заводе, как о живом человеке, и в его словах завод мыслил, грустил, радовался.
– Гитлеровцы подходят к Ленинграду, а завод уходит...
– Вы близоруки! —Мишин сразу осекся, увидев очки Николая. – Вы политически близоруки, хочу я сказать.
Мы эвакуируем заводы на Волгу, на Урал, чтобы оттуда ими бить фашистов.
Николай молчал. Смотрел в окно, будто хотел разглядеть там нечто очень важное. На лице резко обозначились угольники скул. Потом медленно снял очки.
– Возможно, – сказал он глухо. – Я мыслил изолированно...
– Вот именно! – уже веселей проговорил Мишин. – Каждый из нас – частица завода, и судьба завода – наша судьба. Поедем в Обком партии, Николай Петрович, там хотят с тобой познакомиться поближе.
В машине они все время молчали. Мишин вел автомобиль легко и плавно, точно всю жизнь сидел за рулем.
По улице везли разбитый истребитель.
Продырявленный пулями фюзеляж прыгал по мостовой, привязанный к грузовику, на котором были сложены смятые, изуродованные крылья. Яркокрасные звезды, как раны, горели на их нежноголубом теле.
Николай и директор проводили истребитель взглядами, какими провожают покойника. Николай неожиданно тронул Мишина за рукав:
– А если нам организовать... пока эвакуируются первые эшелоны... ремонт истребителей?
– Вот это мысль подходящая! —обрадовался Мишин.
– Прошу, Семен Павлович, назначить меня ведущим.
– Хитришь: не мытьем, так катаньем! Что ж, ведущим, так ведущим, – громко засмеялся директор.
...Бои на фронте разгорались. Они распространились от Молдавии до Заполярья, и даже воображению трудно было охватить это гигантское пространство. Оперативная сводка сообщала, что уже третьи сутки на Шауляйском направлении продолжается сражение четырех тысяч танков. Гитлеровские самолеты стали появляться над Ленинградом даже днем...
Всех рабочих и служащих завода, кроме тех, кто был в первом эшелоне, каждое утро выводили на аэродром для занятий по военной подготовке. Цехи и отделы составляли роты и батальоны.
Николай шагал по широкому полю, держа винтовку «на-плечо».
– Не умеете ходить! – выговаривал командир роты, и Николай со стыдом убеждался в этом. Он наступал на ноги впереди идущих, спотыкался, не держал ногу.
Потом он ходил в атаку на чучела, набитые соломой.
Обливаясь потом от напряжения, делал длинные и короткие уколы штыком, свирепо таращил глаза, словно перед ним были фашисты.
Перед окончанием занятий, возвращаясь с дальнего угла аэродрома, рабочие пели задушевную песню о Катюше и о трех танкистах.
Николай пел про Катюшу, а думал об Анне. Это она «выходила на берег крутой», заводила песни «про того, чьи письма берегла»...
Глаза туманились слезами. Николай пел хрипловатым, сдавленным от волнения голосом, он может быть впервые ощутил великую силу песни.
Поздними вечерами Николай прибегал домой, жадно слушал сына. Глебушка жаловался, что отец мало бывает дома.
У сына отросли волосы, под ногтями чернела грязь.
Сердце Николая трогала жалость. «Вот оно как, без матери-то...» Глебушка засыпал у него на коленях.
Через неделю Петр Ипатьевич заехал домой на полчаса: эшелон готов был к отправке. Марфа Ивановна, хоть и давно готовилась к этой минуте, засуетилась, забегала, стала искать куда-то запропастившуюся глебушкину кепку.
Когда, наконец, все было готово, Марфа Ивановна всплеснула руками:
– А Николай знает?
– Я ему позвоню. Да побыстрей же, мать!
Марфа Ивановна заперла квартиру и, взяв Глебушку за руку, стала спускаться с лестницы, вздыхая и громко сморкаясь.
Глава пятая
Солнцев поддержал кандидатуру Николая.
– Для ремонта истребителей нужен опытный инструктор, – сказал он директору.
Каждый день с линии фронта подвозились подбитые в воздушных боях истребители. Николай осматривал машину, как врач осматривает больного, определяя, что можно исправить, что подлежат удалению.
Потом самолет переходил в руки сборщиков восстановительной бригады, и люди боролись за быстрейшее «излечение» израненной машины.
Все меньше и меньше становилось людей в цехах, пустынным, словно вымершим, выглядел просторный заводской двор; невеселый ветер осени неотвязно скулил у разбитого окна конторы летно-испытательной станции.
Для облета выходящих из ремонта истребителей с Николаем оставили летчиков-испытателей Бирина и Гайдаренко. Трудно было найти два более противоположных характера. Бирин был старым летчиком, одним из зачинателей русской авиации, осторожным, неторопливым в решениях. К людям он присматривался с оценивающим прищуром, будто к новым, еще не иопытанным машинам.
Гайдаренко – молодой, порывистый, любил «блеснуть» какой-нибудь рискованно-храброй фигурой высшею пилотажа. Гайдаренко не признавал никаких авторитетов на заводе, кроме «старика», как он называл Бирина.
Они часто незлобливо бранились, но взаимная их привязанность от этого, казалось, становилась еще сильней.
– Ты по земле как-то украдкой ходишь, оглядываешься. Твоим подметкам, верно, износу нет! – упрекал старика Гайдаренко.
– А ты, что молодой щенок, во все углы тычешься и носом синяки собираешь, – добродушно парировал Бирин. Может быть, Павел Павлович видел в Гайдаренко свою молодость, но он любил юного товарища и всячески оберегал от лихачества.
– Пал Палыч, давай поспорим, -кто из нас раньше уберет шасси! – предложил однажды Гайдаренко. Ему мерещилась слава превосходства над Бириным.
. – Надо будет, – спокойно ответил Бирин,– я и на пузе взлечу, а зря рисковать не стану. – Он вспомнил случай с Чкаловым, когда испытывалась машина инженера Грохов-ского. Летчики назвали ее «кукарачей» за то, что она вся была увешена расчалками и подкосами.
Чкалов должен был первый подняться на ней в воздух. Он сел в самолет, привязался, долго работал рычагами.
Потом вдруг откинул ремни, вылез из кабины.
– Пусть на этой «кукараче» медведи летают. Садись, Пашка! – Бирин засмеялся. «Чкалов не решается, а я полечу!» Это льстило его самолюбию. И вот Бирин сел з самолет, запустил мотор. На взлете... «кукарача» рассыпалась. Он часто рассказывал об этом случае летчикам.








