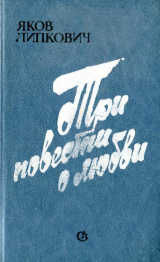
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц)
«А знаешь, здесь не так уж и плохо», – вдруг сказала Светлана, окинув взглядом небольшой уютный зал.
«Иными словами, хорошо?» – Ипатов положил руку на спинку ее стула.
«Я сказала: не так уж и плохо», – упорствовала она.
«Конечно, куда ему до ресторанов Стокгольма и Копенгагена!» – улыбнулся Ипатов.
«Там тоже рестораны разные, – возразила она. – Даже есть такие, куда не принято ходить».
«Среди кого – не принято?» – спросил он.
«В обществе, конечно!» – она словно удивилась заданному вопросу.
«В каком обществе?» – не понял он.
«Я имею в виду, – слегка смутившись, сказала Светлана, – тот круг людей, в котором вынуждены вращаться дипломаты и члены их семей».
«А, бомонд! – весело уточнил Ипатов. – Высший свет! Барон Меланж, графиня Корнфлекс!»
«Не смешно, – мгновенно отреагировала она. – Кстати, на дипломатических приемах, кроме официальных лиц, бывают известные писатели, артисты, ученые…»
«Энто и нам известно!» – заметил Ипатов.
«Любопытно, откуда?» – серые глаза Светланы глядели внимательно и чуть насмешливо.
«Да все оттуда же! – вздохнул он. – Из газет!»
(Да, они с ребятами, шатаясь по танцплощадкам и кабакам только что освобожденных Берлина, Праги, Вены, не очень-то привередничали. Благо, что встречали их всюду как дорогих гостей, как победителей ненавистного фашизма. Вилькоммен! Будьте витани! Витамы!).
Вынырнувший из-за угла официант поставил перед ними графинчик с коньяком и бутылку «Мукузани», протер салфеткой бокалы, смахнул с белоснежной скатерти невидимые пылинки. Его ласковый взгляд по-прежнему никому не отдавал предпочтения.
«Немного терпения, дорогие гости!» – сказал он и удалился под крепнущий с каждой новой строкою голос певца, одетого, как и все оркестранты, в темную черкеску:
Ну-ка, товарищи, грянем застольную,
Выше стаканы с вином!
Выпьем за Родину нашу привольную,
Выпьем и снова нальем!
Неожиданно к их столику прибило парня с недоброй ухмылкой на широком помятом лице. Он смотрел на Ипатова каким-то наглым дразнящим взглядом.
«Места свободные?» – кивнул он на незанятые кресла.
Ипатов молча показал на все еще стоящую в середине стола табличку: «Занято».
«Ну, я займу всего одно местечко, – глумливо произнес парень и сел рядом с Ипатовым. После короткой паузы он сказал: – Где-то я тебя видел?»
Лицо парня было совершенно незнакомо.
«Вряд ли, – хмуро ответил Ипатов и, склонившись к угреватому уху нового соседа, тихо сказал: – Слушай, друг, ты не мог бы пересесть за другой столик?»
Тот ответил пренебрежительным взглядом.
На них с любопытством поглядывала Светлана.
«Твоя девочка?» – шепотом справился парень.
Ипатов изо всех сил сдавил ему плечо и сказал в самое ухо:
«А ну выметайся отсюда!»
Парень резким движением сбросил его руку. Под столом что-то щелкнуло – сверкнуло лезвие ножа.
«Знаешь, сколько сантиметров?» – вполголоса спросил парень.
«Сколько?» – холодея и в то же время, как это с ним всегда бывало в минуты опасности, обретая спокойствие, проговорил Ипатов.
«Тринадцать с половиной», – сообщил парень.
«Дай ухо сюда!» – в свою очередь шепнул Ипатов.
Парень с подчеркнутой готовностью придвинулся вплотную.
«А знаешь, сколько патронов в моем «вальтере»?» – для убедительности Ипатов потянулся к заднему карману, где по-прежнему оттопыривалась пачка денег.
Парень опасливо отодвинулся:
«Сколько?»
«Четыре, – сказал наобум Ипатов. – Три в обойме, один в патроннике. Думаешь, недостаточно?»
Некоторое время они в упор смотрели друг другу в глаза. Первым не выдержал взгляда парень. Он снова щелкнул под столом ножом, спрятал его в карман. Потом встал и произнес с угрозой:
«Ну, ладно. До скорой встречи, артиллерист!» («Почему артиллерист?»)
И все с той же гнусной ухмылкой на широком лице растворился в табачном дыму.
Ипатов растерянно смотрел на Светлану – до того неожиданными и неуместными показалось ему ее слова:
«Костя, ты не заметил, какие у этого типа шикарные ресницы?»
«Ресницы?» – только и произнес он.
«Ну да, длиннющие, пушистые, как у девчонки».
«Нет, не заметил», – ответил он, все еще находясь под тягостным впечатлением от стычки с бандюгой.
«Костя, это не секрет, – все так же несерьезно допытывалась Светлана, – о чем вы так долго шипели друг другу на ухо?» (Конечно же, она ничего не разобрала: мало того, что они с парнем говорили вполголоса, кругом еще такой грохот!)
«Да так, не очень умный мужской разговор», – Ипатов улыбнулся, но улыбка получилась, как он почувствовал, вымученной…
Снова появился официант. Большой поднос весь был уставлен едой. «Хватит ли расплатиться?» – со страхом подумал Ипатов. И в самом деле, чего тут только не было: и черная икра, и шпроты, и салат из крабов, и шашлыки, и еще что-то из кавказской кухни.
Волосатые руки священнодействовали.
«От такого шашлыка, – расставляя кушанья, приговаривал официант, – сам товарищ Сталин не отказался бы!»
«А это мы сейчас проверим, – проговорил Ипатов и вдруг внутренне замер, неожиданно обнаружив двусмысленность сказанного. Торопливо поправился: – Сейчас проверим, какие у вас шашлыки!»
«Проверяй, дорогой, проверяй!» – отозвался официант. На его симпатичном румяном лице мирно, может быть, даже чуточку подозрительно-мирно уживались простодушие и хитрость.
Наполнив бокалы темно-красным «Мукузани» и напомнив, что шашлык надо есть, пока не остыл, официант как бы нехотя перешел к другим своим столикам – принимать заказы, получать деньги.
«Ну так что же? Выпьем и снова нальем?» – Ипатов поднял бокал.
Светлана посмотрела ему в глаза. Ее взгляд притягивал и в то же время, мгновенно остывая, удерживал на расстоянии.
Они чокнулись. Ипатов выпил залпом и сразу принялся за шашлык. Светлана же слегка пригубила рюмку.
«Не нравится?» – обеспокоенно спросил он.
«Нет, почему, вино как вино».
«Может быть, коньяку?»
Светлана покачала головой…
Шашлык и впрямь был на высоте: душистый, сочный, нежный, прямо таял во рту.
«Давно не ел такой вкуснятины. Нет, правда, язык проглотишь!» – смущенно оправдывался Ипатов.
Иногда он спохватывался и спрашивал Светлану:
«А ты почему не ешь?»
«Не хочется, – отвечала она так, словно сидела не в ресторане, а дома. – Честное слово, не хочется».
По-видимому, она и не собиралась есть: вся еда стояла возле нее нетронутой.
И опять, как тогда, на дне рождения, Ипатов с презрением к себе подумал о своих родителях и бабушке, которые не смеют и мечтать о таких деликатесах. Самое большое, что они могут позволить себе, это купить на праздники двести граммов колбасы и столько же сыра («Пожалуйста, только не самый край… Если вас не затруднит, нарежьте потоньше…»). Они бы ни за что не поверили, что кто-то может вот так легко и невозмутимо пренебрегать икрой и шпротами.
«Давай выпьем за судьбу?» – вдруг предложил Ипатов.
«За судьбу?» – Светлана задумалась: тост был несколько загадочным.
«Ну да, за судьбу!» – подтвердил он.
«Судьба бывает разная: счастливая, несчастливая…» – объяснила она свое сомнение.
«За какую же еще – за счастливую!» – подхватил он.
Против «счастливой судьбы» она не возражала. И даже выпила больше половины рюмки.
«Понимаешь, – продолжал Ипатов, – я своей судьбой – просто судьбой! – доволен!»
Она слушала внимательно, с улыбкой.
«Смешно говорить об этом, но мне повезло еще при рождении. Мама рассказывала, что я родился мертвым. Ну да, мертвым! Не дышал, не пищал, ничего. Чего только со мной не делали, чтобы оживить, – ничего не помогало. Шлепали, переворачивали вниз головой, швыряли из кипятка в ледяную воду и снова в кипяток. Словом, все перепробовали. А дальше началась фантастика. По одной из семейных версий, я воскрес, когда меня на минутку положили рядом с только что родившейся девчонкой. Сразу ожил, потянулся к ней…»
Светлана сквозь смех допытывалась:
«Нет, правда, правда?»
«Я же сказал: по семейной версии. Мама у меня ужасная фантазерка».
«А ты в нее?» – лукаво осведомилась она.
«Нет, мне далеко до нее! – засмеялся Ипатов. – А по другой версии, кто-то из роддомовского начальства включил на полную мощность динамик – как раз передавали репортаж о футбольном матче между Ленинградом и Москвой – и я тут же заорал вместе со всеми: «Ма-зи-лы! Ма-зи-лы!»
Светлана хохотала до слез:
«Ох, господи, ох, господи!»
«Вот с тех пор и началось мое везение. Вплоть до нашей встречи», – заключил он…
Но последних слов Светлана, похоже, не расслышала: то ли Ипатов сам понизил голос, то ли его заглушил оркестр. Музыканты трудились на совесть. Солист выходил кланяться, не дожидаясь аплодисментов. Спев «Вечер на рейде» и «Раскинулось море широко», он объявил, что, согласно многочисленным пожеланиям трудящихся, еще раз исполнит «Наш тост». Во время пения он показывал жестами, когда публика должна пить сидя, а когда стоя.
Встанем, товарищи, выпьем за гвардию —
равных ей в мужестве нет,
тост наш за Сталина, тост наш за партию,
тост наш за знамя побед!
Когда отзвучали последние здравицы, Ипатов вдруг возмутился:
«Почему он не пел: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу…»?»
«Разве не пел? – удивилась Светлана. – По-моему, пел».
«Нет, не пел. Я хорошо помню!»
«А это очень важно, пел он или не пел?»
«Ну конечно же, важно! Без этих строк там одни лозунги!.. Я пойду спрошу, почему он пропустил. – Ипатов выбрался из-за столика. – Кстати, там еще должны быть слова: «…выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах, дрался на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг!..» Я сейчас!»
«Только недолго!» – попросила она.
«Досчитай до трех!» – крикнул Ипатов.
«Раз!.. Два!..» – считала Светлана.
Почему до трех? С таким же основанием он мог бы попросить ее сосчитать и до десяти, и до пятидесяти, и до ста, и даже до двух тысяч…
Другого выхода не было. Боль уже не вмещалась в груди. Она острыми зубами впивалась в левую лопатку, переливалась через плечо, расползалась по руке. Чтобы не расплескать ее дальше, он старался не спешить, не делать резких движений – двигались только ноги (шажок – отдых, шажок – отдых), корпус же оставался неподвижен. Медленно, буквально минутами отвоевывался каждый метр лестничной площадки – той самой лестничной площадки, которая едва не стала когда-то его последним трамплином. И вот она снова, с роковой неотвратимостью, возникла у него на пути. Тогда его спас случай. А что спасет его сейчас? Не эти ли шаги? Осторожные и расчетливые, как у паралитика, они хоть и потихоньку, но приближали его к цели. Наконец Ипатов добрался до ближайших от лестницы дверей, расположенных как раз напротив бывшей Светланиной квартиры. Привалился плечом к косяку, надавил на кнопку звонка.
«Тле-тле-тон», – чисто и звонко проиграло за дверью. Он заранее обдумал, что спросит и скажет. «Понимаете, какая со мной случилась история, – начнет он издалека. – В этом подъезде – я уже не помню, на каком этаже, – живет моя тетя». Когда спросят ее фамилию, он назовет любую, даже свою, в конечном счете это уже не имеет значения. И скажет: «Пока я бегал по этажам – схватило сердце. У меня с собой ни валидола, ни нитроглицерина, ничего. У вас не найдется пары таблеток?» Он не сомневается, что ему вынесут лекарство: сейчас нет семьи, где бы кто-нибудь не страдал сердцем и не было бы аптечки. Но если не помогут ни валидол, ни нитроглицерин, он попросит вызвать «скорую помощь», в старых домах почти в каждой квартире имеется телефон…
Тишина. Похоже, никого нет дома.
Ипатов еще раз надавил на квадратную клавишу звонка, и тот снова легко и охотно проиграл свои три ноты.
И опять ни шороха, ни шагов. В квартире явно ни души. Одно «тле-тле-тон»… Впустую музыка гремит. Хотя не впустую, услаждает его слух…
Держась за стену, Ипатов медленно двинулся к соседней двери. В этой квартире во времена Светланы жил один старичок-ученый. Светлана рассказывала, что до революции он был чуть ли не царским генералом, и о нем есть статья в Большой Советской Энциклопедии (в первом издании). Старичок, судя по всему, был немного влюблен в свою молоденькую соседку: при виде ее за много шагов приподнимал шляпу, замирал, уступая дорогу на лестнице, всегда смотрел ей вслед. Наверно, и костей от него не осталось: ведь уже тогда ему было за семьдесят, если не больше. Ипатов видел его всего один раз, да и то не убежден, что это был он, несмотря на совпадение примет…
Вот и дверь, почерневшая от времени и плохих красок. Под стать ей и звонки: один надо дергать на себя, другой вертеть. Такими пользовались еще в прошлом веке. Ипатов, изловчившись, потянул за ручку. Колокольчик, который должен был зазвенеть, невозмутимо молчал. Очевидно, его сняли за ненадобностью, устанавливая более позднюю (а значит, и более модную) вертушку. Но и та, когда ее яростно крутанул Ипатов, провернулась совершенно беззвучно. Им уже давно место в этнографическом музее или на свалке, однако не снимают почему-то. Осталось последнее – стучать.
И тут Ипатов справа, за дверным косяком, увидел черную кнопку электрического звонка. Он обрадованно и нетерпеливо придавил ее пальцем. Далекое и хриплое верещание звонка вмиг оборвалось натужным собачьим лаем. Почувствовав чужого, пес подскочил к дверям и сейчас рвал и метал там от злобы. По-видимому, он был один в квартире: больше оттуда никаких звуков не доносилось.
«Ну, хватит, ну, хватит, – сказал Ипатов. – Передай своим хозяевам, что приходил генерал… (Пес не унимался.) Ну да, тот самый!..»
Все!.. В бывшую квартиру Светланы он уже звонил… Там никого нет дома… А что, если попробовать еще раз? Уж очень робко и нерешительно нажимал он тогда на кнопку… Ничего, ровным счетом ничего он не теряет… Последняя надежда… Он сделал шаг, другой… Боль по-прежнему переполняла сердце, разбойничала за грудиной, отдаваясь в левой лопатке и руке. До дверей оставалось каких-нибудь три-четыре метра. Ипатов привалился плечом к стене и так, почти не отрываясь от нее, избегая резких движений, стал медленно продвигаться к звонку, желтевшему за дальним косяком…
Закатив глаза, солист пел «Сулико». Оркестранты играли так, как будто каждый из них переживал разлуку с любимой девушкой. По красным, распаренным лицам стекал не то пот, не то слезы. Но вот песня доползла до конца и угасла.
Ипатов подошел к солисту, который уже собирался уходить.
«Можно вас на минутку!»
«Что, дорогой?» – спросил тот.
«Вы только не обижайтесь. Я понимаю, может быть, это и не от вас зависит», – заметив настороженность во взгляде, сказал Ипатов.
«Зачем обижаться? Я не. Пушкин, ты не Белинский!»
Ипатов стал успокаивать его:
«Честное слово, я не собираюсь вас критиковать! У вас очень хороший голос. И поете вы с душой!»
«Теперь понимаю, – хлопнул Ипатова по плечу польщенный солист. – Хочешь, чтобы спел для тебя и твоей красавицы? (Значит, Светлану заметили и в оркестре. Жаль, что отсюда не виден их столик. Как она там сейчас одна? Непременно найдется какой-нибудь нахалюга, который решит воспользоваться его отсутствием.) Говори, чего хочешь? Для вас любую песню спою!»
«Какое-нибудь танго?» – несколько робко попросил Ипатов.
Солист вздохнул:
«Танго – не могу. Все проси, кроме танго!»
«Ну, тогда фокстрот или медленный танец?»
Певец оглянулся на ближайший столик и шепнул:
«Тоже не могу. Такое указание».
«И вальс, вальс тоже нельзя?» – упавшим голосом спросил Ипатов.
«Почему нельзя? – загорелся солист. – Вальс можно! «Матросские ночи» слышал?»
«Матросские ночи?» – недоуменно переспросил Ипатов.
«Ну, да! «Ой, за волнами, бури полными, моряка родимый дом. Над крылечками дым колечками, и черемуха под окном…»
«Да, да, конечно», – вспомнил Ипатов.
«Сейчас схожу по телефону позвоню. А вернусь, спою специально для вас «Матросские ночи»!» – певец шагнул к выходу.
Ипатов рванулся за ним:
«Подождите!»
Тот, удивленный, остановился.
«Я хотел еще спросить вас, почему в песне… ну в этой: «Выпьем и снова нальем…» – вы пропустили много хороших слов?»
«Зачем такое говоришь? – опасливо встрепенулся певец. – Какие я слова пропустил?»
«Например: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу…»
«Сам не знаешь, чего говоришь! – сердито упрекнул солист Ипатова. – Это совсем другая песня! Похожая, но другая!»
И тут к Ипатову подошел официант, не тот, что обслуживал их столик, а другой – с бегающими глазами:
«Вас просят зайти к директору ресторана».
«Меня – к директору ресторана? – удивился Ипатов. – Зачем?»
«Интересуются пожеланиями насчет улучшения работы», – как-то вкрадчиво ответил официант.
«Может быть, с кем-нибудь другим побеседует? Понимаете, я не один», – сказал Ипатов.
«Так ведь и другие парочками», – нашелся официант.
«Тоже верно, – согласился Ипатов. – Ну, пойдемте, только недолго…»
«Вот сюда!» – указал тот дорогу…
Остановились у двери, обитой коричневым дерматином.
Ипатов постучал и сразу же услышал в ответ:
«Входите!»
Но едва он переступил порог, как двое – один в штатском, другой в милицейской форме, – переглянувшись, одновременно схватили его за руки. Это было так неожиданно, так непонятно, что он тут же стал вырываться:
«Что вам от меня надо?»
Ему быстро и ловко закрутили руки за спину.
И третий – тоже в милицейской форме – точными и умелыми движениями обшарил все карманы. Затем с разочарованным и кислым видом сказал четвертому, в кожаном пальто, сидевшему за столом на директорском стуле:
«Ничего нет».
«Проверь-ка еще разок!» – приказал тот.
«Да нет у него, товарищ капитан!» – ответил милиционер.
«Чего нет?» – тщетно пытался что-нибудь понять Ипатов.
«Проверь, проверь!» – стоял на своем капитан.
Хмуро и недовольно милиционер снова принялся за обыск. На этот раз он все осматривал тщательно и неторопливо. На тыльной стороне каждого пальца, кроме большого, синела татуировка. На правой руке получалось «Гена», на левой – не то «Зина», не то «Нина».
«Чего смотреть? Нет», – заключил милиционер.
«Куда дел пистолет?» – обратился к Ипатову капитан. (Ах вот в чем дело! Значит, этот подонок накапал…)
«Какой пистолет?» – как можно естественнее сыграл удивление Ипатов.
«Ты брось ваньку валять! – капитан стукнул кулаком по директорскому столу. – Сам знаешь какой – системы «Вальтер»!»
«Пусть отпустят руки!» – попросил Ипатов.
«Отпустите!» – приказал капитан.
Оба – и штатский (наверно, бригадмилец), и первый милиционер – одновременно разжали кулаки, и Ипатов принялся двигать занемевшими руками.
«Потом будешь заниматься гимнастикой, сперва отвечай!» – сказал капитан.
«Никакого «вальтера» у меня нет, – твердо заявил Ипатов. – Был «ТТ», но я его сдал при демобилизации».
И в самом деле, он не врал. Его «вальтер», да не один, а вкупе с парабеллумом, который он тоже привез с войны, уже с месяц как покоился на дне Обводного. Он даже особенно не задумывался о последствиях, когда, возвращаясь из Германии домой, прихватил с собой трофейные пистолеты: велика важность! Конечно, папа и мама были против хранения оружия, они знали, чем это пахнет. Но Ипатов заявил, что сие (так и сказал: сие) их не касается, оба пистолета захвачены им в честном бою: «вальтер» взят у одного обер-фельдфебеля, как-то по ошибке заскочившего к ним в траншею, а парабеллум – у власовца, который отстреливался из него до последнего патрона: вытащили уже из мертвой руки… Единственное, что удалось родителям, – это уговорить Ипатова спрятать их подальше. Он зарыл пистолеты на чердаке в песке у самого нижнего конца стропил. Но уже на следующий день полез проверять, на месте ли запрятанное, не украл ли кто. Оснований для такого беспокойства было более чем достаточно: на чердаке вечно сохло белье, забирались мальчишки. Чтобы не рисковать всем оружием, Ипатов решил парабеллум в разобранном виде оставить под стропилами, а «вальтер» спрятать где-нибудь в квартире. Вскоре началась полоса танцулек, вечеров и поздних возвращений домой, и Ипатов, чтобы чувствовать себя увереннее на ночных улицах, не устоял перед искушением носить с собой сравнительно небольшой и компактный «вальтер». Он ходил с ним не только на танцы в Мраморный, в Выборгский, в Промкооперации, но и в кино и театры. Однажды какой-то тип углядел в его заднем кармане рельефные очертания пистолета, и за спиной Ипатова пошло гулять: «Переодетый мильтон… переодетый мильтон…» А сколько раз он, ощущая подкрепляющую тяжесть в кармане, безбоязненно ввязывался в уличные драки, с вызовом, не отводя взгляда, прямо шел на шпану. Это щекотало нервы, взбадривало. Так продолжалось, наверно, месяца два. И вот в один прекрасный день, собираясь идти на танцы в Выборгский дом культуры, он полез в свой тайник (для этого требовалось всего-навсего просунуть руку в дыру, проделанную им снизу в старом кресле) и ничего не обнаружил. Он разворошил все кресло: «вальтера» нигде не было. И тут Ипатов увидел смеющиеся глаза мамы. Отец же подозрительно-сосредоточенно листал какой-то свой очередной дурацкий альбом, кажется, образцы документации местной и легкой промышленности. Чихая от крепкой, еще дореволюционной пыли, весь по шею в трухе, Ипатов представлял собой прекомичное зрелище. Прозревая, он спросил родителей: «Вы взяли?» Мама как-то охотно и весело кивнула головой. «Отдайте!» – потребовал Ипатов. «Нет», – ответила мама. «Отдайте, слышите?» – повысил голос Ипатов. «У нас его уже нет», – так же спокойно сообщила мама. «Где пистолет? Куда вы его спрятали?» – Ипатов заметался по комнате. «Здесь его нет», – проинформировала мама. «Где он?» – на лице Ипатова заходили желваки. «Могу сказать. На дне Обводного». – «Что?!» – он растерянно уставился на маму. Она продолжала: «Мы вчера с отцом пошли и бросили его с моста». – «Неправда!» – снова забегал он по комнате. «И парабеллум тоже», – добавила мама, Ипатов взвыл: «Не может быть!» – «Сходи проверь!» – сказала мама. Ипатов пулей кинулся на чердак. Парабеллума на его обычном месте тоже не было. Так в один день Ипатов лишился всего личного оружия. Он долго не мог примириться с этим. Чувство защищенности, к которому он здорово привык, покидало его слишком медленно и неохотно. Вот и сейчас он не мог удержаться, чтобы не припугнуть своим старым «вальтером». Интересно, сколько лет дали бы ему, если бы нашли пистолет? Так что самое время оценить по достоинству произведенное родителями разоружение.
Но вернемся в директорский кабинет, где допрашивали задержанного Ипатова.
«С кем он?» – спросил капитан бригадмильца.
«Да с какой-то фифой!» – пренебрежительно ответил тот. Ипатов хлестнул возмущенным взглядом по толстогубой физиономии.
«Может быть, передал ей?» – раздумчиво произнес капитан.
«Товарищ капитан, я никому ничего не передавал!» – горячо заверил Ипатов, задабривая того обращением по званию: не хватало, чтобы они принялись еще за Светлану.
И не зря опасался: бригадмилец – само усердие:
«Посылать, что ли, за ней?»
«Давай!» – сказал капитан.
«Подожди, друг!» – уже по-хорошему попросил Ипатов бригадмильца.
И подействовало: тот застыл у дверей до нового распоряжения.
Ипатов шагнул к столу:
«Товарищ капитан, даже если бы у меня было оружие, как и когда я мог его передать? Я стоял, разговаривал с певцом. Ко мне подошел официант и попросил зайти к директору ресторана. У меня и в мыслях не было, что мною заинтересовалась милиция. Откуда я мог знать, что меня будут обыскивать?»
Капитан вроде бы задумался. Потом сказал:
«Ваши документы!»
Ипатов с готовностью подал свой новенький студенческий билет.
Капитан внимательно изучил его, затем спросил:
«Паспорт при себе?»
«Паспорт? – Ипатов достал из нагрудного кармана пачку документов. – Оставил дома… Вот военный билет. Орденские книжки. Удостоверения на медали…»
Все это он щедро выкладывал на стол. Капитан не отказывался, просматривал один документ за другим.
«Ну так как же?» – подал голос бригадмилец.
«Тебе что, невмоготу, что ли?» – спросил капитан.
«Да я так», – ответил тот.
«Ну что ж, документы хорошие», – капитан сложил их пачкой и вернул задержанному.
«Поверьте, – доверительно и благодарно произнес Ипатов, – за войну у меня столько перебывало пистолетов – и наших, и трофейных, что они мне теперь и даром не нужны. Сыт ими по горло. Сами понимаете…»
Он действительно был сейчас искренен, говорил, как думал. Но спроси его, как увязать эти вроде бы непритворные слова с тем, что он натворил, то есть вопреки здравому смыслу привез с фронта два пистолета и шлялся с ними по городу, он бы и сам толком не мог объяснить. То ли по окончании войны снова впал в детство – наверстывал упущенное, то ли одурел от свалившихся на него мирных дней. К счастью, ни один человек, кроме, разумеется, родителей, уже не спросит его об этом.
Не спросил и капитан.
Зато неожиданно заговорил первый милиционер, за все время не произнесший ни слова:
«Товарищ капитан, а помните Захарова, которого на прошлой неделе задержали в «Европейской»? Тоже все бумаги в порядке были…»
Оказывается, он не питал ни малейшего доверия к Ипатову. Только молчал. Не доверял и молчал, пока не прорвало. Любопытно, что натворил этот Захаров? По-видимому, что-то очень серьезное, раз так посуровели лица милиционеров.
Первым, как всегда, отозвался бригадмилец:
«Посылать за ней?»
«Ну чего рассусоливать? Посылать, не посылать…» – с явным осуждением нерешительности начальства проворчал второй милиционер – с татуировкой.
«Посылай!» – сказал капитан.
«Стоп, машина!» – в голосе Ипатова неожиданно (после долгого перерыва!) прорезалась властная нотка – все-таки велика сила привычки, недаром же он год и два месяца командовал автоматчиками, и, подчиняясь повелительному тону, бригадмилец опять послушно застыл у порога.
Ипатов тут же принялся за капитана:
«Я не хотел говорить вам… чтобы вы не подумали, что я хочу запугать вас… Эта девушка, которую вы собираетесь обыскивать… («Подействует, нет?») дочь одного очень видного дипломата. Ее отец… («Ох, господи, что я говорю?») близкий друг человека, занимающего высокое… («Остановись же!») исключительно высокое положение!.. Оружия вы у нее никакого не найдете… («А может, не надо угрожать? Кто знает, как он среагирует?»), а вот неприятностей крупных не оберетесь!»
Сказал – и тут же пожалел: от всех этих угроз капитан только разъярился.
«Плевал я на ваших дипломатов! – стукнул он кулаком по столу и крикнул бригадмильцу: – Давай за ней!»
Тот в мгновение ока скрылся за дверью.
Ипатов сказал:
«Ну и зря!»
«А это мы еще посмотрим!» – с грохотом, с опрокидыванием директорского стула, выбрался из-за стола капитан.
Ипатов молча пожал плечами: раз он уже не в состоянии что-нибудь изменить, остается одно – держаться с достоинством.
Прикурив у первого милиционера, капитан вернулся за директорский стол. Посидел немного, зачем-то переставил настольную лампу. Вдруг поднял взгляд на Ипатова, недовольно поморщился:
«Не маячьте, садитесь!»
Ипатов сел в деревянное кресло у окна. Капитаном явно владело какое-то беспокойство. Возможно, он уже жалел, что погорячился. И все-таки его поведение настораживало. Не исключено, что он относился к числу тех слабохарактерных и упрямых людей, которых если заносило, то уже не остановишь. Во всяком случае, его лицо все время сохраняло хмурое и недоброе выражение. И хотя Ипатов со Светланой перед законом чисты, как стеклышко, от такого ненадежного человека можно ожидать всего.
Ипатов со смущением и беспокойством поглядывал на дверь. С волнением прислушивался к нескончаемым шагам в коридоре, которые то приближались к дверям, то удалялись от них: туда-сюда бегали официанты. Ипатов ясно представлял себе, как все произойдет. Вот распахнется дверь, и на пороге появится Светлана. Увидев его в окружении – а может быть, и под охраной, откуда ей знать? – милиционеров, она будет не столько напугана, сколько удивлена. Но это лишь в первое мгновение. Затем она вскинет голову, и ее холодный и надменный взгляд вопросительно остановится на капитане, в котором она безошибочно определит старшего. Остальных милиционеров, Ипатов уверен, она и вовсе не удостоит внимания. Но если пауза затянется (допустим, капитан, потрясенный ее красотой, ее обликом и манерами, некоторое время будет собираться с мыслями), Светлана сама первая спросит сухо и сдержанно: «Что все это значит?» Или – он даже слышит ее голос – холодно осведомится: «Что случилось?» Или же – а это уже совсем в ее духе – одной фразой укажет им свое место: «Что вам угодно?» Смешно думать, что она вот так просто разрешит им заглянуть себе в сумочку. Скажет: «Нет!» – и за спину. Конечно, эти четверо ни перед чем не остановятся. Заставят открыть, показать. Нет, уж лучше она сама. Пожмет плечами и отдаст сумочку с тем самым показным безразличием, которое в равной мере можно назвать и презрительным, и высокомерным. Думается, в этом случае эффект будет больше.
Ипатов вздрогнул. Дверь распахнулась, и на пороге показался… бригадмилец. О д и н. Вид у него был чрезвычайно сконфуженный. «Неужели, не дождавшись меня, ушла? – с облегчением и в то же время огорченно подумал Ипатов. – Или отказалась идти? Ведь не потащит же он ее силой?»
«Какая штука, – наконец выдавил из себя бригадмилец. – Он… этот… и говорит: «В порядочных ресторанах, мол, не принято звать гостей к директору…»
«Кто говорит?» – недоуменно переспросил капитан.
«Да иностранец этот! Мол, ежели директору чего надо, пусть сам придет…»
«Что за иностранец?» – нахмурил брови капитан.
Ипатов тоже ничего не понимал.
«А кто его знает! Не то турок, не то грек! А может, еще откуда…»
«Откуда он взялся?»
«Известно, откуда: пришел поужинать. С ним еще двое. Ну посадили их, – он кивнул в сторону Платова, – за ихний столик. А там кала-бала, общий разговор. Русский девушка хорош, лапать лапай, но не трожь!»
Ипатов резко встал, давая понять, что не намерен ни слушать дальше, ни торчать здесь. Но капитан даже глазом не повел на это ясно выраженное нетерпение.
«А те, что с ним, – тоже не то турки, не то греки?» – продолжал допытываться он.
«А кто их там разберет! Тоже чернявые, с усиками. Были бы свои, грузины или армяне, наши бы их сразу признали…»
«Надо было культурно намекнуть, что его это не касается».
«Намекали. Не доходит. Все ж боязно, как бы на скандал не напороться…»
«Боязно, боязно, – вполне добродушно передразнил капитан. Затем перевел взгляд на Ипатова: – Ну, что будем делать с ним?»
«Вам виднее», – заявил первый милиционер, по-видимому все еще питавший недоверие к Ипатову.
«Чего парня держать? – отозвался второй милиционер – с татуировкой. – Еще сманят у него девчонку!»
«А чего? И сманят! Народ денежный!» – поддакнул бригадмилец.
«Послушайте, вы!» – ощерился на него Ипатов.
«Ну ладно, ладно, шагай!» – сказал капитан и вздохнул.
Ипатов коротко попрощался и вышел из кабинета.








