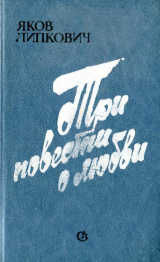
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
Дома Светлана или не дома – это единственное, что ему надо было знать. Остальное для него, как он считал, уже не имело значения…
Ипатов выбежал на улицу. Где же е е о к н а? Первый этаж… второй… третий… четвертый… пятый… шестой… Не эти ли три ярко освещенных окна с короткими ситцевыми занавесками? Нет! Там были, как он помнит, тяжелые бордовые гардины с золотой бахромой внизу. Они даже напомнили ему боевые знамена, только без вышитых эмблем и призывов… Судя по расположению квартиры, окна должны выходить… постой, дай сообразить… Жаль, что он ни разу не выглянул из них на улицу. Разве мог он тогда предположить, что будет отыскивать их снаружи? Если бы лестница была как лестница, то можно было бы легко сориентироваться: вот эта квартира по отношению к ней слева, а вот эта – справа. А здесь пока кружишь, забираешься на верхотуру, вконец запутаешься. Лишь одно ясно – отправной точкой должен быть подъезд. Светланина дверь, если мысленно перенестись на шестой этаж, находится… находится справа от него! Значит, их окна выходят во двор…
Как пройти туда? Ипатов двинулся вдоль дома. Хлюпал в сапогах подтаявший снег. Зная по опыту, что в ленинградских домах один проход нередко ведет сразу к нескольким дворам, Ипатов, не задумываясь, свернул под первую же арку. Дворовый лабиринт был прост, как таблица умножения. Ни лишних ответвлений, ни хитрых тупиков. Уже через минуту Ипатов стоял на дне высокого дворового колодца, зажатого со всех сторон стенами.
Однако отыскать окна оказалось не таким легким делом. Особенно Ипатов был озадачен, когда вместо шести этажей вдруг насчитал семь. Он торопливо вернулся на улицу и еще раз проделал весь путь, проверяя, так ли он шел или ненароком забрел в другой двор. Нет, это был все-таки ее дом. Совпадало все: и силуэт, и расположение, и форма окон. И тут Ипатов обнаружил, что без труда заглядывает в квартиры первого этажа. С улицы же, как он вспомнил, нижние окна были недосягаемы – находились довольно высоко над головой. Это был один из тех несуразных петербургских домов дореволюционной постройки, которые возводились полуграмотными подрядчиками как бог на душу положит. Лишь бы с фасада выглядело красиво и внушительно, а со двора, мол, чего стараться? Удалось сварганить лишний этаж – и слава богу! Но и после того, как с сомнениями насчет дома было покончено, Ипатов еще долго ломал голову, какие из четырнадцати окон последнего этажа Светланины. Скорее всего, вон те – слева. Странно, что в них нет света. В любом случае он должен был быть: и если пришла (пока удовлетворит родительское любопытство, пока переоденется, пока приготовится ко сну, да и не в ее характере торопиться), и если не пришла (какие бы ни были у нее отец и мать, они вряд ли лягут спать до ее возвращения: час поздний, наверно, извелись бы, дожидаясь). Но может быть, они уже все трое легли спать? Нет, по времени никак не получается: с того момента, как «кадиллак» оторвался от такси, прошло самое большое минут двадцать – двадцать пять.
А что, если тяжелые, плотные портьеры не пропускают света и в этом вся загвоздка? Ипатов забегал по дну дворового колодца, отыскивая в оконных провалах хотя бы крохотный лучик. И не находил ничего, кроме угрюмой, набрякшей темноты. Неожиданно наскочил на высокую поленницу дров. Рискуя развалить ее, с немалыми ухищрениями взобрался на самый верх. Но и теперь, приблизившись к окнам по меньшей мере еще на три метра, он видел под крышей все те же темные слепые пятна. Неужели Светлана еще не вернулась, а ее родители спокойно похрапывают под голубым балдахином? Или они привыкли к тому, что она приходит, когда ей заблагорассудится?
Но только Ипатов собрался спуститься, как вдруг услышал легкие и быстрые шаги. Еще не поняв, откуда они приближаются, еще не видя никого, он знал, что это Светлана. Балансируя на ускользающих из-под ног поленьях, Ипатов резво пробежал по штабелю и там, в дальнем конце, обивая спину и зад, съехал под грохот рассыпающихся дров. Шаги, которые прорезались, как сообразил с некоторым запозданием Ипатов, под аркой со стороны канала Грибоедова, сейчас уверенно и прямиком приближались к поленнице. Судя по всему, Светлана видела, как он бежал по верхотуре и рухнул вниз. Во всяком случае, она не могла не слышать, как громыхали поленья.
Светлана подошла к краю штабеля и весело сказала в темноту:
«Костя, выходи!» Она первая предлагала ему мир…
«Сейчас, – отозвался он, перелезая через гору поленьев. – Думаешь, так просто отсюда выбраться?.. О, черт!»
«Ого, сколько дров наломал!» – не удержалась она от каламбура.
«Не больше, чем ты!» – в тон ей ответил он.
«Да?» – фыркнула Светлана.
«А то нет?» – продолжал добродушно огрызаться Ипатов.
«Может быть, все-таки скажешь, что ты делал на дровах?» – спросила она, едва сдерживая смех: похоже, у нее было хорошее, возможно, даже очень хорошее настроение.
«Искал твои окна», – ответил он, упираясь рукой в поленницу над ее головой.
«Ну и как – нашел?» – насмешливо поинтересовалась она.
«Конечно! Вон они!» – кивнул он.
«Эти?»
«Да!»
«А я и не знала!» – тихо засмеялась она.
«Не твои?»
«Нет!» – игриво покачала она головой.
«А где твои?»
«Вот!» – помедлив, кивнула она на окна, расположенные тоже на шестом этаже, только в правом крыле.
«Правда?» – усомнился Ипатов.
«Шучу! – смеялась она. – Вон они!» На этот раз она показала на окна, находившиеся уже на левом краю дома, что совсем не соответствовало расположению ее квартиры.
«Не может быть!» – заявил Ипатов.
«Да? Тогда вот эти!» – она обернулась на окна шестого этажа со стороны канала.
Теперь Ипатов не сомневался, что она попросту дурачит его. Впрочем, он не возражал против этой игры, ибо она означала одно – конец ссоры, новую ступеньку в их отношениях.
«Значит, не скажешь?» – с замирающим сердцем проговорил он.
«Нет! Это одна из тайн нашего мадридского двора!» – смеясь, досказала она.
«Одна из тайн? – И многозначительно добавил: – Значит, есть и другие тайны?»
«А у кого их нет? У тебя, что ли, нет?» – ответила она, словно уличая его в чем-то.
«У меня?» – повторил он несколько озабоченно.
«Ну да, у тебя… А кто исчез на два часа в ресторане?» – напомнила Светлана.
«Во-первых, не на два, а на час, – поправил он. – А во-вторых, это не тайна. Все это время меня продержали в милицейской комнате!»
«Вот как? – заметила она. – Я вижу, с тобой не соскучишься!»
«Комплимент за комплимент: с тобой тоже!»
«Но я еще ни разу не была в милиции».
«Как говорит моя бабушка: от сумы да от тюрьмы…»
«И это все, что говорит твоя бабушка?»
Но ответить Ипатов не успел. Над ними распахнулась форточка, и разъяренный женский голос обрушился на них с бранью:
«Мало вам дня, охламоны! Вот возьму и окачу вас водой!»
Ипатов только собрался огрызнуться, как Светлана схватила его за рукав и, приложив палец ко рту, шепнула:
«Т-с-с! Пошли в подъезд!»
Женщина что-то еще кричала им вслед, но они юркнули в полуоткрытую дверь.
«Вот ведьма!» – ругнул неизвестную тетку Ипатов.
«Я ее знаю, – сказала Светлана. – Она ходит по квартирам, моет полы, окна. Тихая такая, безотказная…»
«Видно, на день ее еще хватает», – раздумчиво произнес он – и раздражение как рукой сняло.
«Пошли выше!» – вдруг предложила Светлана.
Сердце у Ипатова сладко зашлось.
Они поднялись на лестничную площадку между первым и вторым этажами. Это была обыкновенная черная лестница, каких Ипатов повидал несчетное множество – с их нечистыми, застоявшимися запахами, ободранными старыми дверями, мусорными ведрами и полумраком. Но все эти подробности он вспомнил потом, когда все было уже позади. Тогда же он вообще не видел ничего, кроме Светланы. А разговор у них был долгий, ох какой долгий.
«Так за что же мы сидели?» – первым делом осведомилась она.
«Мы – в смысле я?» – уточнил Ипатов.
«Увы, для другого смысла пока нет оснований!»
«Нет?.. Ну ладно! Помнишь того типа в ресторане, что произвел на тебя неизгладимое впечатление своими нестандартными ресницами?»
«Конечно, такое не забывается», – насмешливо подтвердила она.
«Так вот, он шепнул милиционерам, что у меня якобы с собой пистолет. Ну они и держали меня до тех пор, пока окончательно не убедились, что единственное мое оружие – это знание некоторых латинских выражений. Альма матэр. Альтэр эго. Цетэрис парибус!»
«Почему ты этого не сказал мне тогда?» – уже серьезно спросила она.
«При этих не то турках, не то греках? Хотя я и не ахти какой дипломат, но все-таки сообразил, что эта история не для их иностранных ушей».
«Похвальная сообразительность, – опять кольнула она его насмешливым взглядом. – Мне бы такую!»
«Ты права, я вел себя как последний идиот! Действительно, откуда ты могла знать, где я и что со мной?»
«Кстати, они не греки и не турки», – вдруг перевела она разговор.
«А кто же?»
«Персы!»
«Персы? А что они здесь делают?»
«Не знаю. Приехали в Союз не то что-то продавать, не то что-то покупать».
«А заодно и развозить по домам хорошеньких девушек?»
«Тебе даже это известно?»
«Мне все известно!» – заверил Ипатов.
«Вот как?»
«Было без десяти минут двенадцать, когда «кадиллак» отъехал от ресторана и, развернувшись у Дома книги, понесся по Невскому в направлении Дворцовой площади. – Ипатов говорил размеренно и монотонно, словно читая отрывок из детектива. – Затем он свернул на улицу Герцена и остановился у «Астории»…»
«Ты что, бежал следом?» – но даже эта шутка не могла скрыть ее искреннего удивления.
«Разумеется, как же я еще мог узнать?» – подхватил Ипатов.
«Я вся – внимание!» – сказала она.
«Тогда, может быть, присядем? – он кивнул на подоконник. – А то я притомился, бегамши за машиной».
«Что ж, присядем!» – ответила Светлана.
Ипатов быстро смахнул варежками пыль, и они уселись в тесном узком проеме.
«Так я слушаю!» – напомнила она.
«Пожалуйста! Через две с половиной минуты «кадиллак» обогнул скверик напротив гостиницы и, набирая скорость, свернул на проспект Майорова. Все расстояние от Горисполкома до Садовой он проделал за две минуты двадцать пять секунд».
«Чудеса в решете! – воскликнула Светлана. – Откуда ты все это знаешь?»
«Так и быть – скажу. – Он наклонился к ее уху и вдохнул чистый, нежный запах каких-то очень тонких духов. – Я лежал в вашем багажнике!»
«Нет, правда?» – она, кажется, и в самом деле поверила.
«Я спрятался туда, пока вы вчетвером обмывали мое отсутствие».
«Ну и как там?» – Светлана снова перешла на шутливый тон.
«Честно говоря, немного тесновато!»
«Да, с тобой надо держать ухо востро!» – заметила она.
«Разве это так плохо, что я всю дорогу находился у тебя под рукой?»
Светлана бросила на него острый взгляд и начала припоминать:
«Погоди, погоди, как же так: быть в багажнике и в то же время разгуливать по нашему двору?»
«Проще пареной репы, – нашелся Ипатов. – Когда вы сбавили на повороте скорость, я выскочил из багажника и первым прибежал сюда».
«И, зная, что я в машине, принялся зачем-то искать мои окна?.. Заврался, дорогуша!» – и она дотронулась до его колена.
Он неожиданно для себя схватил ее руку и стал осыпать всю поцелуями.
«Все! Хватит!» – и ее тонкая ладошка выскользнула у него из-под губ.
«Еще немножко?» – жалобно попросил он.
«Хорошего понемножку», – ответила она.
Он вдруг, набравшись отчаянной решимости, обнял Светлану за плечи, и она тут же с ошеломляющей его простотой прильнула к нему. Их губы встретились в долгом и умелом поцелуе. У него то и дело перехватывало дыхание, сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Господи, неужели это она, а это я?» – все еще не веря в происходящее, думал Ипатов. Трясущейся рукой он расстегнул ее шубку и стал целовать тонкую и прямую шею. Он чувствовал, что Светлана обмякает под его жадными поцелуями. Когда они оба вконец обессилели, он сполз на пол и положил ей голову на колени.
«Господи, если бы ты только знала, как я тебя люблю!» – простонал он.
Она осторожно просеивала сквозь свои длинные и ласковые пальцы его подстриженные в лучшей парикмахерской мягкие волосы.
«Слушай, а где твоя шапка?»
«Не знаю, где-нибудь здесь», – ответил он, не поднимая головы.
«На полу грязно. Подними ее», – продолжала она.
«Пусть!» – ответил он.
«Все! – сказала она, просовывая обе руки между его щекой и своими коленями. – Вставай… Раз!.. Два!.. Три!..»
Он нежился в ее ладонях и не трогался с места.
«Скажи, у тебя уже кто-то был?»
«Да», – признался он.
«Вот ты какой!» – протянула она.
«Мы служили в одной части, и она погибла перед самым концом войны».
«Ты ее очень любил?»
«Нет. Просто мы считали, что нам совсем мало осталось жить. С ней так и случилось», – Ипатов поднял шапку-ушанку и сел на подоконник.
«Дай мне свою руку!» – неожиданно сказала Светлана.
Она приблизила к глазам его широкую крепкую ладонь и промолвила:
«Нет, темно, ничего не видно!»
«Ты что, умеешь гадать?»
«Умею… умею… умею. – Она поворачивала его ладонь и так, и этак, пытаясь что-то разглядеть в тусклом ночном свете, проникающем со двора. – Нет, ни черташеньки не видно!»
«Как, как ты сказала?»
«Ни черташеньки!» – весело повторила она, нехотя отпуская его руку.
«Ни черташеньки! – произнес он, умиляясь. – До чего хорошо!»
«Ни черташеньки!» – вздохнув, еще раз сказала она.
«Дай тогда я тебе погадаю?» – попросил Ипатов.
«Да? На!» – Светлана поднесла свою тонкую, поразительно красивую ладошку, и он припал к ней долгим и благодарным поцелуем.
А потом где-то вверху хлопнула дверь, и они услышали, как кто-то стал медленно и осторожно спускаться.
«Это папа! – почти сразу узнала она. – Ну я пошла!»
И уже, шагнув к лестнице и обернувшись, шепнула:
«До завтра!»
До завтра, до завтра, до завтра…
– А… это ты! – радостно протянул он. И хотя его и девочку разделяли почти два этажа, он уловил в далеком внимательном взгляде не только обычное любопытство, но и движение доброй души. Малышку, видно, что-то тронуло в его последнем обращении: не жалобная ли интонация?
– А вы не пьяный? – неожиданно спросила она.
– Разве я похож на пьяного? – ответил он.
– Правда, не пьяный? – с надеждой переспросила она.
– Честное слово, нет! – сказал он. – Просто у меня очень болит сердце. Я не могу ни подняться, ни спуститься. Тебе не трудно позвать кого-нибудь из взрослых, папу или маму, все равно кого?
Девочка замялась с ответом.
– Ты что, одна дома?
Она настороженно молчала. (Ах ты, Фомушка неверный! Снова заподозрила в его словах какой-то тайный умысел!)
– Понимаешь, какая история, – продолжал Ипатов, – я по рассеянности не захватил с собой лекарств, от которых мне обычно становится легче. Может быть, они есть у вас?
– А вы правду говорите? – опять с недоверием спросила она.
– Неужели я похож на какого-нибудь жулика или бандита? – бросил на чашу весов свой последний козырь Ипатов.
– Нет, – подумав, ответила она.
– Ну вот и хорошо! Сбегай тогда к себе и посмотри, нет ли у вас этих лекарств… Запомни названия… валидол и нитроглицерин… валидол и нитроглицерин… Запомнила?
– Угу! – подтвердила она.
– Только, пожалуйста, побыстрее!
Она кивнула головой и скрылась из виду. Ипатов ясно слышал, как вслед за ней хлопнула дверь и щелкнул замок. Значит, до конца все-таки не доверяет…
Потянулись минуты – долгие и томительные, и Ипатова уже начало одолевать сомнение: а вдруг не выйдет? Вспомнит, о чем предупреждали родители, и будет до их прихода сидеть взаперти. Его бы Машка, возможно, так и поступила, а он бы за это ее только похвалил…
И вдруг на четвертом этаже снова щелкнул замок и, широко распахнувшись, стукнула о косяк дверь. Так и не закрыв ее, девочка пулей пробежала по невидимой площадке и теперь лихо отстукивала своей крепкой обувкой по невидимым ступенькам. «Славный, добрый, мужественный человечек!» – с благодарностью подумал Ипатов.
И вот она уже в пределах видимости на одном из завитков лестницы. Бросив на Ипатова, скорчившегося на перилах, короткий, серьезный, озабоченный взгляд, девочка, не задерживаясь на пятом этаже, застучала сапожками дальше. В руках она держала плоский деревянный ящичек. С этого момента Ипатов мог уже хорошо разглядеть ее. Ей было лет десять-одиннадцать. Тонкие косички с шикарными голубыми бантами прыгали туда-сюда по спине. Как и тогда, когда она выглянула с четвертого этажа, Ипатова поразило ее бледное, почти без кровинки лицо, впрочем такое же, как у его Машки. Словом, дети эпохи научно-технической революции – жертвы непосильных школьных программ, необременительной физры (так, кажется, называются у них занятия по физкультуре), многочасового сидения у телевизора и чрезмерного родительского честолюбия. Была бы больше на воздухе, ох как заиграли бы ее круглые щечки с ямочками.
Теперь Ипатова и девочку разделял какой-нибудь десяток ступеней. Она по-прежнему смотрела на него в упор дружески-озабоченным, деловым взглядом.
– Ну что, нашла? – спросил он.
– Валидола и глицерина нет, – на ходу сообщила она. – Но может быть, вам другие лекарства помогут?
– Ты спутала, дружок: не глицерин, а нитроглицерин! – с усилием улыбнулся Ипатов.
– Нитроглицерин? – повторила девочка, останавливаясь.
С трудом выдвинув из ящичка крышку, она принялась лихорадочно рыться в ворохе порошков и таблеток. Держать на руках и еще искать было очень неудобно, и Ипатов посоветовал ей:
– А ты поставь его на ступеньку!
Увидев, что он говорит серьезно, девочка тут же расположилась со своим ящичком на ступеньках.
– Читай названия вслух! – сказал Ипатов. – И все ненужное пока откладывай в сторону!
Большинство названий было для нее совершенно непонятно, слишком мудрено, и она читала их по складам, стараясь не перевирать и все-таки безбожно перевирая. Когда встречались одни латинские слова, она показывала Ипатову. В основном здесь были средства от простуды и кишечных заболеваний, то есть те лекарства, с которыми имеет дело все человечество, независимо от возраста и здоровья. Они дважды проверили все содержимое ящичка и не обнаружили ничего подходящего. Что ж, родители у нее, видно, люди молодые и в сердечных средствах пока не нуждаются.
– Что же будем делать? – спросил Ипатов.
– Не знаю, – печально ответила девочка, сидя на ступеньках.
– Как тебя звать?
– Наташа.
– Наташа, у вас дома есть телефон?
– Есть! – вскинула она голову, словно предчувствуя, что вопрос задан не случайно.
– Теперь нам не остается ничего, – продолжал Ипатов, – как вызвать «скорую помощь». Сходи и позвони по ноль три, попроси приехать, скажи, что сердечный приступ!
Смахнув со ступеньки все в ящичек, девочка поднялась и понеслась вниз по лестнице.
– Скажи: очень, очень плохо с сердцем! – крикнул вслед Ипатов.
– Скажу! – ответила она на бегу, бросив на него свой неизменно короткий, озабоченный, деловой взгляд.
Когда девочка была где-то на последних ступеньках перед своим этажом, Ипатов вдруг вспомнил о неработающем лифте.
– Наташа! – окликнул он ее.
– Что? – она подбежала к перилам и испуганно взглянула вверх.
– Проверь, плотно ли прикрыта дверца лифта?
Она в мгновение ока съехала на свою площадку. Через секунду до Ипатова долетел знакомый щелчок дверной ручки.
– Теперь плотно! – сообщила девочка, подходя к перилам.
– Спросят мою фамилию, – сказал Ипатов, – скажи: Ипатов! Константин Сергеевич!
Она кивнула своей белокурой головкой и убежала.
На этот раз ждать долго не пришлось. Она вернулась через несколько минут, размазывая по лицу слезы.
– Что случилось? – с предчувствием какого-то нового осложнения спросил Ипатов.
– Сперва… она сказала, – плача, рассказывала девочка, – что от детей… они… вызовы не принимают… Говорит… пусть… позвонит… кто-нибудь из взрослых… А когда я ей сказала… что одна дома… она сказала… чтобы я позвонила… на неотложку… А когда я позвонила и… сказала, что вы… не из нашего дома и… лежите на лестнице… там сказали, чтобы я… опять… позвонила… на «скорую помощь»…
– Не плачь, дружище! – крикнул Ипатов – Что-нибудь мы все-таки придумаем… Слушай! Ты им сказала, что у меня сердечный приступ?
– Ска-за-зала…
– А они что?
– А они сказали… что пить меньше надо…
– Ну хорошо! – сказал Ипатов. – Позови кого-нибудь из соседей!
– Сейчас! – мгновенно отозвалась она и побежала куда-то в глубь своей площадки…
Родители опять не спали: у них горел маленький свет. Лежали, дожидались его возвращения. Как только он заявился, отец тут же выключил свет. Ипатов на цыпочках прошел к себе. Прямо в верхней одежде, в сапогах повалился на кровать, одним духом взгромоздив ноги на спинку. Блаженная улыбка не сходила с его лица. Со стены на Ипатова с непонятным укором глядели апостолы Петр и Павел (эту репродукцию картины Эль Греко, отпечатанную в Мадриде, он привез из Германии – взял ее в доме какого-то гитлеровца, бежавшего на Запад. Еврейские лица обоих апостолов, по-видимому, не очень шокировали владельца особняка). Ах, вот почему укор! Ипатов перенес ноги на пол, снял промокшие сапоги.
За тонкой перегородкой скрипнула кровать, знакомо шаркнули старые комнатные туфли: мама все-таки не утерпела, решила, вероятно, пока он не спит, спросить, где был и что делал. Ему да не знать своих родителей. Так и есть: портьера шевельнулась, и в комнату заглянула мама. На бледном лице ее черные глаза казались огромными.
«Можно к тебе?»
«Что за вопрос? Давай!»
Смущаясь своей ветхой ночной рубашки и все время оправляя ее, мама зашла в комнату и присела на кровать.
«Ты чего не раздеваешься?» – спросила она.
«Сейчас разденусь!» – ответил он, прижимая ее руку к щеке и губам.
«Кто она?» – спросила мама.
«Самая красивая – раз, самая добрая – два, – загибал он распухшие от частых стирок мамины пальцы, – самая умная – три…» На руке оставалось еще два пальца, и Ипатов загнул их со словами:
«И тэ пэ, и тэ дэ».
«То, что она самая-самая, я не сомневаюсь, – ласково отозвалась мама. – Но мне хотелось бы знать о ней что-нибудь более определенное?»
«Зачем? Разве так уж существенно остальное?»
Мама улыбнулась:
«Она – забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды… Так?»
«Так», – ответил Ипатов.
«И все же у этого самого-самого, – продолжала мама, – я почему-то думаю, есть имя… Оно, это самое-самое, где-то живет, учится, имеет родителей…»
«Мамуль, чьи это были стихи?» – попробовал перевести разговор на другое Ипатов.
«А… это Волошина!» (Стихов она помнила ничуть не меньше Вальки Дутова, может быть, даже больше. Устроить бы между ними поэтический турнир.)
«Так кто же она?» – Нет, заговорить маме зубы практически невозможно.
«Существо противоположного пола», – улыбнулся Ипатов.
«Да? – мама прямо-таки артистически спародировала удивление. – Это, знаешь, в немалой степени расширяет мое представление о предмете!»
«Ну зачем тебе ее анкетные данные? …Ну хорошо, – наконец сдался он. – Моему предмету девятнадцать лет, он учится на нашем курсе, зовут его Светлана, с родителями у него тоже полный порядок: папа почти адмирал, мама почти адмиральша. Так что у тебя есть шанс породниться с ними!»
«И как, очень серьезный шанс?» – в голосе мамы послышалась явная озабоченность.
«Не знаю, – пожал плечами Ипатов. – Если бы это зависело только от меня…».
«Вот как? – мама внимательно посмотрела на него. – Ты не очень уверен в ней?»
«Понимаешь, – Ипатов даже привстал, – она необыкновенно хороша! Такие, как она, рождаются раз в сто лет!»
«Но если немножко чаще, – заметила мама, остановив на нем свои смеющиеся глаза, – тоже неплохо».
Ипатов рывком соскочил с постели:
«Я ведь не мальчик, которого берет оторопь при виде каждой смазливой мордочки! Вот этими своими ходулями я обошел пол-Европы и попутно с основным делом, как ты знаешь, всласть нагляделся на вашего брата. И если я говорю: «Хороша!» – то так оно и есть!»
«Против такого аргумента трудно возразить, – рассмеялась мама. – Когда же ты нас с ней познакомишь?»
«Хоть завт… – и осекся, словно только что увидел окружающее его убожество: доживавшие свой век стулья; кресло, у которого не хватало одной ножки и во все стороны выпирали пружины; железную кровать, купленную за тридцатку на барахолке; старый стол, накрытый центральными газетами… И с кислым видом уточнил: – Когда представится возможность…»
«Ты только предупреди нас заранее. – Мама, по-видимому, заметила его растерянность. – Я наведу марафет!»
«Тут – марафет?! – заорал Ипатов. – Да все это надо вывезти на свалку и сжечь!»
Из-за перегородки прорвался недовольный голос отца:
«Аня, может быть, перенесете разговор на завтра?»
«Т-с-с! – сделала мама знак молчания. – У меня уже есть идея, как все расставить…»
«Расставить?» – зашипел Ипатов.
«А что? Будет очень мило!» – в голове мамы уже шла работа, как скрыть это ужасающее убожество.
«Делай, что хочешь!» – Ипатов махнул рукой и стал раздеваться.
Обдумывая перестановку, мама присела на стул посреди комнатки, сложив обе руки ладошками между коленями.
«Интересно, сколько времени?» – вдруг спохватилась она и поднялась.
«Сейчас!» – Ипатов полез в карман брюк и… смутился, вспомнив, что «Гайнц Плюм» уже третий день верой и правдой служит новому хозяину.
«Куда же их положил?» – зардевшись от вранья, произнес он.
«Спокочи ночи, Костик-хвостик!» – пожелала ему на сон грядущий мама и скрылась за дверью.
Ипатов забрался под одеяло. Ни в одном глазу не было сна. Впечатления от прошедшего дня с его крутыми, почти безумными поворотами, праздничные мысли о завтрашней встрече, полные смятения думы о будущем, смешавшись, прямо-таки разрывали Ипатова на части. Он не находил себе места, без конца ворочался на своей узкой, провисшей, жалобно постанывающей кровати; подушка, которая все время мешала ему найти удобное положение, вскоре оказалась на полу…
«Она моя, моя, моя! – неистово и удивленно твердил он вполголоса. – Вся, вся моя! С головы до ног! – И тут же в сомнении спрашивал: – А ты уверен в этом? – И отвечал в яростном исступлении самому себе: – Да, да, да! Она же ни разу не дала почувствовать, что я позволяю себе слишком много! Какое еще требуется доказательство, что она меня любит?»
Господи, а вдруг ничего этого не было? Приснилось? Померещилось? Но какое надо иметь воображение, чтобы как наяву ощутить все это: и ненасытную неутолимость поцелуев, и нежную бархатистость шеи, и травяные запахи волос, и холмик груди, опрокинутый в его ладонь, и теплоту коленей, и ласковость нежных и добрых рук!
Они бы пошли и дальше, если бы не эта замызганная и вонючая черная лестница, где пахло мочой и под ногами хрустела яичная скорлупа, где только кошкам самое место крутить любовь. Как хорошо, что они вовремя спохватились.
До чего славная штука – жизнь! Прожита всего лишь треть ее… А может быть, и меньше? Если повезет, можно дожить и до восьмидесяти, до девяноста, и даже сто не предел. Судя по этой трети, он счастливчик каких мало! Перво-наперво, уцелеть в такой войне. Мало того, что уцелеть самому, но и не потерять родителей. Затем, поступить в один из лучших университетов страны, заняться любимым делом. И наконец – встретить е е…
За стеной размеренно и неторопливо пробили часы. Четыре. Всего каких-нибудь пять-шесть часов осталось до встречи. Нетерпение сжигало его изнутри…
Боже, как хорошо, как чисто, как многообещающе начинается новая треть его жизни! Конечно, он предвидит трудности, и немалые. Например, он нисколько не сомневается, что ее родители будут против. По их теперешней шкале ценностей, надо полагать, он Светлане не пара, человек без роду, без племени. И если они пойдут на уступки дочери, то крайне неохотно, с нескрываемым недовольством, возможно, даже начнут ставить палки в колеса. Однако он согласен на все, готов перетерпеть и барский гнев, и барскую любовь, хотя со стороны ее предков любовь вряд ли предвидится, но не обрывать же грибоедовскую цитату на полуслове. Честно говоря, ему бы очень не хотелось перебираться к ним. Возможно, они и промолчат, но где уверенность, что они не подумают о нем, как о нахале, ворвавшемся в их жирный рай с одним тощим рюкзачком, в котором нет ничего, кроме конспектов и нескольких вконец застиранных трусов и маек? Не трудно представить, с каким чувством он будет ходить по их шикарным коврам, есть с их шикарной посуды, вешать в их шикарный шкаф свой драный китель. Но еще хуже, если Светлана переедет сюда, где все, все, до последней кружки с отбитой эмалью, из которой они пьют чай, до зияющего прорехами половика, до ободранных обоев, кричит о нужде. И ничто не сгладит впечатления от скудости их быта – ни мамино обаяние, ни отцовская благородная седина, ни висящие повсюду портреты в старинных рамках – четыре поколения с той и другой стороны. Марафет, который наведет мама, надо думать, поможет, как мертвому припарки. Да и что можно сделать, если у них на сберегательной книжке сто пять рублей двадцать шесть копеек, если живут они от зарплаты до зарплаты, и каждой новой покупке, будь то пара теплого белья или ботинки, брюки или одеяло, предшествуют такие долгие, такие унизительные усилия, что сам себе становишься противен. Одна мама не унывает. Здесь выкроит пятерку, там десятку и откладывает железно, как будто от этой пятерки или десятки зависят судьбы человечества…
Но может быть, родители Светланы смирятся с тем, что он гол как сокол? В конечном счете, кто-кто, а они должны знать, что и деньги, и одежда, и положение – дело наживное. Он уверен, пройдет пять, десять, пятнадцать лет, и он станет известным, не исключено даже, что очень известным журналистом-международником. Он уже сейчас каждую свободную минуту хватается за перо и пишет, и пишет, пробуя себя чуть ли не во всех газетных жанрах, от путевых заметок по зарубежным странам (разумеется, пока тем, где он побывал в конце войны с танками) до политических памфлетов, в которых с немалым сарказмом высмеивает прогнившую буржуазную демократию. Кое-что из написанного он послал на отзыв старому дружку Бальяну, готовившемуся в своей родной Туле к поступлению в Литературный институт имени Горького, и получил от него пространный ответ с разбором каждого материала. Указав на отдельные недостатки, Гера в целом положительно отозвался об идейно-художественных достоинствах прочитанного. Теперь у Ипатова нет и тени сомнения в своем высоком предназначении. Он будет работать дни и ночи напролет и непременно добьется своего. Станет вторым Эрнстом Генри или вторым Ильей Эренбургом. Возможно, он даже не возьмет псевдонима. В конце концов, и фамилия Ипатов может звучать громко и весомо! Надо только постараться! Здорово постараться! И в этой отчаянной и увлекательной борьбе за место под солнцем он найдет в Светлане верного и умного помощника! Вдвоем они – такие талантливые, молодые, красивые – эх, мать честная! – сколько дел провернут!
Правда, для начала он должен будет перевестись с русского отделения, где готовят бедолаг учителей, на газетное. Там пестуют и холят цвет будущей журналистики. Он уже узнавал. Его всем синклитом уговаривали не торопиться, разобраться в себе, подумать. Что он, мальчишка какой-нибудь! Все, в ближайшие дни он снова пойдет к декану!..








