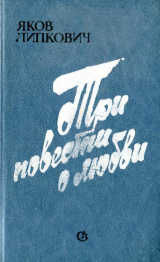
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
«Нельзя!» – сказала она.
«А по носу можно?» – спросил он.
«Чудила! – ответила она. – Сам же просил, уже позабыл?»
«Я просил фигурально!» – пояснил он.
«А, фигурально! – протянула она. – Я не поняла».
И хитренько улыбнулась.
В этот момент на них зашикали. Они смущенно переглянулись: оказывается, они кому-то из опоздавших мешали наслаждаться музыкой и переживать за героев, живущих там, на сцене, пока еще непонятной и загадочной для Ипатова и Светланы жизнью…
Под аплодисменты, возвестившие начало антракта, толпа опоздавших хлынула в партер. Ипатов всю дорогу от балкона до их двенадцатого ряда вел Светлану под руку. Не было ни одного человека, который бы не остановил на них взгляда, не посмотрел бы им вслед. При этом выражение лиц не отличалось многообразием: мужчины завидовали ему, женщины – ей. И только очень молоденькие девушки и юноши смотрели на Светлану чистыми и восторженными глазами. Ипатов словно плыл по воздуху…
Опомнился только, когда увидел уже знакомого молодого майора, показывавшего рукой на кресла рядом с собой. Его спутница также помахала рукой. Переждав, пока выйдут желающие поразмяться в антракте, Светлана и Ипатов втиснулись в узкое пространство между рядами и направились к своим местам. Майор встречал их стоя. Ипатов не сводил взгляда со сверкающей на его груди, над несколькими рядами колодок, Золотой Звезды Героя Советского Союза. Провоевав два с лишним года на фронте, он знал, какой дорогой ценой она достается. В их танковой бригаде было всего три Героя. Так что человек, удостоенный такой высокой и почти всегда заслуженной награды, пользовался уважением не только у тех, кто никогда не нюхал пороху, но и у своего брата фронтовика, что намного важнее. Ипатов покосился на Светлану: ее лицо было холодно и бесстрастно. «Может быть, это и к лучшему», – ревниво подумал он. Майор же смотрел одинаково приветливо на обоих. Его спутница во весь рот улыбалась Светлане, но та даже не удостоила ее взглядом.
«Познакомьтесь!» – сказал Ипатов.
Майора, оказалось, звали Рашидом («Ни за что не скажешь, что татарин», – удивился про себя Ипатов, имевший весьма смутное представление о татарах), а его приятельницу – Кленей.
«Полное мое имя Клеопатра, – пояснила та. – Была в Древнем Египте царица Клеопатра, не слышали? О ней еще Пушкин писал».
«И не только Пушкин, – заметил Ипатов. – Шекспир тоже!»
«Вот видишь, сколько о тебе понаписано!» – сказал майор, усаживаясь.
«Кленя, Кленя, Кленечка, полюбила Ленечку, – весело отозвалась Кленя, – а у Ленечки дела: жена тройню родила!»
Светлана нахмурилась и отодвинулась в кресле: ее явно шокировали Кленины манеры, беспокоило, как бы кто-нибудь не подумал, что они из одной компании. У Ипатова же Кленя не вызывала никаких отрицательных эмоций; наоборот, она показалась ему даже забавной и по-своему привлекательной. К тому же, что-то в ней смутно напоминало Веру. То ли чуть хитроватая простота, то ли почти детское добродушие. В какой-то мере на отношение к ней Ипатова, наверно, сказывался и ореол ее спутника. Впрочем, если быть честным до конца, знакомство с Рашидом делало значительнее в глазах окружающих и его, Ипатова, тоже. А через него и Светлану, хотя она этого, очевидно, не понимала.
Вскоре зал снова заполнили зрители, и под бодрую мажорную музыку, вырвавшуюся из оркестровой ямы, ожила сцена. Всего несколько минут потребовалось Ипатову и Светлане, чтобы наверстать упущенное. Теперь они не хуже других знали, кто кого любит и кто против кого борется.
Как-то спустя много лет Ипатов пытался вспомнить содержание оперетты. Долго и тщетно напрягал память, пока наконец откуда-то из ее глубин не вынырнули два матроса: один – длинный, другой – маленький, – лихо отплясывающие не то чечетку, не то еще что-то. Возможно, если бы он поднатужился чуть больше, то припомнил бы и мелодию: она уже почти всплыла; при желании, наверно, можно было бы зацепить и ее. Но он поленился, и она снова ушла куда-то на самое дно. А потом, опять через много лет, он однажды услышал по радио дуэт героя и героини из этой оперетты. И даже, себе на удивление, запомнил слова и мотив: «Стелла, ты недаром зовешься звездой золотой…»
Забывчивость эта, скорее всего, объяснялась невниманием к тому, что происходило на сцене. Чего греха таить, он и слушал вполуха, и смотрел вполглаза. Все мысли его вертелись вокруг Светланы. Он улавливал каждое ее движение, каждый жест, каждую гримасу. Вот она заскучала… улыбнулась… фыркнула… поморщилась… задумалась… замечталась… покосилась на него, почувствовав на себе его взгляд… потом на какое-то время опять заинтересовалась происходящим на сцене… и снова заскучала… Мало того, что он любовался ею, он еще пытался понять, что скрывалось за тем или иным жестом. Иногда это ему удавалось, потому что хоть краем глаза, но продолжал следить за действием: он без труда угадывал, что Светлане нравится, а что нет. Но когда она уходила в себя, ему оставалось только ломать голову.
Ипатов видел, что спектакль в общем ей нравится: временами улыбка подолгу не сходила с ее лица. И он был счастлив, что доставил ей удовольствие. Радоваться бы ему про себя. Но из-за дурацкой мужской привычки ставить точки над «i» он не удержался и спросил ее: «Ты, правда, довольна?»
Она как-то странно, почти отчужденно посмотрела на него:
«Чем довольна?»
От повеявшего на него холода он даже растерялся, смущенно промямлил:
«Спектаклем…»
Она пожала плечами и продолжала глядеть на сцену.
Ипатов не знал, что и думать. Он был крайне озадачен, старался понять, почему на его безобидный вопрос она так ответила. Наконец решил: или ей было неприятно, что он столь открыто напрашивался на благодарность, или же возмутилась тем, что он осмелился предположить, что ей может понравиться какая-то глупая оперетка? Честно говоря, он до сих пор не знает, что ее тогда покоробило в его совершенно бесхитростном вопросе…
Вскоре она, однако, пожалела его. Вытащила из своей пахнущей дорогой кожей и духами сумочки две конфеты и одну из них молча сунула Ипатову в руки. Он посмотрел и не поверил своим глазам. Это был «Мишка на Севере». Последний раз Ипатов лакомился ими еще до войны, на выпускном вечере. Да и то съел всего одну или две штуки, больше взять постеснялся. Вот и сейчас он испытывал неловкость перед майором и его спутницей. Но ведь конфета-то одна! Господи, чего он раздумывает! Ипатов, пригибаясь за креслами, протянул конфету Клене. Та сразу взяла: «Ой, мои любименькие!» – и тотчас же зашуршала обертками…
Светлана не могла не заметить этого, но вида, во всяком случае, не подала. Аккуратно похрустывая вафельной начинкой, она неотрывно смотрела на страдания главного героя. И когда, казалось, все ее мысли были там, на сцене, она вдруг повернулась к Ипатову и показала язык…
Но вот медленно пополз занавес, волнами прокатились по залу недолгие антрактные аплодисменты. В отличие от соседей своих, Светлана хлопала сидя. Аплодировала довольно сдержанно, видимо больше для вежливости.
Ипатов склонился к ней:
«Пошли, прогуляемся?»
И вдруг в ответ услышал, хотя и произнесенное просительным тоном, убийственное:
«Я не пойду? Сходи один?»
У него мгновенно вспотели ладони. Весь второй акт он мечтал о том, как они со Светланой, привлекая всеобщее внимание, будут неторопливо прогуливаться по фойе. И если позволит время, непременно заглянут в главный буфет, где выпьют по бокалу шампанского. Чего другого, а денег у него теперь навалом, вон как выпирают в заднем кармане. Лишь бы было что купить. И вот на́ тебе: «Сходи один!» Несколько сбивала просительная интонация, и он продолжал уговаривать:
«Ну, пойдем?»
«Мне не хочется, – с тем же легким смущением ответила она, посмотрев ему прямо в глаза. – Нет, правда, не хочется…»
Он стоял, опираясь рукой на подлокотник, и тут его взгляд скользнул по своему рукаву – старому, вытертому, с сильно выпирающим локтем. Кровь бросилась Ипатову в лицо. Да она просто стыдится его! Разумеется, ее вечернему туалету подошло бы больше соседство черной морской формы с белоснежными манжетами и позолоченным офицерским кортиком, а на худой конец – элегантной, сшитой у лучшего портного синей тройки старого дружка Альберта.
Обида захлестнула Ипатова. Спотыкаясь о ноги кое-где сидевших зрителей, он рванулся к проходу. Шел крупными шагами, не оглядываясь, ощущая на своем пылающем лице любопытные и удивленные взгляды. В считанные секунды сбежал по лестнице в вестибюль. Сунул опешившей гардеробщице номерок. Та, чуть ли не пятясь, скрылась в своих лабиринтах. Вскоре она вернулась с его пальто и Светланиной шубкой.
«А это повесьте обратно!» – сказал Ипатов. И вдруг спохватился: а номерок?
«Я сейчас!» – и, оставив свое пальто на стойке, побежал назад.
На верхней лестничной площадке его перехватил майор:
«Погоди! Есть предложение!»
«Какое?» – безучастно и нетерпеливо спросил Ипатов.
«Махнуть на эту муру и закатиться в ресторан?»
«Как-нибудь в другой раз!» – буркнул Ипатов на ходу.
«Чего это с ним?» – услышал он позади голос появившейся откуда-то Клени.
«Закрутило парня», – ответил майор…
Светлана сидела на своем месте. Вокруг нее не было ни души. Как будто всех сдуло ветром. Она лениво изучала программку спектакля, лежавшую у нее на коленях. Затем равнодушно взглянула на приближавшегося Ипатова. Он подошел и положил ей на программку номерок.
«Ох, господи, – вздохнула она. – До чего мне все это надоело».
Ипатов обернулся:
«Что надоело?»
«Мужские капризы», – ответила она.
«Капризы?» – удивленно переспросил он.
«А что, нет? – она посмотрела прямо в глаза и с повелительной ноткой в голосе произнесла, указав на кресло рядом: – Ну садись же!»
И он сел. Молчал насупившись. Отгулявшие щедро отпущенное им театром время зрители занимали свои места.
«Может, скажешь, что произошло?» – неожиданно спросила Светлана.
«Ничего особенного, – ответил он. – Обыкновенные мужские капризы».
«Не хочешь отвечать – не надо», – она пожала плечами и отвернулась.
Теперь они молчали оба. Мимо них прошли, задевая коленки, попахивая вином, майор и Кленя. Переговариваясь о чем-то своем, уселись. Майор хотел что-то спросить у Ипатова, но в последний момент раздумал. Погас свет в зале. Грянула уже знакомая музыка. Весело пошел занавес…
Ипатов смотрел на сцену отсутствующим взглядом, и все, что там делалось, казалось ему бессмысленным и глупым ералашем – герои зачем-то убегали, прибегали, а в промежутках между беготней долго и нудно выясняли отношения – личные и общественные. Он хотел только одного – чтобы быстрее окончился спектакль. И страшно жалел, что не ушел до начала акта, кляня себя за минутную слабость. Ведь то, что Светлана слукавила, не была с ним откровенна, он понял сразу. У нее не хватало духу признаться в главном – в том, что стыдилась его. Словом, никогда еще самолюбие Ипатова не страдало так, как сейчас…
А может быть, уйти, не дожидаясь конца? Не такая уж беда, если он в течение нескольких минут будет на виду у всего зала. Главное, она поймет, что он не из тех, кем можно помыкать. Пусть лучше стыдится своих малокультурных родителей с их смешными претензиями и потугами, чем его, Кости Ипатова, интеллигента в пятом или шестом поколении. Обида не убывала. Она клокотала в нем, как в закрытом сосуде, и, казалось, вот-вот должен был произойти неминуемый взрыв…
И вдруг он ощутил легкое, осторожное прикосновение к руке, лежавшей на подлокотнике. Он вздрогнул и резко повернулся в кресле. Светлана смотрела на него каким-то не своим, неподвижным взглядом. Ипатов в одно мгновение забыл об обиде. Сердце заколотилось так, что на некоторое время, как показалось Ипатову, заглушило музыку.
Светлана придвинулась к нему и тихо сказала:
«Не дуйся, хорошо?»
«Хорошо», – немедля согласился он.
И она ответила на это очаровательной мальчишеской улыбкой…
Легко сказать – отвлечься от сердечной боли, не думать о ней. Йогам это, может быть, и под силу. Но он не йог, и чем отчаяннее он пытался думать о постороннем, тем упрямее напоминало о себе сердце. Да и мог ли он думать о чем-нибудь постороннем здесь, на этой проклятой лестнице, где все, буквально все кровоточило, как старая, неожиданно открывшаяся рана. И даже эта ступенька, на которой он скорчился от боли, медленно прорастала воспоминаниями. Кажется, на ней, а может быть, чуть ниже или выше они сидели в тот вечер с Валькой Дутовым и попыхивали папиросами (сигареты тогда курили еще немногие). Разговор шел, наверно, о Светлане – о ком же еще? – и, надо думать, Валька по-прежнему отговаривал его волочиться за нею. Бедный, бедный Валька… Для него уже все позади – и радости, которые он не замечал при жизни, и беды, накатывавшие на него одна за другой. Но если о других неудачниках еще можно сказать: немилосердно швыряло, как щепку, бурливое житейское море, о нем этого не скажешь: он сам выбрал себе судьбу. Достаточно вспомнить хотя бы тот случай, когда он, к удивлению всех, вдруг ни с того ни с сего ушел со второго курса Университета. Добро бы учился плохо, имел многочисленные «хвосты». А то с первых же дней учебы он поражал всех – и преподавателей, и студентов – своими способностями. Он мог часами читать на память стихи давно забытых поэтов, о которых Ипатов и другие студенты-фронтовики и слыхом не слыхали: Анненского, Вячеслава Иванова, Цветаевой. У него было то, что пока отсутствовало у большинства ребят, – удивительное чувство слова. Казалось, путь в филологи определен ему самой судьбой. Но за месяц до сессии он неожиданно перестал ходить на занятия. Посланцев курса он встретил лежа на диване, в обнимку с каким-то шелудивым непородистым псом.
«Познакомьтесь!» – сказал Валька.
И пес каждому вежливо подал лапу.
«Он может делать стойку, подавать тапочки, считать до пяти, играть в футбол и хоккей, ухаживать за женщинами, сдавать экзамены, – перечислял достоинства своего четвероногого друга Валька. – А ведь у него нет ни высшего, ни среднего, ни даже начального образования…»
«Ты к чему это?» – насторожились гости.
«К тому, братцы, что мне все до чертиков надоело… Мы сильнее, чем прежде, грустим, постарели все боги земные, вселенная голосом плачет твоим, и приходят созданья иные одно за другим… Ребята, хотите выпить?»
И лучшие из лучших (комсорг, профорг и Ипатов, замещавший заболевшего старосту группы) надрались так, что начисто забыли, зачем пришли. По настоянию отца Валька поступил в Медицинский институт, но и там продержался чуть больше года. «Резать живых людей еще куда ни шло, – заявил он старым друзьям. – Но трупы?» Потом он, рассказывали, учился не то в Театральном, не то в Библиотечном. Но наверно, опять не кончил, ибо при встречах вел себя очень странно: где работает – не говорил, всячески темнил. С каждым годом он все больше опускался, и уже многие замечали, что он выглядел значительно старше своих лет. Однажды Ипатов встретил его на улице вдрабадан пьяного. Валька едва стоял на ногах, был жалок и беспомощен. Пришлось проводить его до самого дома. Жил он на девятом этаже в крохотной однокомнатной квартире. Оказалось, что месяц назад от него ушла вторая жена. На всем был налет страшного запустения: немытая посуда, толстый слой пыли, неприбранная постель и в каждом углу батарея пустых бутылок. Заплетающимся языком Валька возвестил: «Батя сказал, что я позорю его седины, что он не намерен поддерживать со мной никаких отношений. Он теперь сам по себе, а я сам по себе».
Было еще несколько мимолетных, случайных встреч – на улице, в прокуренных забегаловках, один раз в театре – играли какую-то плохонькую пьеску, зрители начали уходить уже с первого действия. Ипатову запомнилась грубо размалеванная девица, которая мертвой хваткой держала Вальку за рукав пахнущего химчисткой пиджака. Валька был трезв, чуть стеснялся Ипатова. О спектакле он, вопреки ожиданию, отозвался уважительно…
Ипатов лежал в больнице с воспалением легких, когда узнал о смерти Валькиного отца. Некролог об этом был напечатан всеми газетами. Первым делом Ипатов подумал о Вальке: как он там?
Встретились же они только через полгода. Валька стоял у крохотного магазина на Владимирской площади и пытливым взглядом провожал входивших туда мужчин. Увидев Ипатова, он одновременно смутился и обрадовался. Но желание выпить взяло верх, и он, подстрелив у бывшего приятеля трешку (остальные шестьдесят две копейки у него были зажаты в кулаке), побежал брать «полбанки». Распили они ее на квартире у какого-то художника, который жил у Пяти углов и держал двери открытыми для всех страждущих интеллигентов своего микрорайона. Валька первый заговорил об отце: «Батя за два года до смерти женился на своей аспирантке, ей двадцать шесть, а ему семьдесят три; но не подкачал старик, такого пацана сварганил!.. Тут, братцы, без обмана: вылитый батя!»…«Помнишь, Костя, сколько у нас картин было? Имена-то какие! Одно громче другого. Батя все боялся, что я их каким-нибудь жучкам спущу. Еще при жизни музеям передал. И правильно сделал: не я, так моя прекрасная леди, мачеха моя ненаглядная, профукала бы их. Я – на водку, она – на тряпки!»…«Все считают меня конченым человеком. А я возьму и брошу пить. Если бы вы знали, братцы, какая человечинка меня полюбила. Я вижу – не верите. Я сам не верю. Вот для нее – не для себя – и брошу!»
Но бросил ли Валька пить и как у него сложились дальше отношения с «человечинкой», Ипатов так и не удосужился узнать: два года занимался обменом квартир, сперва разъезжался, а потом съезжался с тещей.
И вдруг телефонный звонок одного старого приятеля по Университету:
«Валька – на Песочной. Говорят, обречен. Понимаешь, никто, ни одна сволочь его не навещает. Надо бы сходить, проведать».
Встретились на Финляндском вокзале, поехали.
Бывший однокурсник (тот самый комсорг, что накачался вместе с ними тогда у Вальки) заранее все разузнал: и когда приемные дни, и время, и что можно принести из съестного.
Валькина палата находилась где-то в конце коридора. Когда они вошли, их встретили незнакомые лица – бледные, худые, обреченные.
«Дутов здесь?» – спросил Ипатов у мужчины, равнодушно скользнувшего по нему отрешенным взглядом.
Тот молча кивнул на кровать у окна.
Там, накрывшись с головой одеялом, лежал человек.
Они бесшумно, почти на цыпочках, подошли к нему.
«Валя!» – тихо сказал Ипатов.
Одеяло слегка приоткрылось, и на них глянули Валькины глаза, но не те добрые и открытые, к которым они привыкли, а какие-то далекие и затравленные. Похоже, он не узнавал своих бывших однокашников. Потом в его зрачках что-то дрогнуло и чуть-чуть ожило. Придерживая одеяло рукой у рта, Валька повернулся к ним лицом и показал глазами на соседнюю кровать, хозяин которой только что вышел из палаты. Они сели на самый край.
«Год какой-то дурацкий, – бодрым тоном начал Ипатов. – То один болеет, то другой. Я сам провалялся месяц с сердечным спазмом». Сказал и пришел в замешательство: на него в упор, не мигая, смотрели все понимающие Валькины глаза.
«Тут мы тебе принесли», – потянулся он за сумкой с передачей.
Валька пробормотал под одеялом что-то невнятное.
«Не надо, говорит, – пояснил один из больных – паренек с забинтованной головой. – У него опухоль языка. Страсть какая большая. Даже изо рта вылезает. Вот и стесняется показывать. Послезавтра – операция…»
Все эти подробности о себе Валька выслушал с видом затравленного зверя. Посещение бывших друзей, судя по всему, не принесло ему ни малейшего утешения…
Они облегченно вздохнули, когда санитарка напомнила им, что их время вышло. Сказав на прощание какие-то пустые и неискренние слова, они заторопились к выходу. Уходили придавленные чужой непоправимой бедой, зная, что уже больше никогда не увидят этого человека.
Валька умер через три недели после операции. Тело его сожгли в городском крематории, а урну с прахом тайком, за немалую мзду, зарыли рядом с великолепным отцовским памятником. Почти под той же плитой. Так просто и естественно состоялось возвращение блудного сына…
Ипатов ухватился за перила, попробовал встать. Боль, которая было совсем отпустила, быстро возвращалась, подстегиваемая, видимо, непрошеными мыслями о Дутове. Вот и отвлекся. Да и кто может взять на себя смелость отделить главное от неглавного в своей жизни? Что сегодня кажется неважным, несущественным, завтра, возможно, станет самым главным и решающим. И – наоборот!
Он провожал ее домой на такси. Теперь он мог позволить себе такую роскошь. Они сели на заднее сиденье, и им навстречу устремились тусклые огни вечерней Садовой. Водитель торопился в парк и гнал машину прямо по трамвайным путям. Ипатова и Светлану то высоко подбрасывало, то швыряло друг к другу. Это было и весело, и приятно. Один раз она долго не могла выбраться из его невольных объятий. А затем у Майорова он нечаянно сбил с нее шапочку. Светлана давилась от смеха. Только они вошли во вкус, как машина свернула на Подьяческую и остановилась у дома с выступающим подъездом. Ипатов сунул шоферу, не глядя, горсть рублевок.
Возможно, они и вовсе не стояли на мостовой. Вышли из машины и сразу двинулись в подъезд. Но скорее всего, было еще короткое – оно помнится смутно, как во сне, – замешательство. Ведь простись она с ним на улице, он бы покорно поплелся домой. Надо думать, она просто взбежала по ступенькам в подъезд, и Ипатов молча последовал за ней.
А дальше он помнил все, вплоть до синей лампочки, по-блокадному освещающей крохотное пространство вокруг себя. И еще – как у них прямо из-под ног выскочила и скрылась где-то под лестницей кошка.
«Не люблю кошек», – брезгливо бросила Светлана.
«От них все зло, – шутливо заметил Ипатов. – От них и мужчин!»
«Вот как?» – глуховато сказала она.
Где-то высоко хлопнула дверь.
«Ну, я пошла», – проговорила Светлана и поднялась на одну ступеньку.
«Если я ее сегодня не поцелую, – лихорадочно думал Ипатов, – то буду шляпой, форменной шляпой».
Он положил руку на перила.
Светлана отступила на следующую ступеньку, но чего-то ждала, не уходила.
«Может быть, она тоже хочет этого, – Ипатова трясло мелкой дрожью, – а я веду себя как последний сопляк?»
«Ну, я пошла!» – повторила она и поднялась сразу на несколько ступенек.
«Смелей, смелей! – подстегивал он себя. – А вдруг оскорбится? Так ли это невозможно с ее-то гордыней? Тогда все, что с такими усилиями достигнуто, пойдет прахом!»
И тут он вспомнил, как просто и непринужденно они в первый раз поцеловались с Верой. Она была санитаркой в соседней роте автоматчиков. Однажды обстрел загнал их в один окоп. Мины ложились совсем рядом, порою в трех-пяти метрах. Осколки пролетали над самой головой. Ипатов и Вера сперва стояли, потом сели на землю. «Лейтенант, найдется покурить?» – вдруг спросила она. «Сейчас поглядим», – ответил он. Но кисет оказался пустым, и они с трудом наскребли по карманам на одну самокрутку. Вот и дымили ее поочередно. «А что теперь будем делать, лейтенант?» – загасив чинарик, спросила она. «Ждать, пока отстреляется», – рассудительно ответил он. «А может, поцелуемся?» – предложила она. «Давай!» – согласился он. И они поцеловались. И даже накрылись его плащ-палаткой, чтобы мины не отвлекали. Вот тогда-то Вера и призналась, что он давно ей нравится. За то время, пока они крутили свою недолгую – для него первую, а для нее последнюю – любовь, он не помнил в их отношениях каких-нибудь осложнений. Несмотря на разницу в культурных уровнях, они понимали друг друга с полуслова…
«…Кто-то обещал мне конспекты…»
«Что?» – вздрогнул Ипатов.
«Кто-то обещал дать переписать конспекты!» – вкрадчиво повторила Светлана.
«Понимаешь, какая штука, – Ипатов стал медленно подниматься по лестнице, – первые тетрадки у Вальки, он уже месяц назад как взял переписать и еще, кажется, не начинал… Я у него заберу… С конца какой смысл переписывать?»
Теперь их снова разделяли всего две ступеньки. «Сейчас или никогда», – у него перехватило дыхание. Он сделал еще шаг, но тут его сапог соскользнул с отполированного обувью многих поколений жильцов каменного ребра и звучно, как кастаньетой, щелкнул о ступеньку ниже.
Светлана прыснула и – в который раз! – сказала:
«Я пошла!» – и, не очень торопясь, двинулась вверх по лестнице. Еще можно было догнать ее, мужской решительностью сгладить впечатление от его неловкости. Но ноги Ипатова точно приросли к ступенькам. Момент был упущен. Она раза два обернулась и помахала рукой.
«До завтра!» – крикнул он в пролет.
«…тра…» – гулко отозвалось эхо.
Все выше и глуше постукивали ее каблучки. Через некоторое время они совсем исчезли в ночной тишине. На самом верху чуть слышно хлопнула дверь. Ипатов, перегнувшись через перила, смотрел вверх. Черной пустой глыбой нависал над ним лестничный пролет. И тут Ипатову впервые стало почему-то не по себе от этой опрокинутой глубины…
Он сбежал по ступенькам на самое дно пролета и, сокрушенно вздохнув, вышел на улицу.
Его не было дома почти двое суток. За все время он не удосужился ни позвонить (телефон находился у соседей этажом ниже, и они не отказывались в экстренных случаях позвать), ни забежать на минутку предупредить – при желании он мог найти такую возможность. Конечно, он знал, что родители будут беспокоиться; даже когда он просто приходил позднее обычного – или засиживался до последнего трамвая у кого-нибудь из приятелей, или ходил провожать после различных вечеров и вечеринок знакомых девчонок, ни мама, ни папа не ложились спать, ждали. Казалось бы, они еще с войны должны были привыкнуть к его отсутствию: четыре долгих военных года, то есть почти полторы тысячи дней, его не было с ними. И где он конкретно находился, они не знали и знать не могли. Естественно, предполагали самое худшее – каждую минуту могут убить, ранить, взять в плен. Но тем не менее все это непостижимо огромное число дней они провели без него. Без него начинали день и без него кончали. И так всю войну. А тут, смешно даже говорить, его не было с ними каких-нибудь неполных двое суток. Да исчезни он на целую неделю, на месяц, если уж на то пошло, им не следовало волноваться. Ведь ему не надо было ни идти в атаку, ни зарываться в мерзлую землю под артиллерийским или минометным обстрелом, ни пластаться на открытом поле под вой входящих в пике фашистских самолетов. Правда, и сейчас может свалиться на голову кирпич. Но стоит ли принимать в расчет подобный фортель судьбы? К тому же он не ребенок, не «Костик, иди – вымой руки», а уже давно взрослый человек. Скоро ему стукнет двадцать три. Позади целая жизнь, а тут…
Словом, возвращаясь домой, он тяготился некоторым (но не больше) чувством вины. Он знал, что предстоит неприятный разговор, и потому заранее готовил в свою защиту кое-какие аргументы. Но действительность превзошла все ожидания. Едва он переступил порог, как его встретила увесистая отцовская оплеуха. За всю жизнь отец всего три раза поднял на него руку. В детстве, когда Ипатов решил проверить на мамином пальто остроту золингенской бритвы. В юности, когда он подрисовал товарищу Сталину бородку. И вот сейчас. Правда, закатив сыну полновесную плюху, отец этим ограничился. Если не считать еще словечка «скотина!», которое он процедил сквозь свои три – один сверху, два снизу – уцелевших после ленинградской блокады зуба. Ипатов проглотил и то и другое молча. Лишь прикрылся рукой, опасаясь продолжения. Но в эту минуту на шее у него повисла мама. Тычась всюду мокрым от слез лицом, она тоже и упрекала его, и расспрашивала, где он пропадал, и рассказывала, какими кошмарными были для нее и отца эти два дня, и хотела знать, будет ли он есть. Но над всем этим стояла огромная, не передаваемая никакими словами радость, что с ним ничего не случилось, что он живой и невредимый.
Постепенно он узнал все подробности. Вчера родители начали беспокоиться о нем по-настоящему только с двух-трех часов ночи. Так поздно он еще никогда не задерживался. Сперва они стояли у окна и до рези в глазах высматривали сына среди редких ночных прохожих, а потом мама не выдержала и, накинув прямо на халатик старое пальто, сошла вниз. Вскоре к ней спустился отец. Но она его незамедлительно погнала наверх: а вдруг в их отсутствие Костя позвонит соседям и те никого не застанут дома? Ни за что не соглашалась мама и поменяться с отцом постами: его оставить внизу, а самой вернуться в квартиру. Она вся была как натянутая струна. И слух, и зрение напряглись до последнего предела. Она уже за много домов, за далекими поворотами слышала приближавшиеся шаги, без труда распознавала среди загадочных ночных звуков приглушенные голоса, чирканье спичек, тихое покашливание. И с замирающим сердцем ждала. И холодело внутри: опять не он!.. Не было ни одного прохожего, который бы прошел не замеченным ею. Она страшно замерзла, но самое большое, что она позволяла себе, это постоять несколько минут в холодном подъезде (в те годы их дом еще отапливался дровами). Не обошлось и без происшествий. Одиноко стоящая ночью на улице молодая женщина вызывала понятный интерес. С ней заговаривали, приставали. Смешно говорить, но в то время мама казалась Ипатову уже пожилой, еще не старухой, но все же. А было ей тогда всего сорок три. Это на шестнадцать лет меньше, чем ему сейчас. Теперь-то он понимает, как она была молода. И как хороша собой. Мужчины, как ему смутно припоминалось, просто обалдевали от ее стройной, почти девичьей фигурки. Но мама никогда не терялась: язычок у нее был подвешен хорошо, и отбрить кого-то ей не составляло труда. Первым в ту ночь испытал на себе это человек с каким-то музыкальным инструментом в футляре под мышкой – по-видимому, один из безвестных ленинградских лабухов. «Сударыня, вы одна, и я один. Почему бы нам не поскучать вместе?» – поинтересовался, покачиваясь не то от усталости, не то от выпитого вина, лабух. «А почему бы и нет? – лукаво отозвалась мама. – Становитесь рядом, будем скучать вместе». – «Если я сколько-нибудь разбираюсь в людях, – продолжал лабух, – вы кого-то ждете?» – «Жду!» – подтвердила мама. «Если не секрет – кого?» – «Внука!» – решительно подвела черту мама. У того, как она после рассказывала, челюсть так и отвисла. «И если вы когда-нибудь встретите человека с отвисшей челюстью – это он», – смеясь, договорила она. Впрочем, кое-что, возможно, мама и присочинила. Выдумщицей и фантазеркой она была отменной. Встреча с лабухом произошла, очевидно, в самом начале ожидания. Потом ей было уже не до шуток. На приставания она или отвечала молчанием, или пугала милиционером. И даже тянулась в карман за воображаемым свистком: «Вот как свистну сейчас постовому!» И кавалеры отваливали. Принимали, вероятно, за дворничиху. Да и вид у нее был соответствующий: драный шерстяной платок, старое, выношенное пальто, в котором она ходила в сарай за дровами. Однако думается, что все эти детали в одежде можно было разглядеть лишь под утро, когда начало светать. Отец тоже не спал всю ночь. Он часто сбегал вниз – его одолевало еще и беспокойство о маме.








