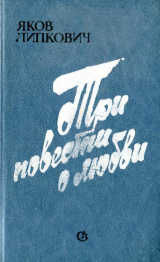
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Мы были еще в сенях, как откуда-то (то ли из чулана под лестницей на чердак, то ли из-за старых бочек, поставленных одна на другую) появилась растрепанная, в пыли и паутине хозяйка.
– Пане ликар и пани ликарка, – взволнованно спросила она, – вы Ганны не бачылы?
– Нет, – ответил я. – Таня, ты не видела ее?
– Какую Ганну?.. А, девочку эту… Нет, не видела…
– Куды вона подилася?.. Ох, знайду, намну вуха!
– Но может быть, она к соседям пошла? – сказал я.
– Ни, я усих оббигала… Ну, паразитка!
– Зря вы ее ругаете… Никуда она не денется. Придет.
– Ой, пане ликар, боюсь за нэи…
– Чего бояться? – удивленно спросил я.
– Один солдат, що у Бородулей живе, усэ дывыться на нэи, дывыться, дывыться…
– Ну и что? Может, она ему дочку напоминает? Или сестренку?
– Ни, вин нэ добре дывыться…
– Ах вот… ну, как вы можете такое подумать? – возмутился я.
– Ой, боюсь!..
– Тань, подожди. Я попробую поискать ее… Все-таки какой ни есть, а разведчик… В широком смысле этого слова…
– Поищи, дружочек… А я пойду почитаю, хорошо?
– Я скоро! Надо помочь, – продолжал я, – чтобы убедилась, что никто на ее чадо не посягает!
– Сколько девочке лет? – поинтересовалась Таня.
– Четырнадцать.
– Я бы дала все шестнадцать… Ну, ладно, если быстро не найдете, позовите меня. Будем искать вместе… Ни пуха, – сказала Таня и прикрыла за собой дверь в санчасть.
– Давайте так, – обратился я к хозяйке, – вы проверьте снова в хате каждый закуток, осмотрите погреб и чердак, а я возьму на себя сараи…
– Пане ликар запачкае соби чоботы, – пожалела она мои сапоги.
– Ничего, почищу, – ответил я и прямиком направился к скотному двору.
По дороге я обернулся и увидел в окне Таню. Помахал ей рукой. Она ответила мне одобрительной улыбкой.
Поиски я начал с коровника. Осторожно обходя лепешки, которые в изобилии раскидали кругом обе Зорьки – мать и дочь, я осмотрел все уголки этого довольно просторного, рассчитанного на несколько голов крупного рогатого скота помещения.
– Ганна! – задрав голову, крикнул я в сторону сеновала.
Но по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь неторопливым похрупыванием сена, неуклюжим переступанием коровьих ног и сладким причмокиванием теленка.
– Ганна! – позвал я еще раз и по приставной лесенке полез наверх.
Защекотало в носу от многолетней пыли, поднимавшейся с каждым моим движением. Я громко чихнул и принялся за планомерные поиски. Я уже не сомневался, что Ганны на сеновале нет – будь она здесь, она бы непременно отозвалась на мой чих непроизвольным смешком. И все-таки, пока я не облазил вдоль и поперек весь чердак, я не терял надежды. Одновременно в душе моей нарастала злость на этого чертенка, на розыск которого я вынужден был тратить драгоценные минуты, отпущенные судьбой на свидание с Таней. И в самом деле, какого лешего я связался с этими дурацкими поисками!
Но отступать было поздно, и я, чертыхаясь, перешел по грязи из первого хлева во второй, где меня дружным визгом встретили поросята. По-видимому, они решили, что я принес им корм. Если бы не перегородка, отделявшая их от меня, я бы, наверно, вынужден был спасаться бегством.
– Ганна! Слезай! – заорал я. – Хватит валять дурака!
Но девочки или здесь не было, или она решила отмолчаться: дескать, покричу, покричу и отстану. Если так, то она плохо знала меня.
По широкой лестнице я взобрался наверх, и передо мной, растерянным и обалдевшим, предстала чудовищная барахолка. Чего только не натаскали сюда припасливые хозяева. Чтобы пройти, я должен был откатить детскую коляску, с верхом нагруженную всевозможным домашним скарбом от самовара до ночной посудины с незабудками на эмали. Пробираясь к дальним затемненным уголкам чердака, где могла спрятаться Ганна, я с немалыми ухищрениями преодолевал одно препятствие за другим: широчайшую кровать, на которой неизвестно кто и когда спал, горку кресел, в которых неизвестно кто и когда посиживал, старинное трюмо, в которое неизвестно кто и когда гляделся. Ждали своего часа, чтобы послужить новым хозяевам, эмалированная ванна, круглая вешалка с загнутыми рожками, столик на кривых ножках. Если бы кто-нибудь надумал составить опись всего, что здесь находится, потребовалось бы немало времени. Конечно, при желании можно было набрать бесхозного имущества еще больше – сколько кругом стояло домов, навсегда покинутых их жильцами. Обезлюдели города, местечки, когда-то густо заселенные польским, еврейским, украинским населением. Заходи в любой дом, бери все, что душе угодно!
Так бы, наверно, поступил и Яков Лукич из «Поднятой целины», по которой я когда-то писал сочинение за десятый класс и, естественно, не хуже других разбирался в кулацкой психологии. Но в то же время я хорошо помнил, что сын (в данном случае дочь) за отца (или мать) не ответчик (не ответчица), и в нервном напряжении, спотыкаясь и бранясь на каждом шагу, продолжал искать Ганну. Я обшарил весь чердак и, перепачканный с головы до ног паутиной и прочей дрянью, спустился к поросятам, снова метнувшимся к перегородке.
Оставалась конюшня. Но если я и там не обнаружу Ганну, то на этом кончаю поиски. Мало ли куда она могла удрать? Село большое, в каждой хате у нее, наверно, есть подружки. Делать мне больше нечего, как искать ее!
Первое, что я встретил, когда вошел в конюшню, был теплый лошадиный взгляд. Из-под длинной челки на меня глядели умные карие глаза огромного немецкого тяжеловоза. Не трудно было догадаться, какими судьбами он оказался здесь. Сколько их, брошенных своими хозяевами во время нашего весеннего наступления, одичавших, истосковавшихся по человеческой заботе, бродило по полям, лесам и лугам на месте бывших сражений. Но пока наши трофейные команды только прикидывали, как лучше организовать сбор этих ни в чем не повинных, безотказных трудяг, расторопные крестьяне в день-два разобрали их.
Поначалу хозяин сильно опасался, что битюга отберут у него, – он понимал, что тот как-никак был трофейным военным имуществом Красной Армии и принадлежал только ей и никому больше. Но шли дни, недели, и никто не предъявлял права на Гнедка, как, не затрудняя себя выбором прозвища, впрямую, по масти назвали они коня.
Гнедко и в самом деле был спокойным, добродушным и премилым существом. Широкогрудый, коротконогий, с густыми щетками на ногах, с такой же густой гривой на большой тяжелой голове, он чуть ли не на второй день стал отзываться на свое новое имя. И все его недоброе прошлое, когда он послушно работал на рейх, навсегда исчезло вместе с немецкой речью, с нескончаемыми переходами по разбитым российским дорогам, с запахами тола и пороха, неотступно преследовавшими битюга все эти годы.
Кто может знать, как дальше сложится у него судьба, оставят ли здесь работать на единоличника или отправят в далекие края восстанавливать то, что разрушили его первые хозяева, но никогда, мне кажется, ему не было так хорошо, как сейчас. Чего стоила только одна привязанность к нему Ганны. Не было дня, чтобы не перепадало битюгу что-нибудь вкусненького из ее рук. Я не раз видел из своего окна, как девочка бегала сюда, держа миску с остатками пищи. И слышал ее ласковый голос: «Ах ты мий рыженький! Ах ты мий золотко!»
Не исключено, что именно здесь, по соседству со своим любимцем, спряталась она от матери. Я вспомнил себя в ее возрасте. Мне тоже часто хотелось, чтобы родители оставили меня в покое, и я удирал от них с ребятами: уходил в лес, на речку, прятался в одному мне известных укромных местечках, словом, как мог отстаивал свою независимость.
Уверенный, что на этот раз я наконец угадал, где затаилась Ганна, я, чтобы зря не тратить время на поиски, разыграл маленькую сценку:
– Ганна! А вот ты где!.. Ну давай слезай!.. Давай!.. Давай!.. Я же вижу тебя!.. Ну, долго я буду ждать?!. Считаю до трех… Раз!.. Два!.. Три!..
Словно деликатно сдерживая смех, тихо пофыркивал рядом битюг.
– Хорошо, я пошел за твоей мамой. Она тебе такую устроит выволочку… поверь… Она все село обегала, разыскивая тебя… Ну?
Но мое «ну» так и повисло в воздухе без ответа.
Я вышел во двор, но, не увидев в окне Таню, видимо, уже приступившую к чтению, повернул назад, в конюшню. Слишком много здесь было уголков, где могла бы отсидеться Ганна. Я давно заметил, что отношения у нее с родителями далеко не простые. Не раз слышал, как она огрызалась, сердито хлопала дверью, пробегала мимо с заплаканным лицом. Ничего нового я не видел и в сегодняшней истории. Больше того, я бы и не подумал заниматься поисками, если бы хозяйка не бросила тень на неизвестного мне разведчика. Разумеется, народ в нашем батальоне был разный: наряду с обыкновенными, нормальными ребятами встречались и такие, которым, как говорится, палец в рот не клади. Несколько человек когда-то до войны даже сидели по уголовным делам. Но среди разведчиков не было ни одного, кто бы решился обидеть девчонку. За два с половиной года существования разведбата лишь однажды приезжал следователь из штаба армии, но и тот был вынужден уехать с пустыми руками: жалоба на изнасилование не подтвердилась. Выяснилось, что, встретив первый же отпор, боец покорно ретировался. Это-то, по-видимому, и задело бабенку, рассчитывавшую на продолжение атаки и раззвонившую о плохом солдате по всему селу. Остальные же разведчики улаживали свои дела тихо-мирно, к обоюдному удовольствию, так что думать о ком-нибудь плохо не было никаких оснований…
Поэтому-то я и ринулся защищать доброе имя батальона, хотя, признаться, кроме высоких целей, мною двигало еще и беспокойство о девочке. Или почти девушке, как хотите. Я привык к ней, к ее тихим и вкрадчивым шагам в соседней комнате, к ее постоянной готовности услужить и помочь мне. И даже то, что она иногда подслушивала и подсматривала, в конечном счете больше забавляло, чем раздражало…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
На этот раз интуиция не подвела меня. Едва я поднялся на сеновал, как до моего слуха долетел близкий шорох. В отличие от нижних звуков, происхождение которых поддавалось быстрому и точному распознанию (несмотря на кажущуюся флегматичность, битюг проявлял живой интерес ко всему, что его окружало), верхний шорох таил в себе весьма подозрительную неопределенность.
– Ганна! – позвал я.
Меня окружала чердачная тишина.
Утопая в ворохах сена, я продолжал идти на шорох, хотя его уже давно не было.
Поднимаясь все выше и выше, я наконец добрался до верха и вдруг прямо в двух шагах увидел Ганну, наполовину зарывшуюся в сено. Ее ставшие огромными глаза внимательно следили за каждым моим движением.
– Ганна! Ты чего не отвечаешь? Я ору, ору, а ей хоть бы хны! А ну живо домой! Мама твоя все село обегала, уже не знает, что и думать!
– Поцилуйтэ мэнэ, – тихо сказала она.
– Что? – обалдело уставился я на нее.
– Ну… поцилуйтэ, – чуть не плачущим голосом повторила она.
Бог ты мой! Этого еще не хватало!
– Тебе еще рано целоваться с мужчинами, – назидательно произнес я.
– Я вже вэлыка, – тем же плачущим голосом сказала она.
– Какая ты большая? Тебе же всего четырнадцать лет. Когда мне было четырнадцать, я ни о чем, кроме уроков, не думал…
Господи, какую чушь я несу! И вру безбожно. Мне еще не было четырнадцати, когда я в первый раз в жизни обнимал и целовал во сне нашу соседку по коммунальной квартире продавщицу Олю и впервые испытал то, что сперва ошеломило меня, а потом наполнило душу предвкушением новых, еще более сильных наслаждений.
– Потом, ты знаешь, я женат, – продолжал я занудным голосом. – Представь себе, если бы твои родители целовались не друг с другом, а с чужими. Папа с другой женщиной, а мама с другим мужчиной.
– Вона нэдобра.
– Кто? – не понял я.
– Ваша жинка.
– Это интересно. Чем же она тебе не нравится? – спросил я, присев на корточки.
Ах ты, ревнивица!
– Подсмиються з вас.
Неужели подслушивала?
– Это у нас такая манера разговора, – принялся объяснять я. – Я подсмеиваюсь над ней, она надо мной. Нельзя же быть всегда серьезным и глубокомысленным, как ваш битюг? – Сидеть на корточках было неудобно, и я переменил позу: уселся рядом с Ганной. – И не надо, не надо, дружочек, осуждать людей, которых плохо знаешь…
– А чого вона до вас довго не ихала? – с вызовом спросила девочка.
И это заметила! Хотя только слепой мог не видеть, как я томился эти проклятые три недели, по нескольку раз в день бегал за околицу встречать проходившие машины, без конца выглядывал в окно.
– А не ехала она потому, что у нее было много работы. Каждого раненого надо перевязать, напоить, накормить, каждому сделать укол, дать порошки, – популярно объяснял я Танины обязанности. – Ты же помнишь, сколько мы возились только с одним раненым? А таких там раненых десятки, сотни. Вот и не могла раньше приехать.
– Пане ликар, а вона вам взаправду жинка?
Ну и проницательный же чертенок! Или родители обсуждали при ней неожиданное появление Тани? Можно не сомневаться, что глаз у них наметанный. Так что мне ничего не оставалось, как, преодолевая смущение, врать напропалую:
– Самая настоящая… У нас даже дочка есть. Полтора годика. Она сейчас находится в Казани, у родителей жены…
– А як ии звуть? – вдруг спросила Ганна.
– Кого? – не понял я.
– Та дочку вашу?
Бог ты мой, да она, кажется, проверяет меня?
– Светлана, – назвал я имя своей двоюродной сестры и, подкрепляя вранье, добавил: – Светленькая такая, смешная…
– Вы не кажить ий, – попросила Ганна.
– Кому? – опять не понял я.
– Жинци ваший… Про мэнэ…
– Хорошо, – пообещал я. – Ну… встаем?
Она кивнула головой и отвела взгляд в сторону. Я вскочил:
– Давай руку!
Ганна протянула руку. Ее крепкая горячая ладошка обожгла мою – прохладную. Я рывком поставил девочку на ноги.
– Пошли в хату!
Глубоко погружаясь в сено, мы двинулись к лесенке, которая вела вниз.
– Пан ликар, – шепотом сказала Ганна, остановившись. – Я никому не зкажу…
– Что никому не скажешь?
– Поцилуйтэ мэнэ, – опять тем же просительным тоном произнесла она.
– Что ты со мной делаешь? – пожаловался я. – Ну, хорошо. Только один раз.
Она закрыла глаза и подставила губы. Я наклонился и коснулся легким беглым поцелуем.
Ее круглое лицо мгновенно зарделось.
Господи, что я делаю?
– Все, – решительно сказал я. – Пошли!.. А то меня тоже хватятся.
Я торил дорогу в глубоком сене. Ганна шла следом, плотно сжав губы, не глядя на меня. Я слишком мало знал девчонок, чтобы до конца понять, что делалось в ее сердечке. Но если она поверила во все, что я ей нагородил (а мне думается, поверила), то у нее не было причин таить на меня обиду. Да и вообще, что могло быть между нами? Даже если я был бы один, без Тани, я бы не осмелился переступить крохотный порожек, что разделял нас. И не потому, что боялся последствий, – кто думает о них в такие моменты? А потому, что всем своим существом отвергал то, что осуждалось большинством людей. С детства мне внушалось, что можно делать, а чего нельзя. И я хорошо понимал: если хочешь остаться человеком, надо держать себя в узде. А то не успеешь оглянуться и превратишься в подонка…
Мы спустились по лестнице и прошли мимо битюга. Он дружелюбно покосился на нас, но своего тяжелого, устойчивого, неподвижного положения не переменил.
Двор нас встретил ярким весенним солнцем, заполошным кудахтаньем кур и радостными возгласами хозяйки. Нашлась наконец, слава Иисусу!..
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Я влетел в санчасть и увидел Таню и капитана Бахарева. Он стоял, закинув руку за голову, и Таня старательно обрабатывала у него под мышкой знакомый мне карбункул.
– А… доктор! – протянул замполит. – Видите, мы не зеваем…
– Нашлась девочка? – спросила Таня.
– Нашлась, – ответил я. – Спряталась в конюшне. Пришлось перерыть все три сарая, пока не нашел.
– А что это за девочка? – поинтересовался Бахарев.
– Хозяйская дочка. Поссорилась с родителями.
– Это хорошо, что помогли искать. Надо противопоставить бандеровской пропаганде реальный гуманизм нашей армии, – тут же сделал вывод из случившегося замполит.
– Ты весь в сене, – сказала мне Таня.
– Ах ты черт! – ругнулся я и вышел на крыльцо.
Там я тщательно почистил рукой китель и галифе.
Интересно, догадывается ли замполит о наших отношениях? Конечно, если он прочел мою записку, то сообразить насчет остального пара пустяков. Да и вряд ли мне удастся скрыть от кого бы то ни было два чудесных дня, которые пробудет у меня Таня. Кстати, откуда я взял этот срок – два дня? Смешно, но я впервые почему-то не решался спросить Таню, надолго ли она. Что-то удерживало меня. Ах да, когда мы топтались на свежепрополотых грядках, она сама сказала: «…до вечера». Но означало ли это, что останется до утра? Зная характер Тани, я бы не поручился. Говорить же о двух днях, о двух сутках, было более чем рискованно. Прервать наше свидание могла любая случайность, от неожиданного дежурства по части, вызванного необходимостью подменить другого офицера, до Таниного настроения, которое иногда портилось с поразительной быстротой. Увы, наша любовь несла в себе не только радость, но и разного рода огорчения. Больше всего Таня боялась, как она говорила, «попасться». Ее нисколько не прельщало вернуться домой с фронта в положении. Она хорошо знала, какие разговоры и сплетни ожидали ее в этом случае. Однажды она даже разыграла передо мной целую сценку, изображая злоязычных кумушек: «Неплохо повоевала девка, а?» – «Ишь ты, не зря, видать, ордена ей понавесили?» – «Так-то можно воевать, а, Пантелеевна?» А то еще песенку споют: «На позицию девушка, а с позиции…»
Она хохотала, но смех был горький.
И с насмешливым недоверием слушала, когда я говорил, что не оставлю ее, женюсь…
«Лучше не надо», – обычно отвечала она.
Но что «лучше не надо» – жениться или родить ребенка, она никогда не договаривала.
Когда я вернулся в хату, Таня уже заканчивала перевязку. По выражению лица замполита, довольному, умиротворенному, я понял, что он бы не возражал, чтобы Таня и впредь занималась его карбункулом.
– Золотые руки, – сказал он.
Будь на месте Тани кто-нибудь другой, я бы воспринял эти слова как замаскированный упрек в мой адрес. Что и говорить: ко мне на перевязку капитан шел, как на пытку. Он стоял, пока я обрабатывал карбункул, обливаясь холодным потом, чертыхаясь и постанывая. И дело было не в том, что я делал все хуже Тани, а просто на мою долю досталось еще молодое, не созревшее, отзывающееся на самое легкое прикосновение жгучей болью, «сучье вымя». Теперь же одна за другой стали отторгаться обильные гнойные пробки, и боль заметно поутихла. Конечно, капитан не мог не знать этого, и все же облегчение, которое он сейчас испытывал, он, мне кажется, в значительной мере относил за счет Таниного мастерства. Он буквально млел и таял, когда она дотрагивалась до него.
Не скажу, что это было мне приятно, но и беспокойства тоже не вызывало. Я знал, что мужчины такого типа, как Бахарев, с ранней лысиной и светлыми ресницами, с веснушками на руках, были не в ее вкусе. Как-то в шутливом тоне она призналась, что ей больше нравятся брюнеты. «Это не самый большой порок, не правда ли?» – сказала она. «Не самый, – охотно согласился я. – Тем более что среди брюнетов попадаются и неплохие ребята». – «Хвастун», – заявила она.
К сожалению, капитан этого не знал и не мог знать. Смущаясь, что нижняя рубаха у него была далеко не первой свежести, он отвернулся от нас и с неожиданным проворством натянул ее на себя. Так же быстро, превозмогая остаточную боль, надел он и китель. Однако, вместо того чтобы поблагодарить Таню и тут же уйти, он крепко пожал ей руку и… остался. Его внимание привлекли книги, валявшиеся в беспорядке на кровати. Я не заметил, чтобы он проявил особый интерес к Пушкину, Шевченко и Шеллеру-Михайлову. Прочел названия на переплетах и положил обратно. «Жития святых» он подержал в руках дольше. Посмотрел на меня, на Таню и, не увидев на наших лицах смущения, присоединил книгу к первым трем. Зато история Ивана Грозного вызвала у него сильное желание высказаться.
– Выдающаяся личность, – заметил он.
– Палач и садист, – мгновенно отреагировала Таня.
– Ну зачем так? – спокойно возразил он. – Многие ведущие историки считают, что крутые меры, к которым он прибегал, исторически оправданы. Нужно было преодолеть политическую разобщенность страны, дать ей сильную централизованную власть.
– А для этого сажать людей на кол и вспарывать животы? – в упор спросила Таня.
– Ничего не поделаешь, – развел руками капитан. – Таковы тогдашние нравы.
– А Гитлер?
– Что Гитлер?
– Он, думаете, далеко ушел, как личность, как человек, от Ивана Грозного?
– Я вам советую почитать товарища Сталина. У него на этот счет есть классическое определение. Немецкая армия, сказал он, это армия средневекового мракобесия, средневековой реакции. Чувствуете разницу?
– Естественно. Здесь средневековая реакция, там средневековый прогресс. Но и здесь, и там тысячами летят головы!
– Разговор, конечно, между нами, – многозначительно подчеркнул замполит, – но я бы вам не советовал к историческим явлениям подходить с позиций абстрактного гуманизма.
– То есть общечеловеческого, внеклассового, вы хотите сказать? – спросила Таня.
– Да, такова марксистская формулировка, – подтвердил Бахарев.
– А разве нет вечных ценностей, существующих вне идеологии? – настойчиво допытывалась Таня.
Я видел, что разговор принимал все более рискованный оборот, и украдкой делал знаки Тане, чтобы она прекратила эту полемику. Но остановить ее было уже невозможно. Я понял, что она высказывала не только свои мысли, но и мысли отца – историка, которые были ей дороги и от которых, мне кажется, она не отказалась бы даже под пытками Ивана Грозного.
– Это что-то новое, – удивленно заметил Бахарев. – Я бы с интересом послушал, что это за вечные ценности, существующие вне идеологии?
– Хорошо. Начинаю загибать пальцы. Жизнь человека как таковая – раз. Материнская любовь – два. Право человека на счастье – три. На свободу – четыре. На уважение – пять. Смотрите, пальцев не хватит. Просто любовь, наконец, – шесть…
Когда Таня произнесла о любви, я попробовал поймать ее взгляд, но она смотрела мимо меня на изготовившегося продолжать спор замполита.
– Всегда осуждались жестокость – семь, трусость – восемь, вероломство – девять, зависть – десять… У меня уже все пальцы кончились. Давайте ваши.
– Валяйте уж до кучи и христианские заповеди, – усмехнулся Бахарев.
– А что? Сколько существует человечество, всегда порицались убийство, воровство, клятвопреступление, прелюбодеяние и тому подобное, – устало добавила она.
– Ну вот, все эти ваши вечные ценности, – вдруг вскочил со стула замполит, – ни во что… слышите, ни во что не ставят гитлеровцы… наши классовые и идейные противники…
– Так же, как и Иван Грозный, – спокойно прокомментировала Таня.
– Да дался же вам этот Иван Грозный! – бросил Бахарев.
– Ведь танцевать мы начали от него? – заметила она.
– Так что вы этим хотите сказать?
– Что не вижу большой разницы между ним и Гитлером. Оба являются человеконенавистниками. Масштабы, правда, разные.
– Кстати, как вы относитесь к тому, что мы тоже убиваем? Я имею в виду – фашистов?
– Весьма положительно. Я сама убила двух фрицев. И убила бы, если бы это было мне под силу, в сто раз больше!
– Вот видите!
– Но я бы, не задумываясь, ухлопала и Ивана Грозного!
– И нанесли бы тем самым, – капитан даже поднял указательный палец, – колоссальнейший вред идее объединения и централизации России!
Я давно сидел как на иголках. А теперь, когда Бахарев подвел такую базу, спорить с ним мне показалось и вовсе небезопасно. Кто знает, какой вывод он сделает из этого острого разговора? Возьмет да и припишет Тане политическую близорукость, чуждые нашему обществу взгляды? Человек в нашем батальоне он был новый, воевал всего вторую операцию, и я, честно говоря, не составил о нем еще определенного мнения. Что-то в нем мне нравилось, а что-то и нет. И хотя я целиком и полностью был согласен с Таней, с ее меткими и убедительными ответами, и открыто любовался ею, такой умной, такой красивой, такой родной, я мучительно ломал голову над тем, как бы незаметно перевести разговор на другую, менее острую тему. Но никто из спорщиков не обращал внимания на мои робкие и неуверенные попытки заговорить о чем-нибудь ином. Так было и сейчас, когда я вдруг ни с того ни с сего принялся нахваливать нашего командующего.
– Да, талантливый полководец, – бросил мне замполит и продолжал, обращаясь к Тане: – Я вижу, вы опять не согласны?
– Нет, – подтвердила она. – Я вполне допускаю, что вместо Ивана Грозного мог быть другой деятель, более человечный и разумный. Человечные и разумные деятели были во все времена и во все эпохи…
– Так, если следовать вашей логике, – усмехнулся замполит, – не будь Гитлера, и немецкий фашизм в других руках мог изменить свой характер?
Таня сердито посмотрела на Бахарева. Сердце у меня екнуло. Я вдруг испугался, как бы в полемическом задоре Таня не брякнула что-нибудь лишнее.
Я только собрался броситься ей на выручку со спасительной цитатой о природе германского фашизма, как она сама неплохо постояла за себя.
– Вы, я вижу, товарищ гвардии капитан, – заявила она, – принимаете меня за абсолютную дурочку. Вы что хотели бы услышать от меня? Что Геринг лучше Гитлера, а Геббельс лучше Геринга? Но среди немцев, я уверена, есть немало деятелей, которым, так же как и нам, не терпится скорее покончить с фашизмом.
– Вот это – верная мысль, – опять поднял палец Бахарев. – Еще Сталин, товарищ Сталин, сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается…» – И вдруг неожиданно спросил Таню: – Вы член партии?
– Нет. Я еще комсомолка.
– Пора – как вы считаете? – подумать и о вступлении в партию?
– Мне уже предлагали.
– Ну и что же?
– Собираюсь с мыслями…
Ответила бы просто «Собираюсь…» А то – «…с мыслями…».
Но Бахарев, очевидно, этого не заметил и опять заговорил о своем карбункуле, который, как оказалось, не первый в его жизни. Раз в два-три года под мышкой, то справа, то слева, у него вырастало «сучье вымя».
Потом он вспомнил свою бывшую жену, которая тоже была медиком, судебно-медицинским экспертом, и сошлась с каким-то следователем из Москвы, когда Бахарев по заданию райкома партии поднимал слабые колхозы. Сейчас она работала чуть ли не в союзной прокуратуре и даже защитила кандидатскую диссертацию.
После того как разговор перешел с Ивана Грозного на обычные житейские темы, он потерял остроту и медленно и скучно угасал…








