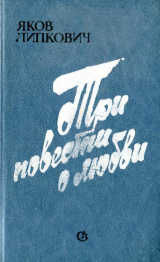
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Мы с Таней томились, но Бахарев, похоже, не собирался уходить. Ему было хорошо, интересно с нами. То есть не с нами, если быть точным, а с Таней, которая теперь на все его вопросы отвечала односложно – «да», «нет». Правда, отвечала с улыбкой – добродушно-уклончивой, сдержанно-учтивой, необидной.
Иногда мы с Таней украдкой жалобно переглядывались: долго ли он еще будет сидеть? Неужели до него не доходит, что является третьим лишним? Даже если он считает, что между нами ничего нет, должен же он наконец понять, что Таня приехала ко мне, а не к нему. Мало ли о чем нам хотелось бы поговорить наедине? Раз, по существующей версии, мы с ней старые фронтовые друзья, то у нас могут быть какие-то общие воспоминания, свои разговоры, свои тайны. Будь он трижды замполит, но и ему знать все не обязательно. Нет такой установки. Прежде всего, он должен поднимать боевой и моральный дух личного состава, заниматься идейно-воспитательной работой среди разведчиков. Даже спор Бахарева с Таней об Иване Грозном я принял как должное. В конце концов, это входило в его обязанности – наставлять тех, кто ошибается, на правильный путь.
А вот сидеть и травить баланду было, как говорится, уже из другой оперы. Просто ему хотелось, я понимал, пообщаться с красивой, умной девушкой – не частая возможность для батальонного замполита. Только при чем мы?
Я тяжело вздохнул и спросил Таню:
– Слушай, а не затопить ли нам печку?
Бахарев с удивлением посмотрел на меня: топить печку, когда уже отцвели яблони и окна распахнуты настежь? Затем он перевел вопрошающий взгляд на Таню, чтобы, надо думать, свериться впечатлениями от моего сумасбродного предложения.
Таня плутовато улыбнулась. Уж она-то знала, что я имел в виду.
Как-то поздней осенью у нас вот так же засиделся начбой. Размягченный Таниным очарованием, он принес откуда-то гитару и долго, очень долго пел старинные русские романсы. У него был приятный, с хрипотцой, голос. В другое время, возможно, мы бы слушали его и слушали. Но тогда мы не чаяли, как от него избавиться. До окончания Таниной увольнительной оставалось каких-нибудь жалких пять часов. И это без учета дороги – сорока или пятидесяти километров. Причем километров не простых (сел да поехал по накатанному шоссе на своей машине), а уводящих куда-то в непроглядную, тревожную фронтовую ночь, где на каждом шагу подстерегали опасности, где часами можно провести в ожидании попутки и в конечном счете, отчаявшись, пойти пешком, где, не успев оглянуться, рискуешь оказаться в руках немецких разведчиков, которые временами просачивались в наши тылы.
Так что нам было не до старинных романсов под гитару, и мы с Таней, вздыхая, тоскливо поглядывали на часы.
В хате было тепло, весело потрескивал в печурке хворост, который я время от времени подбрасывал в ненасытную топку.
И когда мы уже смирились с тем, что наше дело дрянь, меня вдруг озарила простая и гениальная мысль. Я встал и незаметно для начбоя задвинул печную заслонку. Вскоре вся хата наполнилась дымом. Нас одолел сильный кашель, обильно полились из глаз слезы. Первым не выдержал ничего не подозревавший начбой. Как только он, подхватив гитару с бантиком, скрылся за дверью, я выдвинул заслонку, и дым устремился в трубу. Мы с Таней покатывались со смеху. Потом я широко распахнул дверь и окончательно проветрил помещение. Так мы остались вдвоем…
Сейчас же это было невозможно: уже с месяц как кончили топить. В последний раз печку по нашей просьбе протопили вчера, когда настоятельно требовалось просушить многострадальные Славкины кальсоны.
И все же, несмотря на то что простые и гениальные мысли приходят чрезвычайно редко, я лихорадочно стал думать, как бы спровадить и Бахарева. К сожалению, время шло, а в голове было хоть шаром покати. Вот разве только разбить бутыль с нашатырным спиртом. Но она стояла у стены на столе, заставленная пузырьками, а капитан Бахарев не спускал с меня глаз, словно догадываясь, что я задумал какую-то каверзу.
И вдруг я взглянул в окно и увидел проходившего мимо Славку Нилина. По тому, как он шел, оглядываясь на хату, я видел, что он помнил о моем предупреждении и не собирался обременять нас своим посещением. Наверно, это стоило ему немалых усилий, потому что, как и всякий поэт, он жаждал все новых и новых слушателей. А Таня, он знал, любила стихи и однажды даже, внимательно и терпеливо выслушав одну из его поэм, отметила немало удачных строк.
Хотя в том, что я замыслил, был определенный риск, но у меня не было другого выхода: сейчас нас выручить мог только Славка. Возможно, сама судьба посылала нам его на помощь.
– Славка! – крикнул я в распахнутое окно. – Подожди минутку!.. Товарищ гвардии капитан, я сейчас… Отдам только Нилину порошки от головной боли!
Схватив со стола первый попавшийся пакетик (потом выяснилось, что это был салициловый натрий – от ревматизма), я выбежал из хаты.
Но Славка оказался проворнее меня. Очевидно, решив, что нам с Таней для полного счастья не хватает его стихов, он, не дожидаясь моего появления, в одно мгновение очутился на крыльце. Как ему это удалось, я совершенно не представлял. Хотя, наверно, все дело было в опыте и сноровке танкиста. Уметь пулей забираться в танк и пулей выскакивать из него!
Я давно не видел на Славкином лице такого откровенно разочарованного, кислого выражения, когда здесь же, на ступеньках, шепотом объяснил ему всю ситуацию и взмолился, чтобы он под каким-нибудь предлогом увел капитана Бахарева. Вместо вечера поэзии, который рисовался его воображению, ему предстояло ломать голову над тем, как бы создать мне условия для уединения с возлюбленной.
– Хорошо, попробую, – нехотя согласился Славка.
– Ты что ему скажешь? – опасливо спросил я.
– А это уж не твоя забота…
Мне стало не по себе, потому что я не знал, что выкинет мой лучший друг. Как и в каждом разведчике, в нем довольно сильна была авантюристическая жилка. Его могло занести так далеко, что потом неизвестно как выбраться. А мне положительно не хотелось, чтобы замполит догадался о нашем сговоре, затаил в душе обиду на меня. В конце концов, я ничего от него, кроме хорошего, не видел. Ну, не понимает человек, что был третьим лишним, так не казнить же его за это?
– Не дрейфь! – бросил мне Славка и первым вошел в санчасть.
Капитан Бахарев в это время уже расписывал Тане, как на занятиях по историческому материализму он забыл назвать одну из главных задач диктатуры пролетариата, хотя знал все назубок. Ночью разбуди – ответил бы. А тут прямо как отшибло. Вспомнил только когда преподаватель, полковой комиссар, поставил вот такую двойку! Капитан даже развел руками, показывая, какую ему вкатили двойку…
Славка не перебивал, дал Бахареву договорить.
Таня выжидательно переводила взгляд с меня на Нилина. Она догадывалась, что роль дымящей печки на этот раз предназначалась моему другу.
Когда замполит кончил, Славка вдруг возвестил каким-то не своим, радостно-смущенным голосом:
– Товарищ гвардии капитан, а я вас всюду ищу…
– Что, что-нибудь случилось? – встрепенулся тот.
– У меня к вам большая личная просьба, – уперся в него затуманенным взглядом Славка.
– Я слушаю вас… если… – Бахарев посмотрел на нас с Таней.
– Мне хотелось бы поговорить с вами наедине, – отрезал Славка.
– Ну что ж, – помедлив, проговорил замполит, – пойдемте!
Он встал и сказал Тане:
– Я надеюсь, что мы еще встретимся…
– Я тоже, – лукаво улыбнулась Таня.
– Гора с горой не сходятся, а человек с человеком сходятся, – подытожил замполит и вышел вслед за Славкой из хаты…
– Наконец-то! – облегченно вздохнул я.
Но Таня почему-то никак не отреагировала на мой радостный возглас, промолчала. Лишь вытянула занемевшие в одном положении ноги. И посмотрела на меня вопросительным усталым взглядом…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Дождавшись, когда замполит и Славка покинут двор, я взял Танины руки, лежавшие у нее на коленях, и прижал их к своему пылавшему лицу.
– Что, дружочек? – спросила Таня.
Вместо ответа я поцеловал сперва одну ее ладошку, потом другую. Они, как всегда, были шершавые и теплые. И от них восхитительно пахло травой, которую она недавно выпалывала.
Я нежился в ее ладошках, не отпуская их.
Но краем уха я раздраженно прислушивался к звукам, доносившимся с хозяйской половины. Там кто-то все время ходил, бубнил, гремел посудой. То и дело по комнате пробегала Ганна и громко хлопала дверью. Этот бесенок, похоже, никак не хотел примириться с тем, что его отвергли. Выпороть бы ее за эти штуки.
– Знаешь, что меня занимает?
– Что, дружочек?
– Чего Славка ему там заливает?
– Завтра узнаешь… Наберись терпения…
Завтра? Значит, увольнение у нее до завтра и впереди у нас целая, целая ночь…
– Слушай, давай устроим праздничный ужин! – предложил я.
– Праздничный? Из чего? – улыбнулась она, открывая свои прелестные неровные зубы. – Насколько мне известно, у вас на ужин сегодня пшенка.
– К черту пшенку! – воскликнул я. – Мы организуем что-нибудь получше!
Я решительными шагами направился на хозяйскую половину. На ходу обернулся, ответил на недоуменный взгляд Тани:
– Ты что, не заработала у них на жареную картошку? Прополола почти весь огород!
– Ты думаешь? – неуверенно спросила она.
– А чего тут думать? Хозяйка сама как-то предлагала…
Я постучал и вошел к хозяевам. Увидев меня, Ганна вскочила и выбежала, сердито хлопнув дверью. Хозяйка осуждающе посмотрела ей вслед, но ничего не сказала. Да, если так будет продолжаться, придется подыскать новое жилье. Узнав, что пан ликар и пани ликарша не прочь поужинать жареной картошкой, хозяйка захлопотала, засуетилась. На мои слова, что мы и сами можем поджарить, она только замахала руками.
– Ну что? – спросила Таня, когда я вернулся.
– Полный порядок. Сейчас поджарит.
– Знаешь, я пойду ей помогу? – Таня вопросительно посмотрела на меня и поднялась со стула.
– Я говорил ей, что можем сами, но она и слушать не хочет. Да чего там – несколько картофелин поджарить…
– Забавно, – улыбнулась она. – Мой отец тоже вместо «картошка» говорил «картофель»…
– Постой, а как правильнее?
– Картоха! – хмыкнув, объявила она.
– Картопля, – подхватил я.
– Бараболя…
– Бульба…
– Земняки…
– А это по-каковски? – спросил я.
– По-таковски, – смеясь, ответила она. – Теперь твоя очередь.
– Нет, ты сперва ответь, на каком это языке?
– Пожалуйста, на польском.
– Честное пионерское?
– Честное пионерское… Ну и дотошный же вы товарищ, товарищ Литвин!
– Не дотошнее тебя… Шутка ли сказать, самого Ивана Грозного вывела на чистую воду.
– Ну, его еще Карамзин вывел на чистую воду.
– Это тот, который написал «Бедную Лизу»? – не лучшим образом придуриваясь, спросил я.
– Да, тот, дружочек… Надо было мне пойти помочь ей хотя бы почистить картошку, – Таня все еще испытывала неловкость перед хозяйкой.
– Справится сама, – категорическим тоном заявил я. – Подумаешь, почистить с десяток картофелин…
– А! – махнула рукой Таня, соглашаясь со мной. И вдруг насмешливо спросила: – А ты картошку когда-нибудь чистил?
– Конечно. Помогал маме.
– И тебе не попадало?
– За что?
– Что много срезаешь?
– Нет, я старался.
– А мне попадало. У меня не хватало терпения. Я вечно куда-то спешила. То на речку с ребятами, то в лес. Наверно, мне лучше было бы родиться мальчишкой…
– Я бы этого не сказал, – заметил я, открыто любуясь Таней, ее строгой, неназойливой красотой.
– Не смотри так, – она мотнула головой, как бы стряхивая мой взгляд. И добавила, улыбнувшись: – Сглазишь.
Несмотря на шутливый тон, с каким это было сказано, я сразу насторожился. Недоуменно пожал плечами:
– До сих пор же я тебя не сглазил?
Таня скользнула по моему лицу каким-то странным, мне даже показалось, вопросительно-жалостливым взглядом и ничего не сказала. Она явно что-то скрывала от меня, не договаривала. Спросить бы прямо, что с ней? Но ответит ли? Когда днем при встрече я попытался узнать, почему она так долго не ехала и не писала, Таня ловко перевела разговор на другое. Переведет, я уверен, и сейчас. Я слишком хорошо ее знаю, чтобы заблуждаться на сей счет. Нет, я не думаю, что в наших отношениях что-нибудь круто переменилось: в этом случае она бы вообще не приехала и тем более не осталась бы на ночь. Здесь было что-то другое, давно и упрямо скрываемое от меня. Возможно, какие-нибудь неприятности по службе, о которых ей не хотелось говорить. Повысилась смертность в отделении, поругалась с начальством, получила взыскание, обошли наградой? Да мало ли какие могли быть причины! Честно говоря, я надеюсь, что она сама скажет все… только потом… после того, как нас по обыкновению захлестнет благодарность друг к другу. Но сейчас лучше промолчать…
– Ты о чем, дружочек, задумался? – Таня легонько дотронулась до моей руки.
– О картошке, о чем же еще?
– Что бы мы делали, если бы не картошка? – вздохнула она.
И опять в ее словах мне послышался вызов, этакое легкое подталкивание к ссоре, которая ей зачем-то была нужна – только зачем?
Я подошел к окну и проводил взглядом какого-то старика, пробиравшегося между лужами.
– Кто там? Новые гости? – спросила Таня.
– К счастью, нет… Я думаю, пора завешивать окна. Смотри, как стемнело…
– Тебе помочь?
– Не надо… С этим я справлюсь сам. – Я зацепил за гвозди плащ-палатку и опустил ее на подоконник. – Видишь, раз – и все!
– Талант! – шутливо прокомментировала она.
– А то нет? – Я направился ко второму окну. – Приготовь лучше лампу. Она под столом. А спички в тумбочке, на верхней полке.
Пока Таня доставала гильзу и спички, я завесил остальные два окна. Сразу в комнате стало темно. Было слышно, как Таня тщетно пытается зажечь немецкие бумажные спички с хилыми серными головками.
– Что за дрянь! – не выдержала она.
– Дай я…
– Подожди, – ответила она и продолжала упрямо крошить головки.
– Учти, это последние, – предупредил я.
– На, – в голосе Тани все еще звучали сердитые нотки.
Я взял плоский коробок. В нем оставалось всего три мятые спички. Я оторвал одну из них, осторожным и быстрым движением высек огонь. Слабое пламя зацепилось за бумажный столбик и весело побежало по нему.
– Я уже приспособился, – объяснил я.
Фитиль в самое время перехватил догорающий огонек и, разгораясь, осветил нас с Таней. У нас были чертовски напряженные лица. Словно от того, загорится ли лампа, зависела наша судьба.
Мы встретились взглядами и одновременно понимающе улыбнулись.
– Теперь я знаю, – произнесла Таня, – никто лучше тебя не завешивает окна, никто лучше тебя не зажигает спички…
Нет, все-таки чем я досадил ей, что она никак не может оставить меня в покое? И тут я почувствовал, что улыбку давно стерло с моего лица и я стою, ничем не защищенный перед ее насмешливо-сочувственным взглядом.
Я заставил себя улыбнуться и продолжать непринужденным тоном:
– И никто лучше меня не умеет выслушивать твои бесконечные подначки…
– Да, наверно, – согласилась она. – Но ты, дружочек, можешь не обращать на них внимания…
Вот как, не обращать внимания? Всего только! Как будто мы чужие люди и меня не может, не должно волновать, что она думает и говорит обо мне… Да и ей, выходит, все равно, что я думаю о ней?
На языке у меня вертелись резкие слова, но я сдержался и произнес упавшим голосом:
– Легко сказать…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Вот уже добрых четверть часа, как по всей хате разносился умопомрачительный запах жареной картошки.
Таня вздохнула:
– Хорошо бы, она подала прямо на сковородке. Я люблю прямо со сковородки…
– Я скажу ей.
– Скажи.
Я пошел на кухню. У раскаленной плиты, закатав по локоть рукава, возилась хозяйка. Она разрумянилась ничуть не меньше, чем картошка.
– Та вже кинчаю, пане ликар, – сообщила она, переворачивая улежавшиеся румяные ломтики. – Хиба ще посолыты?
Она наколола на кончик ножа несколько ломтиков и подала мне. Я попробовал: картошка божественно похрустывала на зубах. Дальше жарить – только портить.
– Готова, – сказал я.
– А може, добавыты соли?
– Нет, в самый раз. Спасибо.
– Пане ликар, идить до жинки. Я зараз подам.
– Не надо, я сам… Не надо, не надо. Мы будем есть прямо со сковородки. Дайте какую-нибудь тряпку… Спасибо!
Я подхватил тряпками огромную деревенскую сковородку и понес к себе. За мной с чугунной подставкой следовала хозяйка.
Я открыл локтем дверь и вошел с высоко поднятой сковородкой:
– Пани докторша, вас приветствует пища богов!
– Ой, как много! – воскликнула Таня.
Хозяйка быстро поставила на край стола подставку и, широко улыбаясь, удалилась.
– Спасибо! – крикнул я ей вдогонку.
– И от меня спасибо! – подхватила Таня. – Давай сервировать стул!
Она накрыла стул куском марли, там же поместила подставку.
– Ставь!
Я опустил сковородку.
– А стул придвинем к кровати! – продолжала распоряжаться Таня. – Теперь, кажется, все?
– Где твоя ложка? – спросил я, вынимая свою из полевой сумки.
Она села на кровать и сказала:
– А тебе не кажется кощунством есть жареную картошку ложками?
– Меня больше волнует другой вопрос, – ответил я и достал из-под кровати флакон: – Вот этот.
– Спирт?
– Чистейший… Не пугайся, мы его сильно разбавим. До крепости законных наркомовских ста граммов.
– Мне чуть-чуть…
– Столько или больше?
– Спасибо, хватит…
– Послушай, надо бы где-то хлеба раздобыть. Я сбегаю к поварам?
– Подожди, я где-то видела кусок хлеба. Правда, очень черствый.
– Где?
– По-моему, в тумбочке, – Таня встала и пошла проверять.
– А!.. Вспомнил! Славка не доел. Рука никак не поднималась выбросить. Все-таки полгода ленинградской блокады… Да, этот! – подтвердил я, когда Таня вынула из тумбочки пересохшую корявую горбушку. – Я принесу воды.
– И вилки! – напомнила Таня.
Хозяйка словно ждала моего возвращения. Поигрывая всепонимающей, всепрощающей улыбкой, она достала из комода две серебряные, с монограммами, вилки, наполнила графин прозрачной колодезной водой из эмалированного ведра и тщательно протерла вышитым полотенцем два высоких фужера.
И тут в комнату как-то боком вошла Ганна. Не глядя на меня, она схватила метлу и принялась подметать и без того чистый пол. Мела она порывисто и сердито, точно выговаривалась без слов – одними взмахами метлы.
Когда я вернулся к Тане, Ганна еще долго и шумно возилась у общей двери.
– Знаешь, а эта девочка в тебя влюблена, – тихо сказала Таня. – Она ревнует тебя ко мне.
– Хоть переезжай на другую квартиру, – проворчал я, разбавляя спирт водой.
– А… ты уже в курсе…
– Так я же не слепой, – пожал я плечами и сел рядом с Таней на кровати: – Ну, давай выпьем!
– Давай.
– За что?
– За твое счастье, Гриша!
– Почему только за мое? – удивился я.
– А ты – пей за мое.
– За тебя, Таня!
– За тебя, дружочек!
Мы выпили. Таня замахала рукой и вся сморщилась. Я же не повел и бровью. Во всяком случае, так мне казалось.
– Чудо, – сказала Таня, распробовав после первых секунд водочно-спиртового ожога жареную картошку.
Я был полностью с ней согласен. Такой фантастической вкуснятины, к тому же по-домашнему обильной и сытной, я не ел года три, еще с довоенных, маминых времен.
– Когда кончится война, если останусь жив, буду каждый день есть жареную картошку, – помечтал я.
– Ты останешься жив, – сказала Таня.
– А ты откуда знаешь?
– Знаю…
– Налить еще?
– Налей…
– За что? – поднял я фужер.
– За наш сегодняшний день, – аккуратно чокнулась Таня.
И опять мы выпили, как в первый раз, – она с отвращением, я даже не поморщившись. Меня смутил ее тост. С одной стороны, он открыто и волнующе обещал желанную близость, а с другой стороны – я чувствовал – скрывал в себе второй смысл, пока еще не распознанный и не разгаданный мною. Но в том, что он был, я не сомневался…
Мы снова нажали на картошку, и она стала довольно быстро убывать.
– Ну и обжора я! – сказала Таня.
– Куда тебе до меня! – самокритично заметил я. – Я давно опередил тебя по всем показателям – вилкозахвату и вилкооборачиваемости…
– Тебе и положено, милый. Ты мужчина.
– Мне по традиции положено больше заниматься этим, – я потянулся за флаконом.
– Знаешь, а мы с тобой здорово… здорово окосеем, – весело смирившись со своей участью, предупредила Таня.
– Тогда отставить! – сказал я и отправил флакон под кровать.
– Туда ее… с глаз долой! – одобрила Таня.
– Бог ты мой, ты и вправду окосела…
– Нет… Чуть-чуть…
– Ешь! – я придвинул к ней сковородку. – Где твоя вилка?
– Вот, – показала она. – Смотри, какая изящная монограмма. Две… нет, три перевитые буквы… Б… Т… Э… Эва Бандровска-Турска…
– Кто, кто?
– Эва Бандровска-Турска… Тебе, ленинградцу, стыдно не знать это имя…
– Я не знаю еще сотни миллионов имен… Целых два миллиарда имен!
– Это известная польская певица. Одна – и ты заруби это на своем длинном носу – из лучших в мире.
– Бедный мой нос. Чего только я не должен зарубить на нем, – вздохнул я и обнял Таню. Она не противилась. – Ты думаешь, что это ее вилки?
– Не знаю. Может быть, это вилки английской королевы…
– Или какого-нибудь зажиточного местечкового еврея…
– Или русского белоэмигранта…
– Или…
– Или…
– Или…








