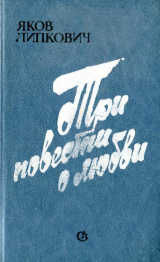
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
А проснулся уже больной. Он с трудом оторвался от горячей подушки и тут же тяжело опустил голову: она вся была налита густой свинцовой болью. Ипатов почувствовал, что от него нестерпимо пышет жаром. Он откинул одеяло и ощутил, как раздулись и набухли пудовой тяжестью кулаки…
Ни отца, ни матери уже не было дома: как всегда, неслышно ушли на работу. В результате он остался один на один со своей болезнью.
До войны Ипатов болел часто: по два-три раза в год. Боже, чем только он не переболел в детстве! Даже подозревали туберкулез. Всякий раз, когда у него долго держалась температура и родители начинали метаться в поисках хороших врачей и хороших лекарств, вся прочая жизнь в доме приостанавливалась. Встревоженные лица отца и мамы настраивали довоенного Ипатова на особый праздничный лад, и он все дни болезни чувствовал себя именинником. Ему даже нравилось болеть. Его отпаивали виноградным соком, кормили курятиной, ублажали гоголем-моголем, пичкали такими деликатесами, о которых взрослые и не могли мечтать.
С годами, однако, он испытывал все большую неловкость перед родителями от такого открытого предпочтения и наконец стал решительно отказываться от всех этих деликатесов. Но болеть, увы, продолжал.
С войной, как ни странно, прошли нескончаемые болезни Ипатова. То есть он по-прежнему простужался и, случалось, температурил, но ни он сам, ни тем более его товарищи не придавали этому значения. Лечили по-суворовски: стакан водки и, если позволяла обстановка, часок-другой отлежаться в тепле. Так что все свои недомогания Ипатов научился переносить на ногах, и ничего – остался жив…
Возвращение к мирной жизни, по какой-то странной и непонятной закономерности, сопровождалось, говоря языком медиков, понижением общей сопротивляемости организма. За полтора года после демобилизации Ипатов перевыполнил план по гриппу и ангине на сто пять и пять десятых процента (иронический подсчет мамы). Проходя медицинскую комиссию, которая должна была решить, можно ли ему по состоянию здоровья учиться в Университете, он порядком трухнул, когда старичок-терапевт вдруг обнаружил у него в груди какие-то подозрительные хрипы. Ипатова тут же направили на рентген. Там его долго мурыжили, но снимки почему-то оказались неудачными: то ли их засветили, то ли сама пленка была бракованной. Чтобы лишний раз не гонять Ипатова, который молодцевато выгибал грудь колесом и подхалимски улыбался, врач, прослушав его еще раз, записал в карточку: остаточные явления левостороннего плеврита. Вот они-то, эти остаточные, по-видимому, время от времени и давали себя знать. Иногда в самый неподходящий момент. Как сейчас, например. После такого радостного и счастливого примирения…
Что Светлана подумает, не увидев его в Университете? Поначалу удивится, а потом, ясное дело, встревожится. Решит, что с ним что-нибудь случилось. Надо как-то сообщить ей. Как ни туго соображала тяжелая, разламывающаяся на части голова, но выход нашелся быстро: попросить маму позвонить Вальке, а тот уже передаст Светлане…
Ипатов встал, пошатываясь добрался до аптечки, взял градусник, поставил. Еще не успел дойти до постели, а ртутный столбик уже взлетел до тридцати девяти. Остальное – до сорока – он добрал лежа.
Такой высокой температуры у себя он не помнил с детства. Были бы дома родители, они бы моментально бросились вызывать врача. Но самому спускаться вниз к соседям, звонить куда-то в поликлинику, отвечать на бесхитростно-участливые вопросы нижней бабушки, изнывающей от любопытства, не столько неохота, сколько нет сил. Да и ничего с ним не случится, если врач придет не сегодня, а завтра. А может быть, он еще до завтра поправится? Нет, ему сейчас никак нельзя болеть!
Нельзя? А кто его спрашивает? Честно говоря, давно он не чувствовал себя так скверно. Только сбросил одеяло, спасаясь от жары, и уже снова знобит. Чтобы хоть немного согреться, он укрылся с головой, но и это не помогло. Чаю бы горяченького…
Нет ничего хуже, когда ты один, больной, дома. Даже чаю подать некому. Придется самому. Не ждать же, когда родители вернутся с работы.
Накинув на плечи одеяло, Ипатов потащился на кухню. Пока разжег вечно барахливший примус, весь покрылся испариной. Как ни тщательно заклеила мама окно, из него нещадно дуло. Холодом тянуло также с пола, от стен, из двери, выходившей на черную лестницу. Прямо под их квартиркой, под легким межэтажным перекрытием, проходила широченная арка во двор. Да и сам дом служил уже не одному поколению россиян…
Вскипел чайник. Ипатов налил в большую отцовскую чашку кипяток, кинул туда щепотку грузинского чая, насыпал целых три чайных ложки сахарного песку. Горячий чай обжигал губы и, чуть остыв во рту, славно прогревал грудь, растекался теплом по всем телу. Ипатов чувствовал, как с каждым глотком у него прибывают силы. И неожиданно захотелось есть. Он отрезал кусок черного хлеба и, посыпав его тонким слоем сахарной пудры, которую мама берегла для стряпни, быстро умял весь. «Еще, что ли, съесть?» Но только он снова потянулся за хлебом, как до его слуха откуда-то с пола долетела слабая и тихая возня. Похоже было, что кто-то где-то отчаянно скребется. Ипатов заглянул под стол. В одной из двух пустых трехлитровых банок, приготовленных мамой для сдачи, метался мышонок. Забраться туда ему, видно, не составляло труда, но вот выбраться… Мышонок иногда вставал на задние лапки и скреб передними по стеклу. Высоко над ним зияло, обещая желанную свободу, широкое отверстие в большой мышиный мир.
Ипатов поднял с полу банку. Мышонок тяжело дышал. Серые шелковистые бока у него так и ходили. Поблескивали крохотные темные бусинки глаз.
«Ну что будем делать, браток? – спросил Ипатов. – А ну, давай ноги в руки!»
Он приоткрыл дверь на темную лестничную площадку и перевернул банку. Считанные мгновения потребовались мышонку, чтобы нырнуть в какую-то щель.
Поправив на плечах все время сползающее одеяло, Ипатов побрел к себе. Его сильно пошатывало, и он с трудом, пересиливая слабость и головокружение, добрался до постели…
Голова по-прежнему раскалывалась на части. Ипатов сжал ее руками и вдруг с ужасом ощутил под ними отчетливо, рельефно выступающие очертания черепа. Своего черепа. Его охватила тоскливая жуть. Он живо представил себе, что пройдет какое-то время, и именно этот череп, пустой, оголенный, до отказа или не до отказа, это уже не имело значения, заполнится безучастной могильной землей. А может быть, что тоже не исключено, по нему станут изучать анатомию студенты медицинских вузов? Кость такая-то, кость такая-то, кость такая-то. И, не брезгуя, не задумываясь о человеке, которому когда-то принадлежал череп, будут относиться к нему как к обыкновенному наглядному пособию и никак иначе. А тому, кто захочет, разрешат еще взять на дом. С просьбой вернуть после сдачи экзаменов: как-никак собственность института, инвентарный номер такой-то. Один вернет, а другой… Вдруг найдется какой-нибудь жизнерадостный умелец, какой-нибудь сукин сын, который решит поместить внутрь электрическую лампочку и сделать оригинальный ночник? И будет он, Ипатов, невидяще смотреть своими освещенными глазницами на чужую интимную жизнь… чужие объятия… чужие поцелуи…
Что за дикие, бредовые мысли?! Ипатов отнял руки от головы, и кошмар сразу отпустил его. И все те страхи, которые только что прошли перед ним в неумолимой зловещей последовательности, теперь повернулись к нему своей забавной, анекдотической стороной. Да и что еще, кроме удивленной, торжествующей улыбки молодости, могли вызвать у него похождения разнесчастного черепа? Особенно превращение того в наимоднейший светильник? Если бы не боль, тисками сжимавшая лоб и виски, Ипатов бы от души расхохотался. А так лишь хмыкнул и решил при встрече рассказать о черепе Светлане. Пусть тоже посмеется…
Какой у нее легкий, чистый, переливчатый смех! И это при странном глуховатом, не очень выразительном голосе. Словно перед тобой два человека: один разговаривает, другой смеется. Но уже вскоре Ипатов перестал воспринимать голос и смех как бы исходящими из разных уст. Его чуткое ухо уловило и мягкие, нежные переходы между ними. И именно они, эти слабые, воздушные мостки, доставляли ему наибольшую радость от заглядывания в чужую душу.
Удивительно, они уже знакомы около месяца, а он до сих пор не знает, что она за человек. Дело даже не в ее характере, который ему более или менее ясен. Черты его лежат на поверхности. А вот понять бы, что там у нее в самой-самой середке, какие там водятся черти… Папа говорит: для того чтобы постичь женщину, надо по меньшей мере прочесть всего Достоевского и Толстого. И это говорит папа, которому достался в жены сущий ангел – мама с ее редкостным – светлым и благородным – характером! Значит, и у мамы есть какие-то тайны от отца? А ведь они прожили вместе – только подумать! – четверть века!.. Вот и у него со Светланой… Он уже прожужжал ей все уши о своей любви, а она, как он ни добивался, еще ни разу не сказала, что любит его. Или что он хотя бы нравится. Стало быть, несмотря на поцелуи и т. д., что-то удерживает ее? Но что? Или ей, чрезмерно избалованной мужским вниманием, трудно, почти невозможно произнести эти слова? Неужели она считает, что они способны унизить ее в его глазах, чем-то умалить?
А вдруг у нее это не любовь, а легкий ответный интерес, вызванный его неотступным ухаживанием? Занятное, во всяком случае нескучное, если учесть, что он немало позабавил Светлану своими выходками, времяпрепровождение? А может быть, чувство вины за родителей, которое мучило ее целую неделю и в конце концов подбило на новый, ни к чему не обязывающий жест? Правда, жест рискованный… если потерять голову. Но Светлане это, по-видимому, не угрожает. Она всегда начеку…
«Так и надо с нашим братом», – самокритично подытожил Ипатов. Но, подумав так, он тут же устыдился этой мысли, и не столько мысли, сколько ее выражения, – до того от нее несло, чего там несло – разило пошлостью. Как будто его отношения со Светланой укладывались в обычные рамки немудреного любовного поединка – кто кого обыграет. Нет, избавь его, боже, и от таких побед, и от таких поражений.
Конечно, он может говорить только за себя. Но и этого достаточно, чтобы относиться к своему чувству с особым и трепетным уважением. Он любит. Какие еще нужны слова в подкрепление сказанного? Он любит, и все тут!
Он-то любит, а она? Опять двадцать пять! Ну сколько можно толочь воду в ступе? Сколько можно?
Чтобы отвлечься от мыслей, все более сползающих на печальный лад, и заодно скоротать время до прихода родителей, Ипатов достал с полки «Хлеб» Алексея Толстого (подарок бабушки на день рождения) и начал его читать с пятнадцатой страницы – на ней он прервал чтение примерно с месяц назад, когда ему, можно сказать, стало не до книг. Но отяжелевшая чугунная голова с трудом воспринимала текст. Кое-как он осилил вторую главу. Вскоре глаза у него начали слипаться, и он незаметно для себя уснул…
В самом деле, кто бы мог подумать, что Станислав Иванович воевал, и воевал, кажется, неплохо. Орден Красной Звезды и две медали «За отвагу», которыми он был награжден, говорили сами за себя. Как и Ипатов, войну он начал с небольшим опозданием, в сорок втором, и кончил где-то под Веной. Особенно не укладывалось в голове, что он был морским пехотинцем, командиром отделения разведки. Понимая, что неприязненные отношения, которые установились у него с соседями по палате, побуждают брать под сомнение, под иронический обстрел каждое его слово, Станислав Иванович на днях показал им свои старые фронтовые фотографии. Действительно, одним из молодых, широко улыбающихся, задорных парней в распахнутых бушлатах и тельняшках, бесшабашно, по-флотски, увешанных оружием, был он. И хотя эти его оба облика – тогдашний и теперешний – довольно сильно разнились, даже Алеша, пользовавшийся любым поводом, чтобы позлить Станислава Ивановича, не решился оспаривать сходства. Ипатову же, которого почти никогда не покидало неизменно-приподнятое, братское чувство ко всем, без исключения, бывшим фронтовикам, потребовалось совсем немного усилий, чтобы взглянуть на этого обрюзгшего, малоподвижного, неприятного человека уже другими – добрыми – глазами. И вслед за ним помягчели, подобрели к «четвертому лишнему», каким им всегда виделся Станислав Иванович, и Алеша с Александром Семеновичем. А тот, почувствовав эту перемену, вдруг, как никогда, разоткровенничался…
Начал он с обычных фронтовых воспоминаний о том, как ходил в разведку, брал «языков». А потом неожиданно признался, что летом сорок четвертого года собственноручно («Вот этими руками!») повесил троих гитлеровцев, принимавших участие в массовых расстрелах советских людей. Конечно, вздернули тех за дело и по приговору суда, и все-таки смотреть на эти морщинистые, старческие руки, которые кого-то повесили, было жутковато.
– Как, повесили? – первым недоуменно переспросил Алеша, родившийся спустя пятнадцать лет после окончания войны.
– А как вешают, – усмешливо ответил Станислав Иванович. – Накинул на шею петлю, выбил из-под ног табуретку, и давай танцуй!
– Ай да дед! – Алеша даже подскочил на кровати. – А не было страшно?
– Это, парень, тогда страшно, когда тебя вешают.
– Не знаю, не испытал!
– Один был старший лейтенант, по-ихнему обер-лейтенант, обер-штурмфюрер, другой не то фельдфебель, не то старший унтер-офицер, я уже запамятовал, чернявый такой, а третий – молоденький совсем, ефрейтор, этот дольше всех танцевал!
– Вы что, добровольно или вам приказали? – осторожно осведомился Александр Семенович.
Ипатов приподнялся на локте. Его тоже интересовало, что побудило морского пехотинца решиться на такое не солдатское дело. Только ли святая ненависть к фашистским палачам или еще что-то?
– Сам взялся. Ходили, спрашивали, кто возьмется. Я и согласился. Кому-то надо было…
– Я бы не смог! – снова подскочил на кровати Алеша – Бр-р-р!
– Все чистенькими быть хотят… А они двадцать миллионов убили!
«Оперирует общими цифрами позднего времени, – отметил про себя Ипатов. – Значит, личных счетов у него к немцам не было. Кроме тех, что у всех…»
– Станислав Иванович, я хочу спросить вас, а что вы чувствовали при этом? – продолжал допытываться Александр Семенович.
– Что?.. Что тремя гадами меньше стало. Была бы моя власть, я бы их всех перевешал!
– Кого всех? – не понял Александр Семенович.
– Немчуру проклятую…
– Зря вы… Даже в то время немцы разные были… Вон, Константин Сергеевич тоже воевал. Он знает.
– Добренькие стали…
– Нет, я бы не смог! – все еще копался в своей душе Алеша. – А что? Дал бы хорошенькую очередь или задушил бы своими руками. А вот вешать… не в моем характере…
– Много ты понимаешь, парень. Человек на все способен. И ты тоже…
– Чего? – Алеша изобразил на лице крайнее удивление.
Станислав Иванович счел за благо для себя промолчать.
«Поразительно широкий диапазон ненависти у этого старика – от немцев до писателей, – горько подумал Ипатов. – Откуда в нем столько злости?»
В эту ночь ему приснилась мама. Он давно ждал этого сна. Из окна его палаты хорошо была видна клиника нервных болезней, в которой она умерла. Сквозь обильную, пышную зелень на больничном дворе проглядывал знакомый пандус…
Большая мамина комната во сне была вся заставлена мебелью. «Ты что, забыл, что я переезжаю?» – спросила мама, увидев на его лице недоумение. И тут он вспомнил, что она и вправду собиралась куда-то переезжать, во сне он даже знал куда, но они, кажется, больше об этом не говорили. Потом она как будто покормила его. Да, точно покормила. Что-то приносила в сковородке. А потом сказала, улыбаясь заговорщически: «А теперь погреемся у печки». И, заведя руки назад, прижалась спиной к круглой печке. Ипатов встал рядом, достал из кармана пачку сигарет. И вдруг услышал веселый мамин голос: «Костик, дай папироску, я хочу подымить». Так и сказала «подымить». Но Ипатов решил, что маме курить ни к чему, и не дал. Между тем она ласково-мечтательно улыбалась и продолжала просить. И была она в эту минуту такой красивой, такой красивой, ну прямо как на своей лучшей девичьей фотокарточке, даже еще красивее. Ипатов глядел на маму и открыто любовался ею…
И ныне изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня…
Их лечащий врач, похмыкивая, сказал заведующему отделением: «У меня в палате два интеллигента, и оба температурят!» Это слышал своими ушами Алеша. Ипатов и Александр Семенович, у которых уже второй день держалась субфебрильная температура, едва не подавились манной кашей…
Как с утра привязалась к Ипатову эта незатейливая песенка: «…я в тележке сижу, безнадежно влюбленный. Выйди из ворот и взгляни на меня…» – так до сих пор он напевает ее. Это же надо, до чего прилипчивая. «Мой осел мимо сел…» Не попробовать ли вышибить клин клином? «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня…». Но он даже не добрался до второго куплета, как вернулся и снова зазвенел своими бубенцами осел…
Утром была врачиха и заявила, что никаких оснований для беспокойства нет. Обычная простуда, которую она лично переносит на ногах. Жалобы же Ипатова на вчерашнюю высокую температуру и вчерашнее скверное самочувствие она выслушала с плохо скрываемым недоверием. И ее понять можно: за ночь он основательно пропотел и к приходу врача выглядел как огурчик.
Но вчера он лежал пластом. Найдя его в таком состоянии, мама сразу развила бурную деятельность: натянула ему на ноги шерстяные носки, напоила горячим чаем с малиной, накинула поверх одеяла свое старое пальто. Несколько раз за ночь прибегала, проверяла, не раскрылся ли. Сама сменила мокрое белье. Одного только она не сумела сделать – дозвониться до Вальки. То есть она звонила, но у Дутовых никого не было дома. Даже нянька куда-то утопала. Мама обещала позвонить рано утром с работы. Надо полагать, что телефонный звонок застанет Вальку еще в постели: вставал он поздно, хорошо, если приходил на вторую лекцию.
Так что Светлана сегодня будет оповещена, что он немного простыл и не сегодня-завтра предстанет пред ее светлы очи…
Ипатов провел тыльной стороной руки по щеке, уже основательно заросшей щетиной. Побриться, что ли? Но из двух зол – оставаться ли еще день-два небритым или вылезать из теплой постели, идти на промерзшую кухню, греть воду, а затем, морщась от боли, кровянить физиономию тупым лезвием – он выбрал наименьшее. В конце концов, ничего страшного не случится, если он два дня побудет страшилищем. А может, завести усы? Так, ради хохмы? Как у отца? И тут он представил, как весело будет посмеиваться над ними мама: «Ну что поделывают мои усачи?» Ах да, отец уже без усов. Он сбрил их вчера после того, как какой-то пьяный дурак принял его за товарища Сталина. Произошло это на Литейном, у букинистического магазина. Пьяный долго шел за отцом следом и громко говорил в спину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, наш любимый вождь и учитель… живите долго-долго на счастье советских людей и всего прогрессивного человечества… с вашим именем мы побеждали, побеждаем и будем побеждать… вы наш символ… вы наше знамя… вы наша радость…» На них в недоумении оглядывались многочисленные прохожие. Трое даже увязались за ними. У Кирочной отец вскочил в первый попавшийся трамвай и, как потом точно сформулировала мама, скрылся в неизвестном направлении. Последние слова, которые он слышал, были: «Товарищ Сталин, куда вы?» В тот же вечер отец состриг усы, под широкими крыльями которых скрывался его впалый, беззубый, блокадный рот. Бедный папа, он сразу постарел на несколько лет. Зато исчезло даже отдаленное сходство с великим вождем и учителем. Впрочем, на себя отец теперь тоже стал мало похож. Увидев его без усов, Ипатов и мама так и ахнули.
Словом, не будем преувеличивать. Сам Ипатов и не думал всерьез об усах. Плохо это или хорошо, но он привык к своему лицу, и оно его пока устраивало. Устраивало, видимо, и Светлану…
«Хорошая моя… славная моя… милая моя…» – умилялся он, вспоминая о последней их встрече. Любовь и нежность переполняли его, требовали хоть какого-то выхода. Он помнил все, даже самые малые подробности этого долгого фантастического дня, прожитого как во сне. Десятки раз возвращался неостывшей памятью к одним и тем же словам, поцелуям, прикосновениям. Он слышал ее голос, странно меняющийся в темноте. Видел ее глаза, украдкой изучавшие его лицо. Чувствовал сквозь платье тепло ее гибкого, податливого тела. Ощущения были настолько волнующе-свежи, что временами ему не хватало воздуха, сердце готово было выпрыгнуть из груди. И ведь это только начало! Новые встречи обещали новые радости, новые открытия, новые наслаждения. Впереди у них, судя по тому, как развивались их отношения, целая жизнь! И скоро, очень скоро он скажет ей эти нешуточные, серьезные слова: «Выходи за меня замуж». Или не так торжественно, попроще: «Слушай, а что, если мы поженимся?» О том же, как они будут жить после регистрации, он старался не думать. Всему свое время. Слишком много чего им придется решать, больно задевавшего как его, так и Светлану. Прежде всего он гнал прочь мысли о ее родителях, с которыми, он предвидел, ему никогда не найти общего языка. Зато он нисколько не сомневался, что его родители понравятся Светлане. Особенно мама. В отношении отца он не был так уверен. Всегда сдержанный, немногословный, отец когда был чем-то или кем-то недоволен, мог довести до слез одними ироническими ухмылками. Но при желании мог быть и обаятельным. Для этого ему не требовалось никаких усилий: он прошел хорошую школу домашнего воспитания, знал, как и бабушка, несколько языков, много читал и, когда был помоложе, очень нравился женщинам. Мама даже слегка ревновала.
Как Ипатов ни избегал мыслей о неприятном, они все равно неожиданно подкрадывались и появлялись в самые неподходящие моменты, когда он прямо-таки, как кот, нежился в этих воспоминаниях. И тогда он раздраженно тряс головой и, избавившись таким простым способом от ее родителей, снова погружался в нирвану.
А с другой стороны, вряд ли можно было назвать это состояние нирваной. Чем больше он думал о Светлане, тем сильнее его охватывало нетерпение, желание ее видеть. И видеть сегодня, а не завтра, не послезавтра, когда он, по прикидке мамы, окончательно поправится. А если взять и последовать примеру врачихи, которая переносит такие болезни на ногах? Через час, через час с лишним он будет в Университете. Как раз перед последней лекцией. Сколько сейчас? На ходиках – без пяти двенадцать! Если учесть, что они ежедневно убегают на десять минут, то времени более чем достаточно. Вперед!
Ипатов рывком опустил ноги на пол, потянулся за одеждой, и вдруг перед его глазами все поплыло. Он ухватился за кровать и так сидел, пока не прошло это состояние. Но осталась противная слабость в руках и ногах. Ипатов попробовал натянуть брюки, и тут силы окончательно покинули его. В одно мгновение взмокла нижняя рубаха, по телу побежали холодные струйки пота. Нет, сейчас ему и думать нечего о походе в Университет: придется отложить его до лучших времен.
Он снова залез под одеяло, стал медленно согреваться. И все-таки тепла не хватало. Ипатов выпростал из-под одеяла руку и натянул на голову и плечи мамино пальто. Пригревшись, быстро уснул…
Проснулся Ипатов от звонка в дверь. В первый момент он пытался понять, был ли звонок в действительности или приснился? Вот и гадай: то ли был, то ли не был. Прошла добрая минута или две, прежде чем снова тихо и нерешительно звякнул звонок…
Кто бы это? Врач уже был…
«Сейчас!» – громко крикнул в сторону двери Ипатов.
Он быстро кое-как оделся, зашлепал в прихожую. За дверью терпеливо ждали.
Спрашивать, кто там, было не в его правилах, и он молча, щелкнув дореволюционной задвижкой, распахнул дверь.
На лестничной площадке стояла и смущенно улыбалась Светлана.
«Ты?» – в равной степени удивленно, растерянно и радостно воскликнул Ипатов.
И тут как обухом оглушила мысль: сейчас она увидит все их убожество… старые обои… колченогие стулья… Я даже постель не прибрал… а там латаные-перелатаные простыни и наволочки… драное одеяло, из которого то там, то здесь торчат клочья ваты…
«Можно?» – спросила она, все так же стеснительно улыбаясь.
«Еще спрашиваешь… Заходи!»
Он чувствовал, как пылало его лицо. И не знал, от чего больше: от стыда за убожество или от радости, что пришла. Пока он помогал Светлане снимать шубку и меховую шапочку, она рассказывала:
«Валька сказал, что ты заболел… Адрес твой мне дали в деканате… Валька просил передать тебе привет…»
Светлана говорила, точно оправдываясь за неожиданный приход.
«Мы собрались идти с Валькой, – продолжала она, поправляя прическу, – но у него, как всегда, семь пятниц на неделе. Объявилось какое-то неотложное дело. Он сказал, что обязательно навестит. Не сегодня, так завтра… Куда идти?»
«Сюда, – потерянным голосом сказал он. – Только у нас страшный беспорядок… На днях будем делать ремонт, потому спим где придется, едим что попало, – отчаянно врал он. – Нет, сюда, – направил он ее в свой закуток. – Подожди! – И, опередив Светлану, быстро накинул на постель покрывало. – Прошу в наше фамильное кресло. Нет, правда, ему двести лет. В нем посиживал еще мой прапрадедушка. Восемнадцатый век…»
Она опустилась в кресло и тотчас же принялась искать удобное положение: сидеть там можно было, только подложив под себя что-нибудь мягкое, но Ипатов в своем замешательстве упустил это из виду. Правда, спохватился он быстро. Сбегал в соседнюю комнату, принес бабушкину думку.
«Для амортизации», – шутливо заметил он.
Устроившись поудобнее, Светлана прямо на глазах отбросила остатки смущения.
«Докладывайте, товарищ гвардии старший лейтенант, – сказала она. – Что это вас угораздило болеть?»
Ее серые глаза смотрели обеспокоенно и внимательно. Неужели это удивительно нежное, с чуть проступающим румянцем, безупречно прекрасное лицо он не раз покрывал жадными поцелуями? Да и разве только лицо? Руки, шею, колени…
Он дурел от воспоминаний. Что-то ответил ей, но что – тут же забыл.
Он наклонился, поцеловал ее колено.
«Ты не боишься, что заразишь меня гриппом?» – спросила она каким-то стесненным голосом.
«Через колено?»
«Ты думаешь, мы на этом остановимся?» – продолжала она тем же отдалившимся голосом.
Он потянул ее за руки. Поначалу Светлана вроде бы не сопротивлялась. Но по мере того, как расстояние между ними сокращалось, возрастало и противодействие, словно она действительно боялась заразиться.
«Пусти, – сказала она. – Платье порвешь!»
Это было все то же серое шерстяное платье, которое ей здорово шло и которое она последнее время постоянно носила. Оно и в самом деле натянулось так, что, казалось, вот-вот где-нибудь затрещит.
Он не торопился ее отпускать.
«Рукам больно!» – привела она еще одну уважительную причину.
Он слегка расслабил пальцы.
«Где у вас тут зеркало?» – вдруг спросила она.
«Зеркало? – удивленно повторил он и насторожился, заметив в ее прелестных серых глазах прятавшуюся усмешку. – Зачем оно тебе?»
«Чтобы ты мог посмотреть на себя. Борода, как у Шмидта… Прямо кактус!»
«Небритый? – Ипатов отпустил обе ее руки и схватился за свое лицо. – Бог ты мой, сапожная щетка!»
Светлана воспользовалась моментом и отодвинулась в глубь кресла.
«Я сейчас поброюсь, так говорил мой старшина!» – возвестил Ипатов. Но только встал, как у него опять поплыло все перед глазами. Некоторое время он стоял, держась за спинку кровати. Продолжалось это какие-то мгновения, Светлана даже не обратила внимания. Она решила, наверно, что он о чем-то задумался. Во всяком случае, он бы не хотел, чтобы она заметила… Когда наконец голова перестала кружиться, Ипатов подошел к этажерке и достал фотоальбомы. Подал Светлане:
«Полистай, пока я приведу рожу в порядок!» В таком темпе он еще никогда не брился, даже на фронте. И, на удивление себе, ни разу не порезался. Когда он вернулся, она с сосредоточенным видом рассматривала фронтовой фотоальбом.
«Это кто?» – спросила она, показывая на майора Столярова. Фотоснимок был сделан уже после войны, когда майор Столяров поступал в военную академию. Фотограф каким-то образом сумел выявить в незнакомом ему офицере главное: ум и благородство. Ипатов любил эту фотокарточку, дорожил ею.
«Мой большой друг. Начальник разведки нашей бригады», – ответил он.
«Хорошее лицо», – сказала она.
«Да?» – обрадовался он.
«Он погиб?»
«Нет, живехонек! Правда, глядя на него, не скажешь, что он восемь раз был ранен и два раза из них – тяжело? На Одере нас накрыло одним снарядом».
«Я и не знала, что ты был ранен! Ты никогда не говорил мне…» – заметила она.
«Два раза… Вот, – он задрал рукав и продемонстрировал широкий шрам от запястья до локтя. – И вот… – но вовремя спохватился: – Можешь поверить мне на слово. Осколок прошел по касательной, выдрал кусок мяса на брюхе…»
«Покажи!» – вдруг потребовала она.
«Ну зачем?.. Не надо, – смутился он. Живот бы он еще мог немного оголить: рубцы находились в вполне пристойном месте, чуть правее пупа. Но показывать несвежую, застиранную нижнюю рубаху он не хотел ни под каким видом. – Ей-богу, смотреть на все это удовольствие ниже среднего…»
«Как хочешь», – сказала она и снова углубилась в альбом.
Фотографий было довольно много. Особенно часто он с ребятами снимался во время формировок и сразу после войны. Увековечивали себя на фоне достопримечательностей и пейзажей Европы. За их спинами угадывались освобожденные Польша, Германия, Чехословакия, Австрия. Это была его Европа, в отличие от ее Европы – тихой, провинциальной, сугубо послевоенной Скандинавии.
«Человек побрился, стал как новенький, а кое-кто этого не замечает», – напомнил Ипатов о себе.
«Замечаю, – сказала Светлана и продолжала листать фотоальбом. – А это кто?»
На этот раз ее внимание привлекло мальчишеское, с характерными кавказскими чертами лицо Бальяна.
Ипатов ответил.
«А ты знаешь, что адмирал Исаков тоже армянин?» – вдруг сообщила она.
«Ну и что? – пожал он плечами. – Микоян армянин, Баграмян армянин, Тевосян армянин…»
«Но у него русская фамилия?» – удивилась она реакции Ипатова.
«У меня тоже русская фамилия», – заметил он.
«Но ты же русский?»
«На три четверти».
«У тебя мама…»
«Ты хочешь сказать, еврейка? Да, наполовину…»
«Ну это не имеет значения. Все равно русский!»
«Как для кого? Если бы я угодил к немцам в плен, они бы не стали высчитывать. Кокнули бы за милую душу!»
«А ты мог попасть в плен?»
«Сколько угодно!»
«Бедняжка, – она быстрым движением погладила его руку, заброшенную на подлокотник кресла. – Холодные руки».
«Зато сердце горячее», – ответил он, подчеркивая интонацией банальность фразы.








