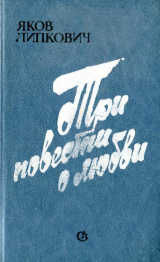
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц)
Но едва зазвенели первые трамваи, прошел, подбирая еще сладко позевывающих рабочих, автобус, заискрил на повороте дугой неуклюжий троллейбус – мама вновь обрела надежду: мог же Костя загулять до утра и на первом же транспорте поехать домой? Теперь основное внимание она обращала на трамвайную, автобусную и троллейбусную остановки. Но среди выходивших Кости не было ни вначале, когда сходило всего по два-три человека, ни потом, когда переполненный вагон или машина освобождались чуть ли не на половину. Было около восьми, когда она вся в слезах, раздираемая самыми худшими предчувствиями, вернулась к отцу. Тот уже собирался на работу. Стоял у крошечного зеркальца и с ожесточением, далеко оттопырив локоть, брился. Лицо его было в многочисленных порезах. Бумажки, которые он свирепо прикладывал, мгновенно пропитывались кровью. «Может быть, нам отпроситься с работы?» – плача спросила мама. Отец тяжело молчал. В издательство, в котором он работал заведующим производством, вчера нагрянула какая-то московская комиссия, и его присутствие было совершенно необходимо. Поговаривали, что их собираются слить с другим издательством, а это не предвещало ничего хорошего ни для него, ни для большинства коллектива. С мамой началась истерика. Она кричала, что ей плевать на папино издательство, которое все равно выпускает одну макулатуру, и если ему какие-то проверяющие идиоты дороже родного сына, то она хоть завтра готова с ним развестись. Отец ушел, громко хлопнув дверью. Мама тотчас же опомнилась. Спустилась к соседям и от них позвонила к себе на завод, где работала заведующей архивом. Девочки – ее верные помощницы – заохали и заахали, узнав, в чем дело. Затем трубку взяла ее непосредственная начальница. «Конечно, конечно», – разрешила она маме не приходить сегодня на работу. Первым делом мама помчалась в Университет, здраво рассудив, что Костя мог прямо с гулянки или еще откуда-нибудь пожаловать на занятия. Да и вряд ли имело смысл начинать поиски, не поговорив с его однокашниками: возможно, они были в курсе. Но так как никого из них она еще не знала, то сперва зашла в деканат. Секретарь факультета – полная и доброжелательная женщина – остановила в коридоре какую-то первокурсницу и послала ее узнать. Вскоре та вернулась и сказала, что Ипатова на лекции нет: не то заболел, не то уехал. Другая подвернувшаяся студентка заявила, что не видела его со вчерашнего дня. Мама с трудом сдержалась, чтобы не зареветь в присутствии находившихся в деканате профессоров и преподавателей.
(А в это время, напомним, Ипатов возлежал на Валькином диване и размышлял, как быть с сегодняшними занятиями. Когда же он все-таки заявился в Университет, обе студентки не придали этому никакого значения: ну, проспал, ну, пришел поздно, – дело обычное. О мамином визите в деканат он узнал лишь от родителей в тот памятный вечер.)
А пока убитая и раздавленная мрачными предчувствиями мама брела по набережной. Теперь оставалось обзвонить все больницы, отделения милиции и те места, куда свозят… (язык не поворачивался даже в уме произнести эти способные устрашить кого угодно слова: «морг», «покойник»). И вдруг она остановилась, обожженная новой, хотя и слабой надеждой: может быть, пока она тут ходит, Костя уже вернулся домой? Ей сразу представилось, что он как ни в чем не бывало сидит на кухне и за обе щеки уплетает тушеную картошку с мясом. Задыхаясь, она побежала к автобусной остановке. И чуть не опоздала. Спасибо одному военному, придержал дверь, кое-как протиснулась. Она не замечала ни тряски, ни давки, ни мороза, подбиравшегося уже к коленкам. Ее сердце разрывалось от переполнявших его страха и надежды. «Только бы он был дома… только бы он был дома…» – без конца повторяла она про себя.
Мама не помнила, как вышла из автобуса, как перешла улицу, как поднялась на свой этаж, как отперла дверь. Встретила ее тишина – пустая и зловещая. Быстро взглянула на вешалку – Костиного бобрика не было. Ноги у мамы словно налились свинцом. Не снимая пальто, она прошла на кухню, села на табуретку. Сколько так просидела, она не помнит. Может быть, минуту, а может быть, час. Скорее всего – первое. Вдруг она вскочила и бросилась в комнаты: а что, если… ведь даже не заглянула туда! Мысль об отсутствующем Костином пальто как-то выпала из головы. В комнатах был все тот же оставшийся с утра беспорядок. Никаких признаков недавнего пребывания Кости.
Часы показывали четверть двенадцатого. Мама скинула пальто, сбросила боты. Пошатываясь, вышла на лестничную площадку. Как ни страшно было обзванивать всех, иного выхода не было. Соседская бабушка – толстая, медлительная, но при этом на редкость любопытная – забросала маму вопросами. Мама отвечала невпопад, с пятого на десятое. Костю на лестнице хорошо знали и считали примерным молодым человеком («Такой вежливый, такой воспитанный. На днях поднимаюсь с полной сумкой, руки прямо отрываются. А он подхватил сумку, помог донести… Ох, господи, может, еще отыщется!»).
Дрожащей рукой мама сняла трубку. Назвала номер милиции. Телефонистка, словно предчувствуя важность и срочность предстоящего разговора, тотчас же соединила с дежурным. Тот ответил бодрым, хорошо поставленным голосом кадрового военного. Не вернулся домой? Фамилия, имя, отчество? Теперь мама стояла на самом краю пропасти. От напряжения у нее вспотели ладони. Затихла и замерла в дверях до этого не замолкавшая ни на минуту соседская бабушка. Но вот трубка снова заговорила бодро и жизнерадостно: «Вы слышите? Ипатов Константин Сергеевич в наших списках не значится!» – «Спасибо, огромное вам спасибо!» – взволнованно проговорила мама. Сейчас она поняла одно: если бы с Костей что-нибудь случилось, милиция первой знала бы об этом. «Вы слушаете, гражданка?» – «Да, да, слушаю!» – «К сожалению, у нас сведения только о тех, кто стал жертвой дорожных и уличных происшествий, был задержан за нарушение общественного порядка». – «Да, да, понимаю!» – благодарно соглашалась мама, продолжая радоваться, что самое страшное уже позади. «Попробуйте связаться с больницами…» – «С больницами? Зачем?» – снова испугалась мама. «Я же вам только что объяснил, гражданка, – несколько раздраженно произнес дежурный. – У нас данные только о тех…» И он слово в слово повторил о сведениях, которыми располагает милиция. После этого недовольным голосом добавил: «Некоторые граждане попадают в больницу самостоятельно, а также доставляются прохожими и знакомыми…» Сам того не подозревая, он подвел маму к новой пропасти.
Ослабевшей рукой мама раскрыла огромную телефонную книгу. «Больницы… больницы…» – она долго не могла найти их в этом многостраничном омуте. Наконец наткнулась и совсем растерялась: боже, сколько их тут! Но первый же номер, который она назвала, был занят. Второй тоже. Ответил лишь третий. «Как фамилия? Горбатов?» – «Нет, Ипатов!» – «Поступил Горбатов, сотрясение мозга. Ипатов не поступал». И вдруг в разговор вклинился похмельный мужской голос: «Пущай в морг позвонит. Вчера там одного доставили. Ни документов, ничего!» Сердце резануло: Костя! «Позвоните в морг…» Ей сказали телефонный номер, но из всех пяти чисел от волнения она запомнила только два: тройку и единицу. Переспросить она опоздала: там уже положили трубку. Она позвонила еще. И вдруг спохватилась, что нечем записать. «Карандаш!» – простонала она, обращаясь к соседской бабушке. Та, несмотря на полноту и медлительность, быстро сбегала за карандашом. На какие-то мгновения у мамы отнялся язык. Она заговорила снова, только когда человек из морга (со странным – не то мужским, не то женским голосом) в сердитом нетерпении уже собирался повесить трубку. «Есть один, приезжайте!» – почти пропел голос. «Какой он из себя? Высокий, молодой, красивый?» – резала себя по сердцу мама. «Нет, старичок, кожа да кости», – не очень уважительно отозвались о покойнике в морге. У мамы гора с плеч свалилась. На несколько секунд.
Она опять позвонила в больницу, стоявшую первой в длинном, невообразимо длинном списке. Телефон уже освободился. Ответили просто, что Ипатова среди вновь поступивших нет. Морг же, к сожалению, на ремонте. Короткое, недолгое облегчение. И еще неприятный осадок от слов: «К сожалению». Что ж, у каждого свои заботы.
Теперь на очереди больница, вторая в списке. Новый телефон – новая пропасть. Все еще занят.
С четвертой больницей соединили сразу. Но оказалось, что надо звонить совсем по другому номеру. А там долго, очень долго не брали трубку. Однако все-таки взяли, и кто-то сонным голосом возвестил, что Ипатова уже две недели как выписали. Не тот Ипатов? Другого пока не было. В морге же у них телефона нет. Как узнать? Подождите… Мама пересохшими губами твердила свою обычную молитву: «Только бы… только бы…» Прошли три… пять… семь минут… И вдруг – под грохот маминого сердца – тот же сонный голос сообщил: «Вы слушаете? Вашего у нас немае!»
Прежде чем звонить дальше, мама постояла, дала сердцу передохнуть. Потом попросила соединить ее опять со второй больницей. Все еще занято! Странно, очень странно…
«Тогда, пожалуйста, дайте…» – и мама назвала номер очередной пропасти. И пропасть, находившаяся, по-видимому, где-то очень далеко, может быть даже на другом конце города, битый час переспрашивала фамилию. В конечном счете, было произнесено что-то похожее, и пропадающий временами голос донес, что больница гинекологическая и мужчинами не интересуется: всех бы их утопить в Неве, злодеев! (Последнее мама, уж конечно, потом добавила от себя.)
Затем телефонистка по ошибке соединила с автобазой Военторга, и какой-то офицерик, одуревший от безделья, принялся вкручивать маме, что он и есть тот Ипатов, которого она ищет. И с ходу попытался назначить ей свидание у Исаакиевского собора под третьей колонной (насчет Исаакия и колонны мама, возможно, тоже придумала).
Затем мама снова попросила дать злополучную вторую больницу. И опять та была занята.
Зато ответил номер (уже не автобаза и не изнывавший от скуки офицерик), куда перед этим звонила мама. И вдруг она услышала: «Кого? Ипатова? Недавно звонил мужчина. Тоже спрашивал о нем». Сережа? Значит, выбрал все-таки время… «Нет, родненькая, не поступал Ипатов». – «А туда?.. Ну вы сами понимаете…» – «И туда не поступал!»
Мама позвонила отцу на работу. «Сергей Петрович у директора», – ответила девушка-техред. «Позовите его, Людочка», – всхлипывая, сказала мама. «Сейчас, Анна Григорьевна!» – испугалась та. «Аня? Что случилось? Что?» – голос у отца дрожал. «Я случайно узнала, что ты тоже начал звонить по больницам. Давай разделим список». – «Хорошо, Анечка. Как только уберется комиссия, я сажусь за телефон… Ты бери первую половину списка, я – вторую!» – «Я уже звоню почти с самого утра!» – «Слушай, как только комиссия уберется, я сажусь за телефон!» – «А она еще долго будет торчать у вас?» – «Как минимум несколько дней. Но сейчас вся троица идет обедать в «Кавказский» ресторан и уже вряд ли сегодня вернется…»
До десяти вечера папа и мама обзвонили все больницы и морги. Единственная больница, до приемного отделения которой они так и не дозвонились, была все та же вторая по списку. Впрочем, дозвониться они все-таки дозвонились, но только до котельной. Пьяный кочегар, которому они все объяснили, попросил их подождать у телефона. Через минут двадцать он вернулся и сообщил, что Ипатов в больницу не поступал.
Затем родители Ипатова в полнейшем отчаянии навалились на отделения милиции, и все как один дежурные милиционеры одинаково бодрыми голосами подтвердили, что никакими сведениями об Ипатове органы не располагают.
Уже днем о несчастье, постигшем Ипатовых, знала вся лестница – об этом растрезвонила соседская бабушка, которой от волнения не сиделось на месте.
У обитых вкось и вкривь дерматином дверей люди старались ступать тише, говорить шепотом, как будто там уже был покойник.
Так что у тяжелой отцовской оплеухи была вполне солидная предыстория.
Еще сегодня человек был на работе: составлял и подписывал какие-то бумаги, разговаривал с коллегами, вместе со всеми в обеденный перерыв стоял в очереди за бананами, украдкой поглядывал на ножки молоденьких сотрудниц, умолял подписать его на «Литературку» и «Программу телевидения», прикидывал, сколько он получит премиальных в будущем месяце, а уже вечером отдаст концы! Хотя как будто ничего такого и не делал, день был рядовой, обычный, никаких нервотрепок, все равно скажут: сердце не выдержало перегрузок. И пойдут философствовать, что, может быть, в те самые минуты, когда он делал свое обычное, даже не очень приметное со стороны дело, стачивались последние микроны отпущенной ему жизни. Хорошо скажут, дьяволы! И только будут недоумевать, какая нелегкая занесла его на шестой этаж дома, в котором никто, ни одна душа, как потом установит милиция, не имела о нем ни малейшего представления. Фантастика, товарищи, фантастика!..
Мысль о том, чтобы сходить со Светланой в «Кавказский» ресторан, пришла Ипатову под утро. Ночью он спал плохо, без конца прокручивал перед мысленным взором вчерашнее незадачливое прощание. И с досады на себя тяжело вздыхал и поскрипывал зубами. Уснул, когда забрезжил рассвет, и проснулся уже с готовой мыслью. В том, что он выбрал «Кавказский», а не другой ресторан (после демобилизации он успел побывать с приятелями – школьными и фронтовыми – в «Астории», «Метрополе», «Северном» и даже на крыше «Европейской»: отмечали встречи, отъезды, поступления в военные академии и на офицерские курсы, – да всего и не упомнишь! Перед ними, бывшими фронтовиками, народом не только заслуженным, но и денежным, широко распахивались двери лучших ресторанов. «А ведь живы, хлопцы! Выпьем за то, чтобы дома не журились!»), были свои причины. Во-первых, он там еще не был, а слышал об этом ресторане восторженные отзывы. Вот и отцовская комиссия поперла туда обедать, хотя от издательства до Невского топать и топать, можно было зайти куда и поближе. Во-вторых, кавказская экзотика. Западом Светлану не удивишь, а вот Востоком… От одних музыкантов, говорят, обалдеть можно. Не говоря уже о национальной кухне и винах! И наконец, в-третьих, наученный горьким опытом, он учел очень важное для себя обстоятельство. Как-то, проходя мимо, он обратил внимание, что в подвале, в котором размещался ресторан, стоял полумрак, почти совсем не были видны лица сидящих внизу людей. О лучшем и мечтать нельзя. Значит, не будут бросаться в глаза его обтерханная одежда, его много раз чиненные сапоги. Да скроется солнце, да здравствует тьма! Правда, он еще не уверен, пойдет ли Светлана, – кто знает, как она отнесется к его приглашению. Но на всякий случай он предупредил маму (с отцом после вчерашнего он не разговаривал), что, возможно, придет поздно, пусть не волнуется, спокойно ложится спать. В конце концов, он имеет право прийти и утром, он ведь не мальчик, должны понять. Сказал и смутился. Можно подумать, что у него со Светланой…
День начинался счастливо. Едва только он влетел в вестибюль, как увидел Светлану. Она стояла у зеркала, что-то на себе поправляла. Он сразу понял, что она ждет его: руки у нее на мгновение замерли, – если бы был фотоаппарат, можно было бы щелкнуть. Ипатов ринулся в раздевалку. Прежде чем сойти в подвал, быстро оглянулся. Движения ее рук стали еще более неторопливыми, какими-то нарочито замедленными. Он уже не сомневался, что она дожидается его.
В очереди к нему незаметно для соседей пристроился Валька, меховой генеральский реглан благоухал дорогими нестуденческими запахами.
«Куда исчез?» – тихо спросил Дутов. (Ах, да, Валька вчера вообще не был в Университете: дрых, наверно, без задних ног весь день!)
«Пошел на лекции», – ответил Ипатов.
«А нянька думала: спрятался где, по всем комнатам искала», – глаза у Вальки смеялись. (Знает или не знает о ведре? Знает, конечно. Но не похоже, чтобы это его настроило против друга.)
«Видел?» – шепнул Дутов.
«Няньку, что ли?» – усмехнулся Ипатов.
«Сдавай, сдавай пальто быстрей: а то уйдет!» – с добродушной подначкой заметил Валька.
«Не уйдет!» – ответил Ипатов и перекинул пальто через барьер.
«Это что-то новое», – не скрывая любопытства, отметил Валька.
Ипатов заторопился к выходу из гардероба. Уже с лестницы крикнул застрявшему в толпе Вальке:
«Тебе больше не нужны мои конспекты?!»
«Как тебе сказать…» – почесал тот затылок.
«Тогда принеси их завтра? Ладно?»
«Слушай, я их дня за три перепишу!» – пообещал Валька.
«Потом перепишешь!» – отрезал Ипатов.
Светлана стояла у зеркала и разговаривала со своей шкафоподобной подругой. И хотя она по-прежнему не торопилась встретиться с Ипатовым взглядом, он почувствовал, что она боковым зрением уже отметила его возвращение из гардероба. Просто в ее жестах, в ее улыбке появилось едва заметное нетерпение. И явно поубавился интерес к тому, что говорила приятельница. Те десять-пятнадцать метров, которые разделяли их, он прошел под нарастающий барабанный бой сердца. Как будто подходил к ней впервые, как будто не было ни «Вольного ветра», ни первого и второго провожаний домой, ни почти ежедневных встреч на факультете, как будто будущее их зависело именно от этого случайного свидания в вестибюле. Он даже не запомнил, как поздоровался с нею: не то «Доброе утро!», не то «Привет!». Она тоже ответила что-то в этом духе.
Приятельница, которой он помешал спокойно досказать волнующую историю о какой-то девице, отбившей у своей подруги мужа, пыталась продолжить, но ни Светлана, ни тем более Ипатов не собирались слушать. Хорошо, что до той быстро дошло, что она третий лишний.
«Ну, я пошла!» – проговорила она и горделиво проплыла мимо Ипатова.
«Что это за шкаф?» – наклонившись к точеному ушку Светланы, спросил он.
«Нельзя быть таким злым», – мягко упрекнула она и взяла его под руку.
«Нет, правда, я где-то его видел, – уже не мог остановиться Ипатов. – Только не помню, в какой аудитории?»
Он осторожно нес ее руку, лежавшую у него на сгибе локтя, и не чувствовал под собой ног от переполнявшей его радости. «Вот так-то, – пела в нем каждая клеточка. – Сколько ребят вокруг, но она из всех выбрала меня!» И впрямь, не было ни одного человека, который, обгоняя их на лестнице, не обернулся бы.
«Она переписывается с самим Бидструпом», – сказала Светлана.
Ипатов удивленно посмотрел на нее: о чем она? Ах, об этом шкафе.
«Ее отец какая-то большая шишка».
«Наверно, тоже шкаф каких мало! – ехидно проронил Ипатов. – Во всю стену!»
Светлана хмыкнула. Потом заметила:
«Я его видела: славный дядечка».
«Славный?»
«Ну да! Он целый день катал нас на своей машине».
«На своей или служебной?» – поинтересовался Ипатов, не терпевший никаких неясностей.
«Конечно, на служебной!»
«Бедный шофер!»
«Почему бедный? – удивилась Светлана. – Не все ли равно ему, кого и куда возить?»
«Может быть, и все равно», – иронически согласился Ипатов.
«Ну то-то же!» – удовлетворенно произнесла она – очевидно, интонация сказанного, подозрительная раздумчивость ипатовских слов ускользнули от ее внимания.
«Слушай, а не рвануть ли нам куда-нибудь сегодня вечером?» – как можно непринужденнее спросил Ипатов.
Ее серые глаза смотрели на него по-доброму, но насмешливо:
«Опять на оперетту?»
«Да ну ее к черту! – засмеялся Ипатов. – Давай лучше закатимся в какой-нибудь трактир?»
«В ресторан?» – уточнила она.
«Ну да! Если заменять иностранные слова, то до конца!»
«Я не вижу в этом ничего смешного», – вдруг сказала она.
«В чем?» – как-то растерянно спросил он.
«В том, что иностранные слова заменяются нашими – русскими».
«Я тоже не вижу в этом смешного, даже наоборот», – заметил Ипатов.
«Так надо!» – четко произнесла она.
«Возможно», – пожал он плечами.
«Так надо», – уже мягче повторила она.
«Не спорю, может быть, что-то и следует заменить, – согласился он. – Но, разрази меня бог, я не вижу смысла в том, чтобы переименовывать французские булки. Ей-богу, они от этого не станут вкуснее!»
«Папа говорит: лес рубят, щепки летят!»
Ах вот откуда ветер дует! Выходит, ее отец время от времени еще и что-то вещает… Неприязнь к этому нелюдимому человеку мешала, уводила в сторону, и Ипатов решил больше не думать о нем, тем более что сейчас было не до него.
Они поднялись на второй этаж, и тут он спохватился, что ему надо направо, а ей – налево. В четверг не было общих лекций, одни семинары, встретиться можно было только в перерывах, да и то не всегда – то преподаватель задержит на несколько минут, то какое-нибудь очередное мероприятие в группе.
«Ну так как же?» – спросил он.
«А… ты об этом! – вспомнила она. – Что ж, сходим!»
«В полседьмого у Казанского собора?»
«Собор – большой», – напомнила Светлана.
«У Барклая де Толли. Он ближе!»
«К чему ближе?» – не поняла она.
«Потом скажу!» – бросил Ипатов, заметив, что к их разговору прислушиваются.
Она пошла в свою сторону, он – в свою.
Потянулись долгие и нудные часы занятий. Но это не помешало Ипатову впервые за время учебы схватить две двойки. По латыни он забыл перевести отрывок из речи Цицерона против Катилины, собиравшегося захватить власть в Риме. Латинист внимательно посмотрел на смутившегося Ипатова поверх очков и не сказал ни слова. Но пометку какую-то в своей тетрадке все-таки сделал. Зато старушка-немка, узнав, что он не выполнил домашнего задания, произнесла целую тираду.
«Воевали вы, судя по вашим наградам (Ипатов оторопело уставился на нее: он вообще никогда не носил ни своих двух орденов, ни своих четырех медалей. Откуда ей известно о них?), лучше, чем в последнее время готовитесь к занятиям. Надеюсь, на большее, чем двойка, вы не претендуете?» – закончила она.
На большее он не претендовал. И она, прямо обожавшая своих учеников-фронтовиков, нарисовала против его фамилии крохотного-крохотного лебедя – такого и в микроскоп не разглядишь.
Самое странное, что он в эти дни и не вспомнил о домашних заданиях.
Неприятности с учебой в избытке компенсировались предстоящим свиданием. Впрочем, Ипатова ожидал еще один сюрприз – не столь приятный, но все же польстивший его мужскому самолюбию. Во время одного из перерывов к нему смущенно подошла незнакомая девушка и протянула записку: «От Жанны!» Он с некоторым любопытством, но в целом равнодушно развернул ее и увидел стихотворение, написанное почти детским почерком:
Глаза далекие и прекрасные,
Мне видеть вас и больно и легко.
Зачем рождаете мечты мои неясные,
Зачем запали вы мне в душу глубоко?
Зачем вы мучаете болью непонятною
И заставляете метаться и страдать,
Зачем даете вы мгновенья безвозвратные
И не умеете их дважды повторять?
И вместо подписи – «ЛИИВТ» (что означало, как сообразил Ипатов, Ленинградский институт инженеров водного транспорта). Стихи были слабые, очень слабые, но Ипатов то и дело перечитывал их украдкой. Оказывается, глаза у него «далекие и прекрасные». Кто бы мог подумать…
Говорят, иногда помогает массаж груди. Надо только долго вращать – не то по часовой стрелке, не то против, точно не помнит, – в области левого соска. Вращать до непослушности пальцев, до синяков, до тех пор, пока вся внутренняя боль не перейдет в наружную. Ипатов расстегнул рубашку, и его пальцы погрузились в заметно отвисающее, дряблое, немолодое тело. Еще утром, когда он в одной майке и трусах после зарядки прохаживался по квартире, пятнадцатилетняя дочь Маша не удержалась от ехидного замечания:
– Папа, тебе скоро придется покупать лифчик!
Он тут же смутился и ушел в свою комнату. Там снова принялся приседать, и так и этак поворачивать туловище, сгибаться и разгибаться, отжиматься одними руками…
Потом он долго не мог отдышаться. Плюхнулся на стул и так сидел, жадно заглатывая ртом воздух. В этой жалкой и беспомощной позе и застала его забежавшая попрощаться перед школой Машка. Надо было видеть ее мордашку, чтобы понять, как он ей дорог. Там был написан такой страх, что Ипатов сам перепугался не на шутку. Но он нашел в себе еще силы улыбнуться и сказать Машке, что взял слишком быстрый темп и вот теперь пытается наладить дыхание. Он видел, что она и верила ему, и не верила. Однако время поджимало (ее дневник и так был испещрен записями о том, что она систематически опаздывает на уроки), и она заторопилась в школу. Но до самых дверей не спускала с него своих жалостливо-недоверчивых глаз. Может быть, от этого взгляда и полегчало ему тогда? Вот кого бы сейчас сюда. Только бы прижаться щекой к ее детской, перепачканной чернилами ладошке. За всю жизнь у него не было человека более близкого и родного, чем она. Нет, были еще папа и мама, которых он потерял так давно, что они уже почти не снятся ему. Но родители – совсем другое. Да, славная у него дочурка. Одно беспокоит его, что такая худущая. Худущая и длиннющая. Она же, вопреки здравому смыслу взрослых, даже гордится этим. («Папа, смотри, я уже тебя догнала!» Фигушки! До его ста восьмидесяти пяти ей еще пыхтеть и пыхтеть! И все же… Или: «Папа! Мы втроем – я, Татка и Лариса – в твои старые брюки влезли!» Подумать только, втроем в одни брюки. И смех и грех!) Мысли о ней согревают сердце, и боль как будто отступает. Пусть ненадолго, пусть всего на несколько минут, но отступает. Конечно, он еще трет и трет свой разнесчастный сосок, сперва по часовой стрелке, а потом, когда не помогло, против. Скоро, кажется, дотрет до дыр, уже занемела рука, а боль все тычется, как живая, мордой о грудину. Если и суждено ему помереть на этой чертовой лестнице (не в пролете, как могло быть тогда, а совсем прозаически, сидя на ступеньках), то он бы хотел, чтобы в эти последние минуты с ним была Машка. Не жена, которую он не видит месяцами (она работает директором картины и, как он подозревает, путается то с одним, то с другим режиссером. Недаром над ее столом висит изречение: «Жизнь коротка, а искусство вечно»). Не сын, который больше озабочен тем, что скажут или подумают его сановитые тесть и теща. В конечном счете, все равно, где э т о с ним случится, дома ли в постели, на больничной ли койке, в кресле ли перед телевизором или на этой – будь она неладна! – лестнице, лишь бы напоследок прижать к губам тонкую, с проступающими косточками руку дочери. Впрочем, окажись Машка здесь, она бы не сидела сложа руки. Мало того, что вызвала бы «скорую», но еще обежала бы все квартиры, сверху донизу, и, надо думать, где-нибудь раздобыла бы несколько таблеток валидола или нитроглицерина. Может быть, не так уж много и надо, чтобы изгнать боль.
И только потом, когда ему стало бы легче, насмешливо сощурив свои и без того небольшие (из-за близорукости, которой она страдает с детства) глаза, предъявила бы ему свой дочерний счет:
– Итак, кто она?
Вот и отвечай ей, спустя тридцать пять лет после случившегося, на этот вопрос…
Едва они спустились в ресторан, как на них обрушились резкие запахи кавказской кухни, грохот каких-то музыкальных инструментов и тот самый, столь привлекающий Ипатова, полумрак, раздираемый на части множеством человеческих голосов. Оба остановились в нерешительности, не зная, за какой из столиков лучше сесть. И хотя свободных мест было еще достаточно, отпугивало соседство с изрядно выпившими и чрезмерно шумными любителями восточной экзотики. Незанятых столиков, похоже, не было.
В отличие от Ипатова, который был как на иголках, Светлана холодно и надменно взирала на весь этот пьяный ресторанный ералаш. Она, как всегда, была поразительно хороша. Элегантное серое шерстяное платье, которое Ипатов видел на ней впервые, украшала ниточка дорогих кораллов. Черные лакированные лодочки и черные ажурные перчатки, безукоризненно обтягивающие руку, как-то удивительно точно дополняли ее наряд. Первым Светлану увидел и уже не мог оторвать взгляда немолодой толстяк, сидевший за крайним столиком. Затем на нее стали пялить глаза два молоденьких летчика, по-видимому только что выпущенных из училища. Потом ее принялась рассматривать с ног до головы средних лет дама в вечернем платье. И обернулся целый столик – не то студенты старших курсов, не то аспиранты. За компанию, разумеется, разглядывали и Ипатова.
Но тут к ним подлетел субъект в косоворотке, перетянутой узким кавказским ремешком с металлическими украшениями. Его черные глаза были по-профессиональному деликатны и ласковы – распределяли интерес поровну между Светланой и Ипатовым.
«Добро пожаловать, дорогие гости!» – не то с грузинским, не то с армянским акцентом протянул он. И с широким жестом повел их куда-то в глубь зала.
«Послушайте, вы не можете посадить нас за отдельный столик?» – попросил Ипатов официанта.
«Никак не получится, дорогой. У нас все столики на шесть персон. – И негромко добавил: – Но вас я посажу за наш лучший столик. Для самых дорогих гостей!»
Он действительно подвел их к свободному столику, на котором стояла табличка: «Занято». От других столиков этот отличался еще тем, что в центре его белел букетик хризантем. Подальше был и оркестр – не так гремело.
Официант положил перед ними меню:
«Выбирайте, дорогие! Холодные закуски. Горячие блюда. Коньяки. Водка. Сухие вина. Цыплята табака сегодня – объедение!»
«Что возьмем?» – спросил Ипатов Светлану.
«Мне все равно». И опять, как уже не раз было до этого, от нее повеяло холодом.
Официант вежливо отошел в сторонку.
Ипатов растерянно листал меню: одни закуски занимали в нем две страницы. Не говоря уже об остальном! И названия одно другого загадочнее: чахохбили, чакапули, абхазури, чебуреки…
«Не знаю, как другие, но я здесь как в дремучем лесу! – признался Ипатов. – Нет, здесь черт ногу сломит!.. Давай вместе соображать».
«Правда, мне все равно», – сказала она.
«Тогда позовем на помощь этого сына гор», – Ипатов подозвал официанта.
«Понимаю, дорогой, – подхватил тот, даже не дослушав до конца. – Будешь доволен!»
И так же быстро, как появился, исчез.
«Ну вот, полный порядок!» – облегченно вздохнул Ипатов, хотя на душе у него немного поскребывало: а вдруг тот принесет столько, что никаких денег не хватит? Тут уж легким конфузом не отделаешься, рад будешь сквозь землю провалиться. Это будет похлеще, чем тогда в «Астории», куда его затащил Мишка Чухнин, бывший адъютант комбрига, поступавший в то время на какие-то командные курсы. Помнится, наели, напили они чуть ли не на двести рублей. И вдруг Мишке приспичило пойти вниз позвонить одной своей ленинградской знакомой (прошлой ночью они ехали в соседних купе и уже через два часа в Калинине обменялись телефонами). «Я – мигом!» – сказал Мишка. Но прошли час, полтора, а его все не было. Будь у Ипатова деньги, он бы махнул рукой на пропавшего и сам расплатился. Но у него в кармане была всего десятка – в лучшем случае официанту на чай. Уже начали расходиться последние посетители, спустились в зал усталые музыканты, отдавал какие-то распоряжения озабоченный метрдотель. Наверное, добрых полчаса косился на Ипатова официант, обслуживавший их столик. Наконец не выдержал, подошел: «Гражданин, ресторан закрывается. Разрешите получить?» Ипатов стал объяснять, что деньги у друга, что тот пошел позвонить своей девушке и с минуты на минуту вернется. Официант же глядел на его потертый, залатанный китель и недоверчиво усмехался. Потом попросил пройти к дежурному милиционеру. Никогда в жизни Ипатов не был так красноречив, как в эти позорные для себя минуты. Он и упрашивал подождать еще немного («Ну еще минут десять-пятнадцать? Может быть, он по пути зашел в комендатуру отметиться?»), и предлагал часы под залог («Видите, именные? Мне их сам командующий вручил!»), и взывал к гражданской совести обступивших его двух официантов, одного метрдотеля и одного милиционера («Да я никуда не удеру! Я же бывший фронтовик! Гвардии старший лейтенант!»), и вообще нес какую-то ахинею («Вот возьмите десять рублей, сто девяносто я занесу завтра!»). Все было тщетно, все плотнее сжималось кольцо. Но, как в плохой пьесе, под самый занавес влетел запыхавшийся Мишка. Потом он признался: дозвонившись до своей дамы сердца, он тут же схватил такси и поехал к ней в гости. И уже там, не без труда добившись того, чего добивался, он вдруг вспомнил о Ипатове, покинутом им в ресторане без копейки денег. Было около часа ночи. Нетрудно представить, с какой скоростью мчался Мишка выручать друга. Несмотря на ветер в голове, хорошее в нем всегда брало верх…








