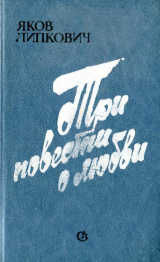
Текст книги "Три повести о любви"
Автор книги: Яков Липкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
«Смотри!..»
И он, шагнув, к одной ноге приставил другую. Потом еще. Потом еще. По самой набережной потянулась странная цепочка следов: по два рядом. Словно всю дорогу кто-то прыгал по-воробьиному. Светлана давилась от смеха и тоже попробовала. Цепочка у нее получилась изящная: с частыми парами аккуратненьких, чистеньких следов.
«Костя, что подумают прохожие, увидев наши следы?» – допытывалась Светлана.
«А это зависит от их умственного уровня», – весело ответил Ипатов.
«Вот как? А ты опасный человек», – сказала она, продолжая ставить шаги.
«Провоцирую дураков? Ты это хочешь сказать?» – обернулся он.
«Но ведь и умные могут задуматься?» – она бросила на него насмешливый взгляд.
«О нас с тобой?»
«Да, о нас с тобой», – подтвердила она.
«Знаешь, что они подумают?»
«Очень интересно».
«Что так дурачиться могут только влюбленные».
«Тристан и Изольда», – не без иронии прокомментировала она…
Они вышли к Дворцовому мосту. Высоко в холодно-матовом свете фонарей кружили редкие снежинки. Снег перестал идти уже добрых полчаса. А эти еще не добрались до земли. Не то заблудились, не то растерялись. Последние…
«Куда пойдем?» – спросила Светлана, загораживаясь от ветра воротником шубки.
«Давай на ту сторону? А там дойдем до Летнего сада… Тебе что, холодно?»
«Ветер».
«Иди здесь, – сказал Ипатов, заслонив ее своим широким плечом. – Так не дует?»
«Дуи нет», – ответила она.
«Чего нет?» – удивился он.
«Дуи», – повторила Светлана.
«Это по-каковски?»
«Я говорила так, когда была маленькой. Дуей называла ветер».
Он хотел умилиться, но вспомнил, что не так давно умилялся вслух другими ее выражениями («Наша лестница все время кружится в вальсе» и «Ни черташеньки»), и решил лучше промолчать: частые комплименты всегда подозрительны. Эта и другая, не менее парадоксальная мысль: «Бойтесь обаятельных людей» – принадлежали отцу.
Они шли по Дворцовому мосту. Светлана шагала, держа Ипатова под руку, прячась за его плечом. Он ощущал напряженным локтем ее тепло.
Ветер налетал короткими и сильными порывами. Казалось, он возникал тут же на мосту и тут же где-то поблизости от него выдыхался. Погода опять переменилась. Только за сегодняшний день она несколько раз откалывала коленца – то светило не по-зимнему яркое солнце, то обильно валил снег, то дул сбивающий с ног ветер – неверная, ненадежная, коварная ленинградская погода…
Пока они переходили Неву, ветер снова стих. Возможно, ему преграждал путь Зимний дворец с Эрмитажем.
Светлана вдруг вспомнила о странном утреннем поведении Ипатова. По ее словам, он был похож на ненормального. Она вначале подумала, что он сильно под градусом. А потом увидела, что на пьяного он не похож. Больше на психа, которого чем-то ублажили.
«Вот как?» – удивился он точности ее наблюдения.
Когда Ипатов ей все рассказал, она, вместо того чтобы возмутиться, как он ожидал, начала выспрашивать у него, что он чувствовал при этом. Да еще требовала подробностей. Восстанавливая в памяти малейшие свои ощущения, он поражался тому интересу, который вызвал у нее его рассказ. Он подумал, что она не прочь бы хоть раз испытать все самой.
И он сразу перевел разговор на другое, благо они сейчас проходили по горбатому мостику через Зимнюю канавку, и Ипатов вспомнил несколько забавных случаев, связанных с Эрмитажем. Их ему и другим ребятам рассказала мама его одноклассницы Лены Кашкиной, работавшая там научным сотрудником. Однажды, когда она вела экскурсию, одна женщина спросила ее: «Скажите, пожалуйста, а царские спальни теперь работают?» Во время другой экскурсии какой-то демобилизованный солдат вдруг сказал: «И вы будете так нам каждую хреновину показывать?» И уж совсем уморил всех некий жизнерадостный сибиряк, когда они проходили мимо восковой персоны Петра Первого. «Почему он такой бледный?» Маме Лены Кашкиной ничего не оставалось, как ответить: «Чего же вы хотите? Двести пятьдесят лет без воздуха!»
Светлана прыскала в поднятый воротник шубки, и Ипатов радовался, что рассмешил ее, отвлек, как он решил, от дурных поползновений.
Но тут у нее что-то расстегнулось, и они зашли в первую парадную. Светлана дала подержать Ипатову сумочку, а сама начала поправлять чулок. Он с радостью отметил, что она даже не попросила его отвернуться. «Мы как муж и жена», – взволнованно подумал он. Отношения их продолжались так, как будто только вчера они расстались на черной лестнице и не было, вообще не было этих гнусных восьми дней разлуки.
«В первый раз надела наши советские чулки, и уже поползли», – сообщила она доверительно.
Ипатов не знал, что сказать. Мама, сколько он помнит, всегда носила советские чулки. Обычно у нее были всего две пары: простые на каждый день, фильдекосовые – для выходов. Последние она очень берегла. Без конца штопала носок и пятку, поднимала петли, затягивала, когда они начинали ползти, – и носила, носила годами. Сейчас она донашивала чулки, купленные еще до войны и только чудом не выменянные в блокаду на хлеб и картошку.
Так что чулочные жалобы Светланы Ипатова не тронули.
Но она, очевидно, и не ждала сочувствия.
«Ты видишь меня?» – вдруг спросила она.
«Вижу», – признался Ипатов. Несмотря на глубокий мрак в парадной, он хорошо различал и ее наклоненную голову в меховой шапочке, и руки, все еще возившиеся с чулком, и общий силуэт, который почти сливался, но до конца не слился с темнотой.
«А я тебя не вижу».
«Да ну?» – удивился он.
«Я плохо вижу в темноте».
«Дай руку!»
«Зачем?»
«Я тебе покажу, где я», – шутливо заметил Ипатов.
«Нетушки», – хмыкнула она.
Опять живое, свежее словечко «нетушки». Ничуть не хуже других, также понравившихся ему. От кого она их позаимствовала? От матери? От отца? Одно несомненно, они знакомы ей с детства…
«Все… товарищ лейтенант», – сказала она, выпрямляясь.
«Гвардии старший лейтенант», – весело поправил он ее.
«Вот как? Даже гвардии?»
«А ты как думала?»
«Похвальбишка!.. Дай сумочку!»
Она протянула руку. Он прижался к холодной ладошке щекой, поцеловал ее в самую середину. Потом притянул к себе Светлану, и их губы встретились в долгом обжигающем поцелуе.
«Все! Хватит!» – сказала она, пытаясь освободиться.
«Нет!» – он продолжал ловить ее губы и всякий раз настигал их.
И как тогда, на черной лестнице, Светлана совсем не противилась его смелым и рискованным ласкам. Только раз легонько шлепнула по руке – чтоб не забывался.
В отличие от него, говорившего ей самые нежные, самые жаркие слова, она целовалась молча, лишь время от времени повторяла задыхающимся голосом:
«Все! Хватит!»
И еще спросила:
«Где сумочка?»
Трудно сказать, сколько бы они так простояли, если бы вдруг не бабахнула дверь и в парадную не ввалился какой-то подгулявший жилец.
Ипатов и Светлана отступили к стене, рассчитывая, что он их не заметит в темноте.
Но тот заметил.
Ипатов загородил собою Светлану.
«Вы мужчина?» – вдруг спросил человек.
«Мужчина», – ответил Ипатов.
«Скажите, от меня сильно пахнет водкой?»
«Сильно», – подтвердил Ипатов.
«Нехорошо», – сказал тот.
«Да, нехорошо», – согласился Ипатов.
«Вы кто?»
«Директор Эрмитажа», – сказал Ипатов.
Он услышал, как за его спиной прыснула Светлана.
«Очень приятно…»
«Мне тоже…»
«Сухого чая нет?»
«Нет… Весь продал… (Позади снова фыркнула Светлана.) А зачем он вам?»
«Запах заесть…»
«Снегом можно…» (Светлана легонько толкнула его в бок – предупреждала, чтобы не задирался.)
«Снегом?»
«Ну да. Лучше прошлогодним», – веселил Светлану Ипатов.
«Формальдегид», – изрек в ответ незнакомец и, шаря руками в темноте, двинулся к ближайшей квартире. Дверь оказалась не запертой, и он бесшумно растворился за порогом.
Ипатов погрузил в свои широкие ладони оба ее кулачка.
«Ну что?» – спросил он.
«Пошли?» – сказала она.
«Пошли», – согласился он…
Летний сад встретил их своей хрестоматийно-прекрасной решеткой. Минимум два раза в год – ранней весной, когда сад ставят на просушку, и поздней осенью, когда он весь в опавшей листве, – сюда, как на паломничество, приходят мама и папа. Свой обход любимых мест они обычно начинают с улицы Росси и кончают решеткой Фельтена – заряжаются, как говорит мама, на полгода красотой.
«Тебе нравится?» – спросил Ипатов Светлану.
«Очень», – сказала она.
«Однажды она мне даже снилась на фронте. Я уже не помню как, но снилась».
Светлана молча прижалась к его плечу щекой. «За что он покушался на царя?» – спросила она, когда они остановились у мраморной доски на том месте, где Каракозов неудачно стрелял в Александра Второго.
«Как за что? – Ипатов удивился, что Светлана не знает таких элементарных вещей. – Потому что обманул крестьян. После так называемого освобождения они попали в еще большую кабалу – экономическую…»
Прошло всего несколько месяцев со сдачи вступительных экзаменов в Университет, и Ипатов, надо полагать, ответил бы и на более заковыристые вопросы по истории.
«Теперь я вспомнила», – сообщила Светлана обрадованно. – Мы это еще в школе учили!»
«А ты знаешь, почему Каракозов промахнулся?»
«Почему?»
«Один крестьянин из толпы выбил у него из рук пистолет. Я даже фамилию этого крестьянина запомнил. Комиссаров».
«Ну и память у вас, молодой человек, – заметила она, заглядывая ему в лицо. – Что ж, на первый вопрос, товарищ студент, вы ответили… Попробуйте ответить на второй…»
«На какой?»
«Куда мы пойдем дальше?»
«Куда скажешь…»
«Я скажу… – подхватила она, задумываясь. – Пошли в кино?»
«В кино? Пошли!»
«Сколько на твоих?»
«Мне легче ответить, сколько на твоих, – усмехнулся Ипатов, показывая голое запястье. – Тю-тю! Посеял где-то!»
«Когда?»
«На днях!»
«Может быть, они дома, завалились куда-нибудь?»
«Может быть», – весело согласился Ипатов.
«На, посмотри, я плохо вижу», – она протянула руку.
Чтобы разглядеть крохотные стрелки на крохотном циферблате с крохотными цифрами, Ипатов склонился к самым часикам.
«Без двадцати десять».
И не удержался: повернул ее руку к себе ладонью и прильнул к ней долгим поцелуем.
«Опоздаем», – напомнила Светлана.
«Куда направим стопы?» – спросил он.
«Знаешь, пошли в «Аврору»? Там идет «Двойная игра». Новый трофейный фильм. Все хвалят».
«Когда начало сеанса?»
«Кажется, в десять. Если на трамвае, успеем. Надо еще билеты купить».
«Пошли!» Он взял ее под руку, и они быстрым, сбивающимся шагом пошли обратно вдоль решетки Летнего сада.
«Вон идет! Побежали!» – заторопила она его.
С Петроградской стороны въехал на Кировский мост и устремился к Марсову полю неярко освещенный трамвай.
Они весело припустили к остановке. Но уже на мостике через Лебяжью канавку Светлана стала задыхаться от быстрого бега. Ипатов схватил ее за руку и помог бежать последние две сотни метров.
И что самое удивительное – успели! То ли трамвай шел медленно, то ли они бежали быстро. А возможно, обе причины вкупе.
Перед ними в прицепной вагон, вместе с еще десятком пассажиров, залезли два подвыпивших парня. Они сразу стали громко переговариваться через головы людей. И тут на них взъелся мужчина в пальто с собачьим воротником. «Эй вы, заткнитесь!» – грубо одернул он их. Один из парней, маленький, худенький, с черными кудрями, выбивавшимися из-под шапки, с шальными черными глазами, пытался пробиться к приятелю, оказавшемуся на другом конце площадки. Когда он пролезал рядом, Ипатов увидел на его спине большой горб. А приятель уже кричал из своего закутка хриплым голосом: «Цыганок, скажи этому гражданину, что мы из Одессы!» На что Цыганок отвечал: «Ты думаешь, у него от этого душа запоет?» – «Я вот сейчас, на первой остановке, сдам вас в милицию!» – продолжал злобствовать мужчина с собачьим воротником. «Цыганок, гражданин хочет заказать драку. Так он ее получит, Цыганок…» Цыганок был настроен более миролюбиво: «Оставь его, Боря… Он не знает, что в Одессе люди умирают с улыбкой на устах…» Ипатов упивался этой живой, остроумной, неленинградской перепалкой. Он забыл даже о кино и готов был ехать за этими ребятами, наслаждаясь даровым спектаклем, пока они не сойдут. И если бы не Светлана, которая через глазок в подмерзшем стекле поглядывала на улицу, чтобы не прозевать остановку, он, возможно, проехал бы и дальше…
Они сошли на углу Невского и Садовой.
«Побежали, а то опоздаем!» – заторопила Ипатова Светлана.
И опять, как с трамваем, им здорово повезло. Все билеты были уже проданы, но в последний момент, когда из фойе донесся третий звонок, им удалось, приплатив еще столько же, купить с рук. У Ипатова с собой было всего шесть рублей. Остальное добавила Светлана. И впервые он не испытывал при этом неловкости.
По забавной игре случая билеты были на тринадцатый ряд, двенадцатое и тринадцатое места. Не заметить этого Светлана не могла. Пока она стояла в нерешительности, Ипатов торопливо уселся в тринадцатое кресло. Светлана с рассеянной улыбкой приняла эту жертву…
Странное было это время. С одной стороны, велась нешуточная, не признающая ни малейших послаблений борьба с чуждыми влияниями, а с другой – те же самые влияния беспрепятственно проникали в сознание миллионов с экранов, на которых дни и ночи (кое-где, чтобы охватить всех желающих, ввели и ночные сеансы) запаренные киномеханики крутили так называемые трофейные ленты, открыто воспевающие чужие нравы и чужие страсти. И обе эти тенденции прекрасно уживались. То, что отнимала первая, с лихвой возвращала вторая. По экранам кинотеатров свободно разгуливали герои, решавшие все жизненные вопросы с помощью объятий, музыки и оружия. Они умели красиво жить, красиво любить, красиво страдать и красиво умирать. Те два-три вымученных, пресных фильма в год, которые выпускали наши студии, не могли соперничать с этим многокрасочным даровым изобилием. Бог ты мой, как тревожно и радостно становилось на душе, когда в зале гас свет и на небольшом экране появлялось название фильма – первый и единственный титр во всей картине…
«Двойная игра»… Ипатов и Светлана сидели в своем тринадцатом ряду и горячо переживали за героев, которых так благосклонно и загадочно свела судьба. Она – красавица-испанка, актриса, любимица жадной до зрелищ испанской публики. Ее зажигательные танцы и чарующий голос открывают перед ней все двери. Не отказывается она выступать и перед солдатами и офицерами наполеоновской армии, оккупирующей Испанию. Он – молодой французский офицер. Полюбив друг друга, они тем не менее каждый продолжает служить своей родине. Она шпионит в пользу испанцев, он выполняет особо секретное задание французского командования. От сведений, которые они добывают, зависит исход предстоящих сражений. Оба постоянно рискуют жизнью. В конце фильма ее разоблачают, арестовывают и собираются расстрелять. Он в полном смятении. Но тут испанцы предпринимают штурм города, где она заключена в тюрьме, и офицер на ее глазах погибает от вражеского ядра. Погибает как раз в тот момент, когда бросается спасать любимую. Несмотря на то что она так много сделала для победы испанского оружия, ничто уже ее не радует. На чье-то ликующее сообщение о победе: «Испания выиграла!» – она сквозь обильные слезы отвечает: «Испания выиграла, но я проиграла. Моя жизнь разбита…» (или что-то в этом роде).
Когда загорелся свет в зале, Ипатов повернулся к Светлане: глаза у нее были красные. Признаться, и у него не раз к горлу подкатывал комок. Она встретилась с ним взглядом и смущенно улыбнулась. Впрочем, улыбка скорее была растерянной и жалкой, чем смущенной. Как будто и на ней, прожившей эти полтора часа одной жизнью с героиней, лежала какая-то доля вины за гибель героя.
Ипатов накрыл кисть ее руки ладонью и легонько пожал: дескать, не надо так близко принимать к сердцу. Успокаивал не то от своего имени, не то от имени героя, с которым также за долгий сеанс по-мужски сроднился…
До сих пор в ушах у него звучит беззаботная и задорная песенка, которую распевали герой и героиня – она сидя в карете, он верхом:
Мой осел мимо сел, мимо рощи зеленой
Весело бежит, бубенцами звеня.
Я в тележке сижу, безнадежно влюбленный.
Выйди из ворот и взгляни на меня…
Но кто сочинил эту песенку, Ипатову неизвестно и по сей день. Так же как и прочие данные о фильме, его авторах и актерах. Нет, фамилию актрисы, сыгравшей роль красавицы-испанки, он все-таки узнал спустя почти тридцать лет из «Кинопанорамы». Прекрасной незнакомкой прошла она на памяти целого поколения по многим трофейным фильмам не то американского, не то английского производства… Жаннет Макдональд…
Когда он спросил Машку, навещавшую его в больнице, слышала ли она что-нибудь об актрисе по имени Жаннет Макдональд, его славная дочурка тут же, как хороший компьютер, выдала недостающую информацию. Что другое, а о киноактерах она знала все: в каких лентах снимался или снималась, на ком женат или за кем замужем, шли эти фильмы на наших экранах или не шли, и почему. Последнее Машке было известно из конфиденциальных телефонных разговоров госпожи продюсер с ее коллегами. Рассчитывая, что эта девчоночья блажь пройдет с годами, Ипатов пока больше посмеивался, чем огорчался. К тому же, училась Машка вполне сносно: за пятерками не гонялась, но и двоек не приносила. В ее дневниках с обложками, сплошь изрисованными нежными профилями кинозвезд, мирно в течение многих лет уживались тройки и четверки.
Не раз и не два пытался Ипатов приобщить Машку к большой некиношной жизни. Подсовывал ей газеты с какими-нибудь интересными статьями, расхваливал при ней книги, которые, по его мнению, могли ее заинтересовать, нарочно в присутствии дочери заводил разговоры о политике, о тенденциях, раздирающих мировое сообщество, о фашистах, которых больше, чем кажется…
Но Машки хватало ненадолго. Через несколько минут она начинала позевывать, ерзать на стуле, взгляд ее становился рассеянным, усталым. Ипатов с трудом сдерживался, чтобы не вспылить, не наговорить дочери обидных и лишних слов. В ее годы он не только регулярно читал газеты, но и, рискуя вызвать недовольство взрослых, прислушивался к тихим и опасливым разговорам о политике. Его интересовало все, от процессов над «врагами народа» до гражданской войны в Испании. Но может быть, подобные увлечения всегда были больше присущи мальчишкам? Хотя, насколько он помнит, девчонок тех лет также занимало, что делается в мире. Значит, причина безразличия в другом?
Что бы ни случилось сейчас в мире, ему кажется, Машка даже бровью не шевельнет. «Да?» – скажет и будет продолжать заниматься своими делами.
А вот скажи ей кто-нибудь, что Элизабет Тейлор снова разводится и снова выходит замуж, у нее мгновенно заблестят глазки, зарозовеет личико, и, можно не сомневаться, как бы ни была занята, она найдет время поделиться с подругами этой новостью.
В то же время Машка – и Ипатов радостно отмечал это про себя – была жалостлива, добра, решительна. С тех пор как его перевели в общую палату, не было дня, чтобы она не навещала отца. Прибегала сразу после занятий, благо школа находилась всего в двух трамвайных остановках от больницы, и, как бы ни были строги дежурные внизу, непременно проникала к нему. Первые два-три дня Машка долго и жалобно упрашивала санитарку, чтобы ее пропустили. Но потом кто-то из посетителей научил ее простому и безотказному способу воздействия на зачерствелые сердца дежурных. Теперь Машка спокойно проходила через главную дверь, только рубль, который ей давали дома на школьные обеды, незаметно перекочевывал в карман чужого медицинского халата.
Конечно, узнав об этом, Ипатов отчитал Машку:
– Подумай, ты же, чтобы пройти сюда, даешь взятку. Самую настоящую взятку. Так ты, душа моя, далеко пойдешь…
Машка покосилась на Александра Семеновича и Алешу, которые из педагогических соображений помалкивали, и, наклонившись к отцовскому уху, шепнула насмешливо:
– Хватит, па, витать в облаках, пора спуститься на землю.
От неожиданности он даже не нашелся, что ответить…
И тут на своей кровати разворчался Станислав Иванович:
– Раз санитарки, то уже и за людей не считают. Одним все можно, а другим – сиди и не чирикай…
Ответил Алеша:
– Видел я их, бей – не утонут… Хоть и без высшего образования…
– Ну тебя, – отмахнулся Станислав Иванович. – За свою жизнь я всякий народ повидал. И таких, как ты, тоже. И вашим, и нашим!
– Это я и вашим, и нашим? – встрепенулся Алеша.
– А кто, я?
– А ты, дед, и ни вашим, и ни нашим, а все под себя – до последнего пролежня!
Вряд ли до Машки дошел основной смысл той пикировки. Но когда широкое одутловатое лицо Станислава Ивановича вдруг налилось нездоровой бурой кровью и он тихо и жалобно застонал, она первой вскочила и, не спрашивая никого, нажала на кнопку палатной сигнализации. Вскоре пришел запыхавшийся врач. Станиславу Ивановичу сделали какой-то укол, и он быстро уснул…
В отделении не хватало трех санитарок, и за два-три часа после занятий Машка проворачивала уйму разных дел: мыла полы, носила судна, кормила тех, кто не мог есть сам, мерила температуру, раздавала лекарства, которые сама брала со стола дежурной сестры. К ней привыкли и кое-кто даже называл «сестричкой». Часов в семь Ипатов начинал ее гнать домой делать уроки. Уходила она нехотя, тянула, как только могла, и, пока собиралась, успевала провернуть еще добрый десяток дел…
Ипатов весь просиял, когда однажды Александр Семенович заявил ему:
– А у вас, Константин Сергеевич, прекрасная дочь… Прелестное существо…
– Вы думаете? – смущенно отозвался Ипатов.
– Спросите у Алеши… Алеша, что ты можешь сказать о Маше?
– Подрастет – приду свататься, – ответил тот.
– Постой, ты же в некотором роде женат? – заметил Александр Семенович.
– А я разженюсь, – весело сказал Алеша. – Хватит, до одного инфаркта довела!
– Ну если так…
Не остался в стороне от разговора и Станислав Иванович. Глубокомысленно изрек:
– Первая жена от бога, вторая для людей, а третья – для себя…
– Вот мне и нужна такая – для себя, – подхватил Алеша.
Словом, с приходом Маши оживала вся палата. Стоило ей только показаться в дверях, как все четверо, включая Станислава Ивановича, расплывались в улыбках.
– Вот и я! – возвещала она, плюхая тяжелый портфель на стул у порога.
И сразу принималась за работу…
Не то на третьем, не то на четвертом курсе института сын Олег вдруг задумался о смысле жизни. «Ведь есть же какой-то смысл в том, что я появился на свет? Именно я, Олег Константинович Ипатов, 1955 года рождения, русский, не наделенный никакими особыми способностями и в то же время считающий себя в силу эгоцентрического характера человеческой натуры пупом земли? Ведь не только для того, чтобы есть, пить, производить себе подобных, вкалывать для заработка или высоких целей? Природе, в общем, на это начхать, так ведь, отец? Для нее что я, что какой-нибудь вирус или козявка – все имеют равное право на существование. И еще неизвестно, кто из нас, я или вирус, нужнее ей в общем круговороте? У тебя есть, отец, мысли на этот счет?» Пока Олег произносил свою длинную тираду, он ни разу не споткнулся, не замямлил. Что другое, а язык у него был подвешен хорошо, не в пример отцовскому. Тогда, помнится, Ипатов посоветовал ему почитать «Исповедь» Толстого.
«Не ты первый, не ты последний задумываешься об этом», – заключил он.
На другое утро Олег молча вошел в комнату отца и так же молча положил на стол томик Толстого.
«Ну что?» – спросил Ипатов-старший.
«Фигня на постном масле».
«Что?!» – Ипатов едва не задохнулся от возмущения.
«А что он сказал нового? Что смысл жизни состоит в том, чтобы жить, и ничего больше? Как будто у людей есть иной выход? Масло масляное…»
«Значит, ты ничего не понял. Толстой бы никогда не был Толстым, если бы не мучился всю жизнь вопросом: как жить? Понимаешь, как жить?»
«А ты думаешь, – иронически посмотрел на отца Олег, – какой-нибудь Пупкин, которого знают только жена и дети и несколько человек на работе, не задумывается над тем, как жить?»
«Прости меня, но Пупкину, в отличие от Толстого и Достоевского, все, буквально все ясно. Даже когда он в чем-то сомневается, его сомнения не выходят за рамки Пупкиного кругозора».
«Ты, отец, отказываешь простым людям в способности чувствовать и мыслить».
Ах ты, мой родной демагог!
«Нет, я не отказываю никому в способности чувствовать и мыслить, – спокойно возразил Ипатов. – Если бы я такое подумал, меня надо было бы упрятать в дурдом. Но ты же не можешь отрицать, что мысли Толстого и мысли Пупкина это нечто несопоставимое?»
«Почему? Если уж на то пошло, ты видишь перед собой одного из Пупкиных. И я задаюсь теми же мыслями, что и твой Толстой».
«Ах, тебя стал мучить вопрос, как жить? Похвально, похвально…»
«Отец, может, ты не будешь иронизировать? В противном случае я прекращаю дискуссию…»
«Хорошо, продолжай… Меня интересует, как ты собираешься жить… естественно, не столько в бытовом, сколько в философском смысле? Раз речь идет о смысле жизни…»
«Я считаю, что человек, в первую очередь, должен жить для себя. И своих близких, разумеется, – добавил сын. – По-моему, это нравственно, потому что отвечает природе человека».
«Но если твои интересы столкнутся с интересами других людей? Что тогда?»
Олег на мгновение задумался. Потом сказал:
«Смотря какие интересы».
«Значит, ты будешь решать за другого, какие его интересы надо принимать в расчет, а какие нет? Тебе не кажется, что ты слишком много берешь на себя?»
«Почему же? Я все-таки могу сообразить, без чего человек не может жить, а без чего обойдется. Ты можешь быть спокойным, по трупам я шагать не собираюсь…»
«Что ж, и это уже немало».
«Я предупреждал…»
«Ах да, прости… Итак, смысл жизни, по-твоему, состоит в том, чтобы жить самому и не мешать жить другим? Так?»
«Так», – пожал плечами Олег: как будто неясно…
«А как насчет того, чтобы помогать жить другим?»
«Если это не в ущерб мне и моим близким, почему бы не помочь? Видишь, я откровенен…»
«А если в ущерб?» – Ипатов остановил пытливый взгляд на юном, очень свежем лице сына с висячими, согласно моде, усами.
«Ты знаешь, я не очень подкован в литературе, но, по-моему, и Толстой ничего не делал в ущерб себе. Ни земли, ни лесов, ни лугов он не роздал крестьянам. Даже своим детям он показал вот такой кукиш!»
«Слушая тебя, – сердито заметил Ипатов-старший, – можно подумать, что он великий обманщик. Говорил одно, а делал другое».
«Получается так».
«А то, что он помогал десяткам тысяч людей, страдающим за свои убеждения, давал им деньги на обзаведение хозяйством, на переселение в другие страны, кормил, поил целые волости во время голода? И это мы знаем не из вторых уст. Твоя прабабушка, если ты не забыл, дружила с его дочерью, Марией Львовной, и они вместе организовывали столовые, где на средства Льва Николаевича подкармливали умирающих с голоду крестьян. И все это он делал в ущерб себе, своему состоянию, своему творчеству наконец, дорогой мой Олег Константинович».
«Когда это было!» – протянул Олег.
«Для вечности – ты, как философ по складу ума, должен это знать – сто, двести, тысяча лет не имеют значения».
«Для вечности – да, но для меня и год, и два, и полгода имеют значение…»
Поиски смысла жизни, как оказалось, предпринимались небескорыстно. Ровно через двадцать дней после этого разговора Олег женился на своей однокурснице, коротконогой толстушке, дочери генерального директора одного из крупнейших объединений города.
За несколько лет после окончания института Олег не без помощи всесильного тестя сделал неплохую карьеру – без особых усилий защитил кандидатскую и в тридцать лет возглавил один из ведущих секторов конструкторского бюро, входящего в состав объединения. Было бы большим преувеличением утверждать, что он горел на службе, но тем не менее уходил на работу рано, приходил домой поздно, часто бывал в командировках, охотно участвовал в различного рода симпозиумах, конференциях, конгрессах, съездах. Был человеком очень занятым, и потому каждое посещение отца в больнице, хотя у него хватало такта об этом не говорить, нарушало какие-то его планы. Уже через десять-пятнадцать минут он начинал украдкой поглядывать на часы, а еще через четверть часа, прикоснувшись к щеке отца холодными, ленивыми губами, говорил что-то бодренькое, приличествующее данному моменту, и в считанные мгновения исчезал за стеклянной дверью. Иногда он приходил не один, а с женой Ларисой. Она большей частью молчала, явно томилась. Когда Ипатов пытался вовлечь ее в общий разговор, она говорила что-нибудь невпопад и еще больше замыкалась в себе. Шуток Лариса вообще не понимала. Все, что произносилось и писалось, воспринималось ею в самом прямом и буквальном смысле. Ипатов время от времени замечал унылый, черепаший взгляд, который бросал на нее Олег. Что ж, ему можно было посочувствовать. Но он сам выбрал свою судьбу и, похоже, готов был и дальше идти по раз навсегда избранному пути…
Его дети. Ближе их у него никого нет. Была когда-то мама. Был отец…
И еще госпожа продюсер, которая ему давно безразлична. Его даже не мутит от догадки, что у нее опять кто-то есть. Сейчас она в Казахстане, где снимается фильм о всепобеждающей восточной любви. Отсутствие телефонной связи между киногруппой, затерявшейся в степях, и Ленинградом оставляет ее в счастливом неведении о его болезни. Олега же он легко уговорил не телеграфировать. Зачем?
Кто-то разорвал ночную тишину на отделении диким, душераздирающим криком. Все в страхе проснулись. «Кто, где, что?» Оказалось, одному из больных явилась во сне смерть. Смерть не вообще, тихая и безликая, упрятанная в каждом до поры до времени, а какое-то страшное, бесполое существо, похожее, по словам кричавшего, на оживший труп. Она медленно приближала к кричавшему свою жуткую, тронутую гниением морду, и он, прогоняя кошмар, заорал не своим голосом. Потом долго, очень долго не могли успокоиться больные сердца…
Нечто подобное – он это хорошо помнит – привиделось ему в первый день жесточайшей простуды, которую он схватил во время той памятной прогулки по ночному городу. Провожая Светлану домой, он всю дорогу от Невского до Подьяческой шел с распахнутым пальто и разгоряченной грудью встречал порывистый морской ветер. Потом они еще два часа сидели на ступеньках, на полах его бобрика, и целовались до тех пор, пока у обоих не распухли губы. В подъезде стоял почти такой же, как на улице, холод. И хотя мерзли они одинаково, она даже больше (в сравнении с его шерстяными военного покроя брюками ее тонкие чулки вообще не грели), простудился все-таки он, а не она. Правда, на ней была шубка из очень теплого меха. Но он упрямо расстегивал ее, а Светлана так же упрямо запахивалась.
Расстались они часа в три. Причина была настолько прозаическая, что ни он, ни она не посмели признаться в ней друг другу. Возвращаясь домой по беспокойно спящему ночному городу, Ипатов еще не знал и не чувствовал, что в нем уже вовсю раскручивалась тяжелая простуда. Даже легкий озноб, который он ощутил, залезая под старое ветхое одеяло, он полностью отнес за счет чрезвычайных треволнений дня. Уснул он с радостными и сладкими мыслями о Светлане.








